Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
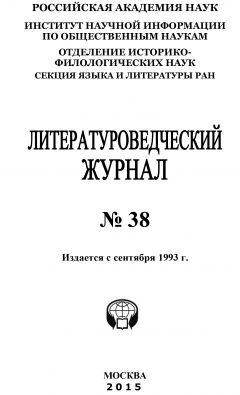
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
И здесь, как решительно всюду, еще от времен Свидригайлова, упоминание о заходящем солнце; у Достоевского было какое-то мистическое чувство солнца, в своем роде «живой путь» общения с ним. Закат, конечно, единственный момент, когда без боли и долго мы можем смотреть на тело светила. Египтяне, как потом и пифагорейцы, как-то особенно чувствовали солнце, и едва ли с одной геометрической стороны, из любопытства к его движениям.
«Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух и я молча молился на них».
«О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было – Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О, да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненом сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, т.е. те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить в слабые слова наши, так что они должны были как-то стушеваться в уме моем, а стало быть и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и уж, конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все-таки это не могло не быть. Знаете ли: я скажу вам секрет – все это, быть может, было вовсе не сон!».
И, бесспорно, у Достоевского была вера в действительность этого: он так часто начинал рисовать эту картину, давал ее эмбрионы, и однажды даже нарисовал ее вполне («Подросток», разговор Версилова с сыном), хоть и с другим смыслом, как окончание судеб человека на земле, что никак не мог смотреть на свое чувство иначе как под углом «тайного касания мiрам иным». Далее в «Сне» начинается то, что мы назвали кощунственным:
«…Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого очарования правды! О, судите сами; я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я… развратил их всех!
Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершить – не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия, и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это может быть началось невинно (курс. Д-го), с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи поник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость… О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться».
Это – грехопадение, грехопадение в той форме, как сохранился до нас наиболее отчетливый рассказ о нем, с маленькими вариантами, и с варьированным образом «приживальщика», который на этот раз есть «двойник» самоубийцы. Мы должны вспомнить, как давни, как застарелы были в Достоевском и видение невинного состояния людей (сон о «золотом веке» Версилова), и фигура «приживальщика». Дальше начинается в рассказе падение воображения, именно введение «контраверз», над которыми творец его размышлял еще со времени, как писал «Преступление и наказание»:
«Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи…»
Последнее – глубокое наблюдение: правда, пока человек добр, он почти не понимает добра и вообще даже не ценит его, не придает ему значения, не рефлектируя его роли. Начало зла в человечестве (in re) – начало учения о добре (in verbo).
«Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы охранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить себе его в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же “желанию”, в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? – то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: “Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, Который будет судить нас и имени Которого мы не знаем. Но у нас есть наука и через нее мы отыщем вновь Истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни”».
В последней строчке – основная идея, в противовес которой, оспаривая которую возник «Сон смешного человека». Это, еще со времен противопоставления Раскольникову – Свидригайлова, теоретизм в человеке, оспариваемый «живыми путями» познания и общения.
«Наука дает нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья».
Опять – та же формула, и, может быть, в более удачном виде.
«Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других; и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, и явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока для ускорения дела “премудрые” старались поскорее истребить всех “непремудрых” и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось – к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве».
Несколько эта часть сна напоминает тот сон, который уже в Сибири видел Раскольников: абстрактную оглядку на весь путь собственной теоретической работы, на «Вавилонскую башню», построяемую человечеством.
«Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих».
Здесь, при величайшей непоследовательности времени, опять отодвигающегося от нашей минуты на две тысячи лет назад, снова выступает кощунственное слияние с собою судьбы человечества; и даже, что еще более увеличивает кощунство, слияние в одно лицо и вины грехопадения, и заслуги искупления.
«Я ходил между ними ломая руки и плакал над ними, но любил их, может быть еще больше чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, то на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтобы они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось и я почувствовал, что умру, и тут… ну, вот тут я и проснулся» (т. XII, с. 123–132).
Так оканчивается фантасмагория. И мы снова задумываемся над этими плывущими в небесах, залитыми солнцем облаками, в панораму которых раздвинулась «баня» и «пауки» Свидригайлова. Два неба, но как не схожи: небо посягновения, уныния, скорби; небо порыва к «пятилетней»:
«– И неужели, неужели ничего справедливее и утешительнее не представляется вам?
– Справедливее? Но может быть это-то и есть справедливое, и, знаете, я непременно бы так и сделал» («Преступл. и наказ.», с. 265).
И небо уже позади лежащего «познания», уже «познанной» каким-то новым «живым путем» «Истины», которая разлилась этим белым благоуханием невинности, безгрешности. «Мирра» пролилась, она влилась в кровь и пылает в мозгу непереносимым блеском, для которого всякие слова суть умаление. Идея растления, идея святости – оне слиты в рассказе; об обеих сказано, что источник их – «мое» сердце; что это – моя унылая «мечта» их обе породила; и «ужасная правда», «до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне» (с. 130) – отнесено не к былым небесам, которые мы, однако, бесспорно видим в рассказе, но именно к кризису растления, и, в последнем анализе, к «обиженной восьмилетней девочке», которая тут же, в это время, на земле бегает, и совершенно похожа на тех, которых «обижал» «Ставрогин» «одновременно» с тем как «насаждал в Шатова веру в Бога…».
Вот тайны… Вот сцепление, которое, дав нам подметить в себе, не заметил у себя художник иначе как эмпирический факт «Мадонны» и «Содома», совмещающейся в человеке по географической его «широкости». Но здесь именно и совершенно очевидно сближение, а не близость; лобзание, а не соседство. Это именно «мирра» расплывается в «облака», а не то, что около «облаков» есть «мирра». И то, что еврейский народ открывает Пасху стихом Соломона:
Да лобзает он меня лобзанием уст своих; ибо ласки твои лучше вина…
………………………………………………………………………….
Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – моего собственного виноградника я не устерегла (Песнь песн., 1 и 4)
– есть издревле идущая, и опять не близость, а сближение, «сотрепетание» крыльев.
Самоубийца проснулся; первое, на что упал его взгляд, был заряженный револьвер, который он оттолкнул от себя:
«О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной Истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и – проповедь!.. Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!
И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того – люблю всех, которые надо мною смеются, больше всех остальных. Почему это так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, т.е. уж коль и теперь сбился, так что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу как проповедовать, т.е. какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто ж не сбивается? А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел Истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой моей верой-то и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ (кур. Д-го) ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтобы ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими словами, но не надолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть, вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, – вот уже первая ошибка!».
Здесь – глубочайшее объяснение полупризнаний, сделанных около идеи о «народе-богоносце»; и признаний о «непойманном зайце»: стоя перед загадками бытия, Достоевский не захотел ничего из них утаить, веря в конечное торжество над ними человека («дойду и я мой квадральон и узнаю секрет», «Бр. Кар.», II, 355. Слова «приживальщика» о себе).
«Но Истина шепнула мне, что я лгу (кур. Д-го), и охранила меня, и направила. Но как устроен рай – я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: “сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию!..”. Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уж это-то я понимаю!) – ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто: в один бы день, в один бы час251251
Сюда примыкает «Золотой век в кармане», упомянутый выше. Мысль его: почувствовать себя просто, без фантазий, умышленности над собою, без приделок к существу своему.
[Закрыть] (кур. Д-го) – все бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что главное, и это все, больше равно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем, ведь это – только старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! “Сознание жизни – выше жизни, знание законов счастья – выше счастья!” – вот с чем бороться надо! И буду! Если только все захотят, то сейчас все устроится».
«А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!»
ХХХ«Не правда ли: живуч как кошка!..»
Завет Предвечного храня
Мне тварь послушна там земная
И звезды слушают меня
Лучами весело играя.
Снова, как в Гоголе, мы и в этом человеке наблюдаем живое чувство Бога; неудержимую проповедь; мы наблюдаем действие какой-то таинственной апологии, прочитанной человеком, и очевидно прочитанной у себя в недрах, после которой всякая словесная апология ему становится не нужна:
«В нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда был в его душе. В его письмах под конец вдруг раздались звуки этой струны; она стала звучать в нем так сильно, что он не мог оставлять эти звуки для себя одного, как это делал прежде. Очень ясно это обнаружилось для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из-за границы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того: он переменился в обращении, получившем бόльшую мягкость и впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка. Помню маленькую сцену в Славянском комитете. Мы входили вместе и с нами поздоровался И.И. Петров. “Кто это?” – спросил меня Федор Михайлович, или не знавший его, или забывший, как он беспрестанно забывал людей, с которыми даже часто встречался. Я сказал ему и прибавил: “Какой чудесный, чудесный человек!”. Глаза Федора Михайловича ласково заблестели, он с большою любовью поглядывал на других присутствовавших и потихоньку сказал мне: “Да все люди – существа прекрасные!”. Искренность и теплота так и светились в нем при этих словах» («Биография и письма», I, 295. Слова Н.Н. Страхова).
Оценка вещей, «важное» и «неважное» переместилось в нем и стало в положение, обратное тому, как оно находится в душе почти всех остальных людей:
«Знакомых в Женеве не было никого, кроме Огарева, который иногда заходил – даже выручал Достоевского в случае крайней нужды, давая взаймы пять или десять франков. Рождение дочери, 22 февраля 1868 года, было большим счастьем для обоих супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее движению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была страшным и неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней с сердечной болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле» (ib., 296).
Вот чтó, в былом и чистом сиянии, вышло из черной скорлупы «свидригайловщины-карамазовщины». «Сила земляная, сила неудержимая» («Бр. Кар.», I, 248), «мы все – Федоры Павловичи» («Записная книжка») и порыв Федора Павловича: «До 70, даже до 80, может быть до 90 лет» – все это, опав, обнаружило в себе святое: «И пойду! И пойду!» – зерно не только пророчества как порыва, как слова, но и праведности как жизненного факта, с этим замирающим словом на запекшихся устах: «А Евангелие передайте Феде». Все точки зрения у этого человека – новые; не противоположные тем, на которых стоял Гоголь, но решительно противоположные тем, на каких стоит вся остальная русская литература:
«Получив ноябрьскую книжку “Отечественных Записок”, я заглянул было в “Подросток” Достоевского: Боже, чтó это за хаос! Чтó за кислятина, больничная вонь и никому не нужное бормотанье и психологическое ковырянье» (Сев. Вестн., 1897 г., май, с. 192).
Этот отзыв классически ясного Тургенева повторили бы 9/10 читающего общества, и не о «Подростке» только, но о всех XII томах его произведений. Что-то неудержимо отталкивающее, именно отвратительное, есть во всех их; как, собственно, есть это отвратительное и отталкивающее и во всем Гоголе… для 9/10 человечества. Но вот 1/10 именно сосущих, а не скользящих по поверхности мiра душ жадно припадает к сосцам мучительной и похотливой волчицы… Сквозь клубы «больничной вони» святые строки, бесспорно святые, пронизывают эти же XII томов; строки, аналогичные которым вы встретите у Гоголя и ничего, ничего подобного не отыщете во всей остальной литературе, не отыщете особенно у Тургенева, которого, переплетя в шагреневый переплет и поставив на лучшее место книжных полок, – «9/10 читающего человечества» затем забывают. Достоевский нужен нам; он коснулся таких фибр души нашей, которых коснуться мы даем жене, матери, отцу, – и, вообще, не даем коснуться их другу. Скажем больше: он проник туда, куда мы даем проникнуть… Он проник в части души, которые изливаются у нас в молитве, в ночной уединенной скорби, на ложе смерти. Его XII томов не скользят по нас, как собственно скользит вся литература, но пронизывают нас как какими-то острыми иглами: и их уколы суть уколы высшего ведения, уколы высшей любви. Он любит нас – в смраде, именно в «вони» и, наконец, он любит землю, на которой мы обитаем, высшею любовью; он постиг нас и опять постиг эту землю высшим прозрением. У него – и опять это родственная черта с Гоголем – есть в словах какая-то владычествующая нота: он не высказывает свое минутное, как одно из литературных, которое ляжет с ними в ряд, но как особенное, и которому нужно внимать и покоряться. Он ясно ненавидит не соглашающихся с ним, имеющих иные точки зрения, и знает какое-то за собою право ненавидеть, негодовать, оскорблять («Бесы», фигура «Кармазинова»-Тургенева). В «Переписке с друзьями» Гоголь, Достоевский в ряде дико-странных, для романа, глав: «Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы» – явно учат, хотят учить, требуют внимания. У них есть именно власть «вязать и решить», присутствие которой у себя они знают в своем роде через какое-то достигнутое «касание мiрам иным»; через таинства бытия, им одним вскрывшиеся…
Девять десятых человечества как некогда восстали против Гоголя252252
Сперва против так назыв. «лирических отступлений» в «Мертвых душах» и особенно когда эти лирические места, зовущие, захватывающие, учащие – раздвинулись в широкий и властительный тон «Переписки с друзьями»: последняя, несмотря на относительную слабость литературной формы, есть, конечно, «энтелехия» всех созданий Гоголя, т.е. их «образующая и движущая душа», не выявленная до конца, но в конце опавшая как в своем роде капля «мирры», скапливавшаяся долго, но скапливавшаяся во всех его предыдущих произведениях.
[Закрыть], еще мучительнее восстали против Достоевского253253
Особенно против Достоевского в «Пушкинской речи» – с его властительным: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек». В высшей степени замечательно и исторически важно, что против Достоевского общество восстало уже обессиленное, с меньшими почему-то силами: эти силы уже иссякли в борьбе с Гоголем, «Переписка» которого, все время, все десятилетия ненавидимая, все время однако перерабатывало общество.
[Закрыть]:
Посыпал пеплом я главу
Из городов бежал я нищий
И вот в пустыне я живу
Как птицы – даром Божьей пищи…
Судьба обоих – судьба одиноких, отвергаемых, ненавидимых скитальцев – в сущности сходна и почти одинакова. Талант их собственно литературный – противоположен. Той изумительной скульптурности, скульптурности не только фигур, но, кажется, самого слова, самого сгиба речи, какую мы наблюдаем у Гоголя, – нет у Достоевского, все образы которого суть клоки человекообразного тумана, но с каким-то светящимся средоточием внутри их, как бы с загорающеюся, но притом действительною, душою. Девчонка, та девчонка, которая, сидя на облучке Чичиковской брички, ничего не говорит всю дорогу, между Собакевичем и Плюшкиным, – резче вырисовывается перед нами, нежели длиннокудрый Ленский, в «Евг. Онегине», или который-нибудь из Карамазовых. – «Никакой нет Заманиловки, а вот Маниловка – точно есть»: какое значение в этом? какой даже смысл? против речей Базарова, Ивана Карамазова, князя Андрея Болконского или Пьера Безухого? Но вот все это ценное мы полупомним, все это – колеблющийся туман; тогда как скульптурная бессмыслица «Маниловки-Заманиловки» так и осталась в душе нашей недвижимою, неизменившеюся, как 20 лет назад вошла впервые в нее. Этой тайны скульптурного вырезывания, этой «Елизавет Воробей», которая в такой транскрипции выдается Собакевичем за мужскую ревизскую душу, – ее не знал никто еще, кроме Гоголя, и не знал ее Достоевский. Но и этих мыслей: «из-под земли, из могилы нашей мы запоем гимн Богу, у которого радость», или: «две бездны – бездна вверху и бездна внизу», «ведь я знаю, что в конце концов и я помирюсь, пройду и я мой квадральон и узнаю секрет» (слова приживальщика), этих мыслей, которые, закатившись в вашу душу, не остаются лежать в ней красивою жемчужиной, но расстрогивают ее, разрыхливают как почву и вдруг начинают проростать, дальше, больше, преобразуя тук ваших идей и чувств в закон своих форм и движений, – мы обратно не встретим у Гоголя и вообще не встретим ни у кого еще кроме Достоевского. Если мы оценим обоих на весах истории, мы увидим, что питающее молоко первого есть существенным образом убивающее, и второго – оживотворяющее: чего ни коснулся резец Гоголя – все умерло, получив под ним идеал отрицания, «идею»254254
В платоновском смысле.
[Закрыть] отвержения. Россия им изображенная если еще держится, кой-где, то – как факт, привычкою, инерцией; и умерла в нашей любви, для всякой человеческой привязанности, т.е. как живая идея по мере того как он ее вырезывал и насколько успел вырезать. Вот мощь его, вот узкий и невообразимо длинный сосец его, просунувшийся в будущее: он напоил народы отвращением ко всему, чего коснулся. Молоко Достоевского, напротив, живительно: не дав, собственно, ничего целого, и ничего художественно-прекрасного в отдельности, он распял в мириадах сосущих душ какие-то живые огоньки; никакого пламени, никакого еще пожара; но несколько святых мыслей, святые черточки кой-каких образов, и, наконец, белые его видения – они запали в душу и для всякого вообще могут тогда или в иное время, в этом или в другом жизненном положении послужить зерном факта, ядром деятельности и вообще пустить от себя жизнь:
Травку выманила в поле…
Этою «клубящеюся жизнью», этим «тайным брожением», о котором он упомянул в гимне Церере, – он необъятно богат и собственно богаче не только порознь всех остальных наших писателей, но и их в совокупности. Его «XII томов» – это начало необозримой литературы; загадки, которых он коснулся – достаточны, чтобы стать предметом разгадывания самой могущественной философии; идеалы, которые он поставил, напр. в «Сне смешного человека», достойны стать целью самой гордой цивилизации; и, наконец, его анализ, его «Записки из подполья», его «Легенда об Инквизиторе» представляют такие бездны исторической и политической мысли, только край которых, краевая мокрота затопляет глубиною и обилием своим все, что в сфере этих наук писалось у нас…
Мы упомянули о святых строках в этих XII томах; святых мыслях, святых чувствах, положениях, фигурах, которые прорезывают эту в общем однако «больничную вонь». Если мы сравним эти лучистые и жгучие места с аналогичными у Гоголя, напр. в «Переписке с друзьями», мы увидим, что у последнего есть благочестиво-нужное, утилитарно-придуманное, и недостает этого особенного тембра, этой новой в нашей литературе мелодии: взрыва, за которым хочется совершить подвиг. Так, образ Сони Мармеладовой нудит вас пойти и обвенчаться с какою-нибудь павшей; Коля Красоткин («Бр. Кар.») – вызывает ласковый взгляд на толпу играющих или толпу «фрондирующих» мальчиков; Митя Карамазов – внушает прощение даже и к «такому». Повсюду он обволакивает ваше сердце скорбью и родит в нем мучительное поползновение пойти и сделать благое. Гоголь совершенно не умеет этого: то, чтó он в вас рождает, – это брезгливое желание сбросить какую-то ползущую по плечу «гадость», которая иногда бывает «человек». Но, сверх этого, есть еще одна черта в том «созерцательном мистицизме», который есть у него.
Это – космическое чувство; в противоположность Гоголю, который весь свернулся в какой-то узкий и удушливый мiр – все проселочные дороги и одной губернии, – Достоевский развернулся в широту космической панорамы; и, собственно, фигуры у него так неясны, туманны, несовершенны потому, что настоящий предмет созерцания художника – не они, но это
И гад морских подземный ход
И дольней лозы прозябанье.
Мы видели «Сон смешного человека»; все знают «Легенду об Инквизиторе»: это – даже не история, это так широко, что история занимает только угол картины. Это именно картина, рисующаяся перед «созерцателем», для которого «остановилось время»; и, если мы примем в то же время во внимание мелодию, тут же неслышно льющуюся, мы догадаемся, что это человек стоит на молитве и молитва его льется к Богу, лица которого он не видит, имени не знает, присутствие чувствует, об этом предмете его созерцания, т.е. целой вселенной, обливаемой слезами. Космическая молитва, космическая по предмету ее и по строю души, из которой она льется – вот конечная формула мысли этих «XII томов». Странная мысль – мы возвращаемся к исходному своему слову – у похотливой и жестоковыйной волчицы, которая поит нас и на нас не смотрит, «касаясь мiрам иным»…
«– Брат, как странно ты говоришь; точно ты в каком безумии.
– У меня голова болит, Алеша, и мне грустно».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































