Текст книги "Литературоведческий журнал №38 / 2015"
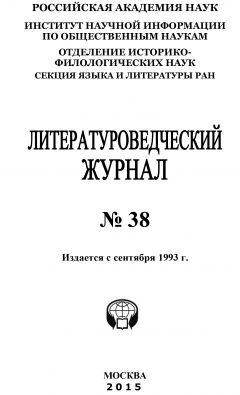
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Удивительно это проникновенное слияние начинающейся матери со своей матерью: внимание материнства завязывающегося, плода понесенного – к чреву, выносившему плод.
«– А ты-то сидишь и думаешь в это время, что мы сидим и тебя трепещем.
– Лиза, что ты думаешь про Версилова233233
Оба «подростка» трепетно любят своего незаконного отца Версилова; мать их – его бывшая крепостная, которую вскоре после замужества с дворовым Долгоруковым, он полюбил и прижил с нею этих птенцов.
[Закрыть]?
– Я очень много о нем думаю; но знаешь, мы теперь о нем не будем говорить. Об нем сегодня не надо; ведь так?».
Это – нечистое воспоминание их жизни; нечистое, потому что здесь любовь пересекла любовь же, отняла, воспользовалась сильнейшим юридическим своим положением. Это мрак, та «темнота», которой боится Лиза. То есть день этот, диалог этот есть именно утро, чистота и свежесть утренней росы, которой не должна коснуться никакая пыль с большой дороги, из-под человеческого колеса.
«– Совершенно так! Нет, ты ужасно умна, Лиза! Ты непременно умнее меня. Вот подожди, Лиза, кончу это все и тогда, может, я кое-что и скажу тебе…
– Чего ты нахмурился?
– Нет, я не нахмурился, Лиза, а я так… Видишь, Лиза, лучше прямо: у меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотного в душе пальцами дотрогиваются… или, лучше сказать, если часто иные чувства выступают наружу, чтоб все любовались, так ведь это стыдно, не правда ли? Так что я иногда лучше люблю хмуриться и молчать: ты умна, ты должна понять.
– Да мало того, я и сама такая же; я тебя во всем поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая же?».
И все – «мама»…
«– Ах, Лиза! Как бы только подольше прожить на свете! А? Что ты сказала?
– Нет, я ничего не сказала.
– Ты смотришь?
– Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя» («Подр.», с. 187–190).
Глубочайший мистицизм всей этой сцены состоит в том, что он гораздо позднее узнает определенно и точно о состоянии сестры. Но семя, которое сейчас она несет в себе, преобразуясь в молитву ее движений, слов, улыбки, сияния глаз, – одновременно законодательно действует и на него, создавая этот диалог, эту молитву общения брата с сестрою, дочери с матерью, и их обоих порыв к солнцу, к жизни, вражду к тьме и смерти. «Имамы…» поступков и слов так ясно бьет из Тайны, оживотворившей за полчаса ее. – Сейчас мы прочтем диалог глубочайшей чувственности, тайн именно Сидона и Тира в той неисследимой грани их, где они перешли в священные тексты, нами читаемые. Он, да и все в доме, узнали о секрете сестры. Весь диалог, в чувственной стороне, аналогичен диалогу Раскольникова с Соней, когда он ее мучительно спрашивает, не пробовала ли она копить и всякий ли день бывает получка: она отвечала, все более стыдясь, все более понижающимся шепотом. Чувственность же заключается в склонении внимания брата и матери к genital’иям сестры и дочери, прислушивание к ним без внимания к остальным сторонам ее существа; трепет к ним любви, их уберегания:
«– …Знает Версилов234234
«Подросток» (аналогичный Коле Красоткину и другим мальчикам в «Братьях Карамазовых») безмерно любит своего незаконного отца, хоть и говорит ему вечно дерзости, «мстя за оскорбление мамы и свое социальное положение», и, в сущности, только на него и смотрит, им и интересуется. Весь роман носит дивно чистый, невинный какой-то, колорит.
[Закрыть]?..
– Мама ему ничего не говорила: он не спрашивает, верно не хочет спрашивать…
– Знает, да не хочет знать, это – так, это на него похоже!.. Неужели ты не подумала, Лиза, что это – маме укор? Я всю ночь об этом промучился; первая мысль мамы теперь “это потому, что я тоже была виновата; а какова мать – такова и дочь!”
– О, как это злобно и жестоко ты сказал! – вскричала Лиза с прорвавшимися из глаз слезами, встала и быстро пошла к двери».
Вот та все-таки необходимая сторона упрека, которая не находя себе берега, не вводимая в русло, – разливается в человеческом море желчью разъединения, уныния, смертных унылых отношений. Ощущение глубочайшего несчастия себя, откуда сверкает лезвие ножа.
«– Стой, стой! – обхватил я ее, посадил опять и сел подле нее, не отнимая руки.
– Я так и думала, что все так и будет, когда шла сюда, и тебе непременно понадобится, чтобы я непременно сама повинилась. Изволь, винюсь. Я только из гордости сейчас молчала, не говорила, а вас и маму мне гораздо больше, чем себя самое, жаль… Она не договорила и вдруг горячо заплакала.
– Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я – тебе не судья. Лиза, чтό мама? Скажи, давно она знает?».
Затем и начинается глубочайшая часть диалога; спуск от поверхности внешнего страха, «страха иудейска» перед мiром мятущимся внутрь истинного и сокровенного, к правде и святому:
«– Я думаю, что давно; но я сама сказала ей недавно, когда это (кур. Д.) случилось, тихо проговорила она, опустив глаза.
– Что же она?
– Она сказала: “Носи!” – еще тише проговорила Лиза.
– Ах, Лиза, да, “носи”! Не сделай чего над собой, упаси тебя, Боже!
– Не сделаю, твердо ответила она и вновь подняла на меня глаза».
И все заканчивается улыбкой к солнцу: он спрашивает, как она такого могла полюбить (князь до того ослаб, что колеблется и не знает, любит ли она его за титул, или за деньги, которые он навязывает «подростку» для игры в карты и тот берет, ничего не подозревая):
«– Я, Лиза, думаю, что ты – крепкий характер. Да, я верю, что не ты за ним ходишь, а он за тобой ходит, только все-таки…
– Только все-таки “за что ты полюбила – вот вопрос!” подхватила, вдруг усмехнувшись шаловливо, как прежде, Лиза, – и ужасно похоже на меня произнесла: “вот вопрос!”. И при этом, совершенно как я делаю при этой фразе, подняла указательный палец перед глазами» (ib., 284–286).
XVIIЯ только что прочел, думая найти что-нибудь для темы «Bel ami235235
Милый друг (фр.).
[Закрыть]» – Мопассана, – роман, который пробудил столько внимания к себе гр. Л. Толстого. Удивителен инстинкт (основанный на мимолетных критических заметках), всегда удерживавший меня даже от начинания читать его или Зола; но я увидел, как в течение долгих лет этот инстинкт не обманывал меня. Я не только не мог прочесть всего романа, но даже и ни одной главы в нем сплошь. Скука, та необъяснимая и всесильная скука, которая овладевает не только умом вашим, но и кажется всеми членами от прикосновения «посредственности хладной», едва допустила выискать места maxim’альной чувственности, которые собственно мне были нужны. Совершенное отсутствие coit’ального тяготения в главном герое романа производит неудержимое отвращение, как созерцание северной тундры, промерзлой и усиливающейся, но не могущей оттаять, и только грязной в краткое полу-лето. Как беден Дю-Руа перед Федором Павловичем; как даже гадок, т.е. безжизнен, он перед ним. «Завтрашний депутат и министр» (см. конец романа), сегодня и вчера мошенничающий, испытывает равно и ко всем женщинам отвращение. Ни одного огонька, по жилам пробежавшего; ни на секунду – блеска глаз; играющей на губах улыбки. Даже невинность, стоящая перед ним (невеста, конец романа), не возбуждает ничего в нем, кроме счета денег в ее кармане. Если, однако, не соблазняясь никогда, он всех вокруг соблазняет, – это зависит от крайнего увядания целого французского общества, в романе изображенного, где женщины, и только оне одне, сохраняют еще coit’альное тяготение, и не находя ему ответа, кидаются на всякую возможность ответа. Что-то похожее на страсть и любовь, однако очевидно не доступную изобразительным способностям автора и вероятно вовсе ему не понятную, есть у девушек (невеста, конец романа) и женщин (мать этой невесты) романа, вообще гораздо более привлекательных и почти сносных. В этом отношении роман может быть даже интересен, т.е. если бы его читать и вдумываться: где мы различаем пол, где в нем начинается похоть – удивительно, но совершенно бесспорно пробуждается наше сочувствие: «Ты – человек!», т.е. «Ты – брат мне!». Мы можем осуждать, мы можем гневаться; мы можем разбить «лик человеческий» в его обезображении; но уже все-таки с сознанием, что разбиваемое именно «лик человеческий», и отношения гнева и осуждения во всяком случае суть человеческие, братские отношения. Дю-Руа («bel ami») обладает, или точней, страдает, какою-то мочеточивостью; и весь роман развертывается в длинную вереницу столбиков, около которых пробегая эта собачка поминутно и зачем-то вечно останавливается; иногда кажется для воображения, потому что ясно иногда она не может ничего сделать. Но нет крепости сил в ней; какая-то внутренняя заслонка отсутствует, или, точнее, откуда-то выпала необходимая заслонка, и вечное «кап-кап», производя неприятную мокроту, заставляет ее торопливо подбегать к ближайшему столбику, часто почти без результата. «Деточки мои, поросяточки…» уже это приуготовление Федора Павловича к «рассказу» содержит – менее чем в строке – бездны чувственности сравнительно со всем длинным повествованием Мопассана; «и как это только вьель-фильки остаются»: вот полнота coit’ального тяготения. «До 70, даже до 80 лет»… но Дю-Руа и в 32 года умеет только писать передовые статьи в газеты. Именно в отношении к нему нельзя повторить глубокого слова Ивана Карамазова о «центростремительной силе» в нашей планете, и о том, что ее «страшно еще много» на земле. В нем осталась только центробежная: он вечно и от всего удаляется, как от прекрасной и юной своей невесты, когда выходя с нею из-под венца уже пожимает двусмысленно руку какой-то старой и сохраняющей пикантность знакомой: т.е. получувствуя что-то к ней, ничего не чувствует к непорочной девушке, которая сейчас стала его. «Пусть дом Иоава никогда не останется без семеточивого» – это энергическое проклятие Давида жестокому своему полководцу за убийство Авенира можно отнести как эпиграф к роману Мопассана, который можно прочесть и прочтя хочется забыть.
Митя Карамазов, после того как проговорил гимн Церере, так мало идущий к его фигуре, вылился следующим рассуждением, по-видимому комментирующим две его последние строчки:
Насекомым – сладострастье…
Ангел – Богу предстоит.
«Но довольно стихов! Я пролил слезы и ты дай мне поплакать. Пусть эту будет глупость, над которою все будут смеяться, но ты – нет (он говорит с братом Алешей). Вот и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе могу сказать теперь о “насекомых”, вот о тех, которых Бог одарил сладострастием:
Насекомым – сладострастье…
Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангел, это насекомое живет…».
Что он не ошибся, Алеша в том же диалоге подтверждает это восклицанием: «Я не от твоих речей покраснел и не за твои дела, а за то, что я то же самое, что и ты» («Бр. Кар.», I, 125).
«…Живет, – продолжает Митя, – и в крови твоей бури родит. Это – бури, потому что сладострастье – буря, больше бури! Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одне загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Странно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чорт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей – знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей» (ib., I, 123–124).
Этот монолог может считаться философскою «конклюзией» длинных, очень длинных лет размышления, наблюдения, анализа, самоуглубления; итогом, абстрактно выраженным, ряда образов, начиная с отрицательно-насмешливого изображения кн. Вальковского, вдумчивого образа Свидригайлова, полупризнаний собственных в образе Ставрогина, и, наконец, широко-преступной картины всех Карамазовых, «семени» Карамазовского. «Начинает» человек – «кончает», т.е. «заканчивает» прежний идеал, «заканчивается» сам в идеале этом: все это показывает не географическую близость «берегов», но динамическую; не «близость», но сближение; что «берега», чем долее, тем начинают, таинственно, сходиться и они в сущности сростаются, или, что то же, на какой-то неисследимой глубине они лежат единством существа. Мы слышали речь Тришатова; Достоевский вложил в уста Кирилова и «хромоножки», т.е. он их устами из себя высказал речи совершенно особенного и исключительного экстаза, тона и порыва, до какого смертные не возвышаются. Но вот факт истории: Рафаэль не умел ничего еще рисовать, кроме ликов Мадонны, и небесное в Мадонне никем не было схвачено, как им. Он умер что-то около тридцати лет, вдруг переросши могучего старика Микель-Анджело: небесный житель на земле, с небесными чертами в своем лике; умер он без болезни, без ясного страдания, пролившись как драгоценный сосуд благовонной «мирры» около «фарнарины»: мы не пишем «Фарнарина», ибо это имя, многими принимаемое за собственное, есть нарицательное название «булочницы» и никто не знает даже как звали ту несколько грубоватую, по крайней мере по уму и воспитанию, девушку, которую он так безмерно и таинственно, но очевидно чувственно, любил:
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю…
Таинство природы человеческой, как мы уже показали на детальнейшем разборе множества фигур, диалогов, монологов, заключается в том, что в ней не «умещаются» только, по ее «широте» и «разноместности» эти два идеала, но когда выник один, мы наблюдаем с любопытством, – что выник уже и другой около него, и неисследимым остается для нас первенство которого-нибудь по времени: они ласкают друг друга, они растут как бы лобызаясь, и, собственно, не в себе борются, не in natura rerum236236
в природе вещей (лат.).
[Закрыть], но наша рефлексия пытается и обыкновенно не может их разделить, лишь вербально противопоставляя… Незаметно говор и шум улицы переходит во вдумчивые диалоги, исполненные таинственных признаний, глубины, проникновения; пестрота красок речи исчезает: нет шутки, прибауток, анекдота в ней; она становится монотонною, однотонною: но это краски переходят в музыку или, точнее, сбегая эти краски отдают место музыке. Речь получает устремленность. Богатство мiра, пестрота природы умерли и для Рафаэля, заменившись устремлением к одному лику. Но меняется и форма речей: все грубое и жесткое в отношении к человеку и в отношении к природе пропало, заменившись лучами пронизывающей любви; нет уныния – есть свет; тихий и вместе неустанно льющийся восторг. Таков шепот Раскольникова и Поли; его же и Сони; бормотанье «хромоножки»; «счастье» и «красота» Кирилова, с его молитвой ползущему пауку; и, в конце концов, в последнем анализе, таков дивный художник, который стоя за всеми этими фигурами, шепчет нам об удивительных тайнах бытия и о том, что он молится, что он открыл тайну молитвы даже и не найдя лица для молитвы. Но даже более, т.е. мы знаем более и именно о художнике: был в жизни его момент, где в изумительной близости выникли оба эти «идеала», о которых он заговорил здесь: это – Пушкинская речь. Все ее слышавшие передают, что она была сказана в каком-то религиозном трепете, и дух пророческого порыва мы читаем в ее тексте: именно он тогда потряс залу и сделал ее так памятною, так многолетне-памятною. Зала… дворянское собрание, в Москве; тысячная толпа; тема – Пушкин и в частности значение его в истории нашей литературы:
«…сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца…» (изд. 83 г., т. XII, с. 429)
– не правда ли: эти две строки, в такую минуту, на такой теме, перед таким собранием – дикий кошмар. Это – строка из «Карамазовых», из признаний Митеньки Алеше, с заключением: «Ты, ангел, меня не суди», и ответом Алеши: «Я сам такой же»; наконец, по имени «насекомого» мы даже узнаем, с какой страницы «Карамазовых» она взята, из каких глубин и странностей и невозможностей признания… Но это – мы говорим о речи в Дворянском собрании – как бы не речь была, и мало, в сущности, она имела отношения к историческому Пушкину, воспользовавшись им как темой и предлогом, взяв имя его как только эпиграф для собственного и совершенно свободного от земли полета, для полета высоко над землею. Страдалец мысли и слова проговорил свою молитву; и как она не была «молитвою» поступков, но идей и слов, второй «идеал» и не сказался поступком диким, включенным в цепь святых подвигов, но диким словом среди изумительно возвышенных. Вот факт, нами осязаемый, «такого-то числа в такой-то улице»: религиозный взрыв души, который всеми в речи почувствовался, нарастая, усиливаясь, на некоторой очень высокой точке раздвоился и дал воспоминание сладострастнейшего в жизни целой природы момента, воспоминания тут моментально возникшего, вырвавшегося из уст, вставившегося потом и в напечатанную речь, но которого бесспорно в тексте речи написанной не было, в конспекте ее не было, не было в плане или вообще в чем бы то ни было, чем он руководился при чтении. Строки эти относятся к экстазу произнесения, к дикции, которая вдруг237237
И, может быть, даже неожиданно для оратора, вне рассказов его за час. Нет никаких воспоминаний, чтобы, отъезжая на праздник, или в дни, предшествующие речи, Д-ский показывал вид, что вот «он скажет что-то особенное», он «удивит», у него «есть что-то». А хоть в жесте или слове это непременно высказалось бы и было бы окружающими, чьи воспоминания мы имеем, замечено и отмечено. Импровизация была стенографирована; ни в каком случае речь не была читана по рукописи; и стенографированный экземпляр мы имеем в печати.
[Закрыть] на обдуманную тему полилась как свободное пророчество, как творчество этой минуты, как «мадонна рисуемая», где мы замечаем – если уже он настаивает – «содомскую паучицу». Но он это и знал, т.е. он испытывал это и ранее, в длинные ночи уединения, когда писал свои волшебно-глубокомысленные создания, и где, как мы видим, в своем роде пророчество о «народе-богоносце» осложнилось воспоминанием о растлении детей, и уже не аллегорический – как в словах Карамазова – но подлинный содомист Тришатов рисует образы музыки и дает музыку мысли невыразимой нежности, любви и прощения. Идеалы лобзаются; они ясно срастаются; тайна, не прозреваемая Достоевским, в том, что на какой-то стадии развития, в какой-то таинственной точке, и, очевидно, в последнем основании вещей, «идеал Содома» уже не обнаруживает в себе ни одной черты знакомой нам, грязной и грубой, но раскрывается устами невыразимой чистоты, небесной правды, и тот и другой «идеал», который так противоположен грязной и грубой его оболочке, этой одежде его космического затаивания, не только не отвращается небесного зерна, под нею затаившегося, но принимает его в себя и, собственно, с ним сопрягается как с «уготованною» полнотой и целостью coit’ального отношения. «Дух Божий создал – бара – меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь», – говорит Иову его друг (33, ст. 4), говорит о себе как об Адаме, и собственно всякий человек есть Адам, также вновь и первоначально и там же творимый, как первый. Вот «дыхание уст» в уста, которые нам представляются такою грязною «глиной». Или, по отношению к целому народу, этому коллективному, многоголовому, тысячерукому «Адаму», – опять какой образ и сравнение:
«Твой корень и твоя родина – в земле Ханаанской; отец твой – Аморей и мать твоя – Хеттеянка; при рождении твоем, в день как ты родилась238238
Замечательно это повторение, уже и ранее отмеченное нами: в Библии всегда сладкое слово «рождения», «бара», повторяется, и мысль как бы не хочет от него оторваться, вращает как высшую сладость в устах своих.
[Закрыть], – пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения и солью не была осолена и пеленами не повита239239
Все это обращено к Израилю; слова, нами ощущаемые, как не относящиеся к нашей мысли: «Скажи: так говорит Господь Бог [дщери] Иерусалима: твой корень и твоя родина…» etc.
[Закрыть]. Ни чей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, но презрения к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «В кровях твоих живи!». Так, Я сказал тебе: «В кровях твоих живи!240240
Опять повторение: сладость этих «кровей рождения» и в миг взгляда на них – «живи» и, уже конечно, множься.
[Закрыть]» Умножил241241
И здесь мы должны припомнить друга Иова: «дух Божий создал меня – дыхание Вседержителя дало мне жизнь» – об индивидуально рождаемом существе, о всяком следовательно темпе народного «умножения».
[Закрыть] тебя, как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди и обросли волосы, но нага и непокрыта ты была. И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви. И поднял Я воскрылия мои на тебя и наготу твою покрыл; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. И одел тебя в узорчатое платье и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твою – ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги – к ушам твоим и на голову твою – прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что та была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Твой242242
К мысли этой страницы не имеет отношения окончание текста, но мы приведем его, так как он очень любопытен: «Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет» (ib., ст. 15 и 16). Это замечательно: вся Библия весь этот особенный гнев ее, льющийся наряду с неизреченной нежностью, есть собственно ярость coit’ального ревнования, и очевидно самая нежность есть coit’альная же любовь. Дальше еще замечательнее: «ты раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего» (ст. 25)… «как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа – чужих» (стих 32). Вот «воскрылия Мои, поднявшиеся над тобою» с ожиданием мольбы: «се, раба перед Тобою – буди мне»; и смысл слов: «да не будут тебе… инии разве Мене». Еврейский народ есть народ coit’ально сопряженный и вот почему он «избран» или точнее в чем заключается его «избрание». «Посему, выслушай, блудница, слово Господне! Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои (36)… давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтоб они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою» (33).
[Закрыть]» (Иезекииль, гл. 16, ст. 3–14).
Вот истинная идея и об истинном, уже не риторическом и не фантомном бого-«несении»: и образы, и картины, «крови, крови рождения» и «необрезанный пуп», и «подымающиеся груди», и выникающие волосы около таинственных вторых уст, – но уже все свято, уже нет угла нашего зрения и не осталось ничего из грязи, которую собственно этот взгляд наш вносит в предмет. Отсюда эти слова, в день Пасхи читаемые бесспорно религиознейшим на земле народом, «который видел» Бога и, наконец, который подлинно Его выслушал:
«Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, и мы, – и мы посмотрим на тебя…
– Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский!
О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Окружение бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; и самое чрево – ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои – как два козленка, двойни серны; шея твоя, как столп из слоновой кости; глаза твои – озерки есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращаемая к Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями. И как вся ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью. Этот стан твой похож на пальму и груди твои – на виноградные кисти.
Подумал я: взойду на пальму, ухвачусь за ее ветви; и груди твои были бы мне вместо виноградных гроздий, и запах от ноздрей твоих как от яблоков; гортань твоя – как лучшее вино…
– Оно течет прямо к другу моему, услаждая его утомленные уста. Я принадлежу другу моему и ко мне обращено желание его.
– Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; а к утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там тебе и дам я ласки мои.
– Мандрагоры243243
Плоды – в древности символ чадородия, и как средство возбуждения к чадородию.
[Закрыть] уже издали благовоние; и вот все новые плоды при дверях у нас: они – тебе, возлюбленный» (Песнь песней, гл. 7).
И еще, несколько ниже, в той же и тогда же читаемой книге:
«Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка как смерть любовь, люта как преисподняя ревность, стрелы ее – как угль горящий и вся она как пламя.
Обильные воды не могут потушить любви и не зальют ее реки. Если бы кто все богатство дома своего давал за любовь, – был бы с презрением отвергнут» (Песнь песней, 8, ст. 6–7).
И вот, чтобы уже докончить священные тексты, историческая, фактическая иллюстрация этого «уже горящего», который «ничем не затушается»:
«И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей: так как она была девица и ему трудным казалось что-нибудь сделать с нею». У него был друг, Ионадав, человек очень придумчивый: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев – не скажешь ли мне?». Тот рассказал, и хитрый друг дал совет ему, которому он последовал. Он сказался больным, и когда Давид, его отец, навестил наследника престола, он сказал, что ему хочется лепешек, которые хорошо умела готовить Фамарь. Вернувшись, он послал дочь исполнить просьбу брата.
«И пошла она в дом брата своего Амнона; а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила перед глазами его и испекла лепешки, и взяла сковороду и выложила перед ним».
Мы точно присутствуем перед полупастушеским, полугосударственным народом; и, во всяком случае, народе неиспорченного быта, свежей, чистой крови. Царь в самом деле был пастухом в отрочестве, псалмопевцем – в зрелые годы.
«Но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамари: отнеси кушанье во внутреннюю комнату и я поем из рук твоих». Она исполнила. «И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: “Иди и ляг со мною, сестра моя!”. Но она сказала: “Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле; не делай этого безумия”…»
Удивительно – мы точно слышим голос этой полевой девушки, полевой лилии, в ее кротости и смирении «паче риз Соломоновых» убеленную.
«…И я, куда я пойду с моим бесчестием? И ты, ты и будешь одним из безумных в Израиле; ты поговори с царем; он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он ненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: “Встань, уйди”. – И Фамарь сказала ему: “Нет, брат: прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною”. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: “Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею”. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери – девицы. И вывел ее слуга и запер за нею дверь.
И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила» (II Царств, гл. 13, 2–19).
«Красота – вещь страшная, потому что таинственная». Именно плотская красота: «округлого живота» Песни песней, изваянных «бедр», нависшего меж ними «чрева», без всякого и вне всякого отношения к верхнему лицу, – как ясно в случае с Амноном, неизъяснимо-тревожном. Очевидно тут, в безднах этого космического затаивания, небо и земля сошлись; религиозное так ясно тут чувствуется; так ясно чувствуется и «персь земли». И брызнет ли земля на небо, небо ли зальет землю – все через этот путь, внутрь ствола этого «древа жизни» всаженного «в рае сладости»…
«Звала его и он не отзывался мне; искала его и не находила его: встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дщери Иерусалимские! если вы встретите возлюбленного моего, что скажите вы ему? что я изнемогаю от любви» (Песнь п., 5, ст. 7–8). И уж, конечно, «мирра капала с рук моих, и с пальцев моих капала мирра» (ib., ст. 5). – «Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину двери – и чрево мое взволновалось от него» (Песнь п., 5, ст. 4).
И все это, до Амнона – «ангелы, спускающиеся на землю»; но вот Амнон – и демоны рвутся на небо. «А поле борьбы – сердца людей».









































