Текст книги "Путешествия любви"
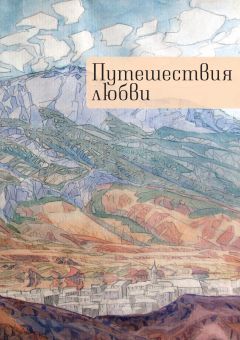
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Всё, что было, потекло на выход. Вытекало в раскрытую темноту, пропадало в ней. На мгновение Ирину сковало сомнение – как в этаком хаосе сможет она контролировать мириады клеток, составляющие ее целое? Сомнение рассеялось, когда он взял ее за руку. От прикосновения все эти мириады клеток одномоментно обратились в почву сладкого переживания.
И вот только они двое стоят в пузыре тишины, никого больше не осталось, но электричка не закрывает дверей.
Наконец, он выпадает в темноту и оттуда протягивает Ирине руку, будто утопающий просит помощи. Ирина оставляет в вагоне служебную сумку, удостоверение и кассовую машинку, присваивая себе лишь новый платок. Она воображает себя рекой, несущей золотой песок, и выплескивается наружу.
Ольга Аникина (Санкт-Петербург)
Золотариды
Все мы, и пятиклашки, и малышня – жили в «Дзержинце» только один сезон, то есть, учебную четверть, а они, оба, Золотарёв и Золотарёва, работали здесь всегда. И летом, и осенью, как сейчас, и даже зимой, когда море было уже холодным и в нём нельзя было купаться. Всё равно школа была открыта, и лагерь принимал детей со всего Союза.
Когда дома шли разговоры о том, чтобы отправить меня к морю, я даже и не поняла, что Евпатория – это город. Я думала, эта Евпатория – такое учреждение, большая специальная лечебница возле моря. А тут – надо же, даже на карте она есть, и построена не Советским Союзом, а какими-то древними царями, греками и скифами. Керкинитида! Царь Митридат Евпатор Четвертый! Екатерина Вторая! Золотарёвы Татьяна Николаевна и Александр Викторович!
Жили мы в двухэтажных корпусах, в комнатах по десять кроватей в каждой. Кровати стояли в два ряда, деревянные. Море было далековато от корпуса. Но я, после отбоя, лёжа – вторая от двери в левом ряду – часто придумывала, как будто ночью, тихо, когда все спят, море вспенивается и заполняет берег, парк и дорожки, да и сами корпуса, и вот наши кровати – не кровати уже, а лодки, качаются на приколе, стукаются бортами друг о друга, опускаешь руку – а пола-то нет, там холодная водичка, водоросли и скользкие рыбки, рапаны и мягкие, словно вспухшие от воды, деревянные щепки – может, даже остатки древних кораблей. А в вожатской комнате, за стенкой, раскачивается кровать-лодка наших воспитателей, и они лежат на её дне, обнявшись.
Утром по расписанию у нас были лечебные процедуры и купание. Днём, после сончаса – три-четыре урока, основные по школьной программе. Потом нас вели на ужин. Были и мероприятия – смотр военной песни, например. Или поездки в колхозы на сбор урожая. Все эти развлечения устраивали нам воспитатели. Золотарёвых мы называли «по-местному», по-гречески: Золотариды. Если бы греки не проиграли войну скифам, а те османам, а те – русским, то Татьяна Николаевна и Александр Викторович, наверно, так бы и звались: Золотариды. Они были – наши боги, а может, титаны или цари, они сопровождали нас всюду и пытались влезть во все наши дела, а мы прятались, носили в головах, а иногда – подмышками свои тайны размером с печенье или с кусочек хлеба. Тайны прятались под матрац или в наволочку, но боги были вездесущи и всегда точно знали, в какой лодке-кровати спрятана заначка.
Ещё я помню поездку на бахчу. На огромных полях, в траве и росе, под солнцем, лежали, благоухая, опрокинутые лицом к солнцу дыни и арбузы с гулким звоном внутри. Каждый арбуз – тёплый, как будто живой – такой круглый толстый неподвижный зверь, живущий в листьях, лежащий, прижавшись к земле бледной плоской щекой. Он дышит в траву и молча о чем-то думает внутри своей гладкой головы. Пуповина, которой он привязан к корню – иногда зеленая, а иногда уже совсем сухая, коричневая. Он отпочковался от стебля и хочет свободы. Ты срываешь его и несёшь в большую кучу на краю поля. Оттуда его когда-нибудь заберет глухо урчащий грузовик, а сейчас круглые плоды лежат, как пирамида, под солнцем – небольшая, но почти египетская, пирамида, а мы – рабы в набедренных повязках, сделанных из сброшенных с плеч курток, бегаем по полю в одних футболках – почти октябрь, но жарко, жарко! – и таскаем к этой зыбкой конструкции большие тёплые головы, сорванные с земли. Одна пирамида, выросшая над полем – зеленого цвета, другая – жёлтого. Дыни и арбузы.
Ни у кого не оказалось ножиков – Золотариды отобрали у нас все острые предметы ещё в начале сезона – а так хотелось попробовать на вкус все эти ягодо-фрукты. Татьяна Николаевна подошла к галдящей группе девчонок и, улыбаясь, со знанием дела, кулаком с размаху расколола маленькую жёлтую «колхозницу». В этом было что-то первобытное, взмах и звук лопающейся кожуры, хруст плода. Я помню и сейчас: берешь в руки дыню, тяжёлую, покрытую шершавой коркой, похожую на растрескавшийся сосуд, драгоценный, древний, кладешь на землю, со всей силы размахиваешься и – по продолговатому телу дыни проходит дрожь, и липкий сладкий сок течет из трещины. Разъединяешь половинки, и вот уже руки по локоть облиты нектаром и амброзией. Каждую половину нужно еще раз разломить, а дыньку поменьше – ту можно даже вывернуть наизнанку, и – вот оно, ты ныряешь во влажную ароматную мякоть, зарываешься в неё лицом, глотаешь, пьёшь сок взахлёб. Медовые капли текут у тебя по лицу, по рукам, по шее, затекают на грудь под футболку, ты размазываешь их – всё равно, пусть, пусть! Это солнце течет у меня по рукам, это его я пью из осколков разбитой амфоры.
Час спустя под ногами уже валялись разбросанные обкусанные корки, желтые и зеленые, с остатками розовой и белой мякоти. Колхозники оказались щедрыми: дыни с арбузами можно было есть, пока не лопнешь – и мы наедались ими впрок, наполнялись божественной пищей, соловели под высоким крымским солнцем. Можно было стаскивать арбузы и дыни в автобус, сколько сумеешь унести. Можно было завалиться на спину, в траву, лежать среди не сорванных ещё плодов, прижаться затылком к твердому круглому боку и смотреть в небо, как будто ты тоже арбуз. И так валяться, пока не затечёт спина.
Пришло время уезжать с бахчи, но Золотариды куда-то пропали. Два автобуса уже стояли возле поля, и, вроде бы, никто никуда не спешил, но все понимали, что почему-то отъезд затягивается. Кто-то из мальчишек по секрету сказал, что на соседнем поле, куда нас не пустили, совсем недалеко, за продолговатым бревенчатым складом, растут какие-то совершенно чудесные белые арбузы с фиолетовой мякотью. Пока воспитатели не объявились, мы побежали туда – сорвать хоть парочку и взять с собой в лагерь.
Мы добежали до склада, мальчишки свернули на дальний угол запретного поля, а я хотела было забежать с другой стороны, в обход строения. Я бы выскочила из-за сарая на просеку и сорвала бы самый большой и красивый белый арбуз. Но вдруг я услышала голоса взрослых и остановилась. За строением кто-то был. Там стоял некто, и он не просто там стоял, а разговаривал, вернее, кричал на кого-то, а тот, другой, даже не оправдывался, а просто тихо что-то отвечал.
– Как ты могла это сделать! … Зачем! За что! Да это не было бы проблемой! Да какая разница! Какая теперь уже разница! … Ты понимаешь, что это – конец! Да, именно конец света. Для меня! Для меня это конец света! Понимаешь ты это, дура? Что?.. Нечаева! А ты что здесь делаешь?!! А ну быстро марш к автобусам! Я сказал!
Последняя фраза была обращена ко мне: Золотарид стоял напротив меня, красный и злой, с мокрым лицом, наверное, он был весь в арбузном соке, а его жена стояла рядом и тоже смотрела на меня. Он орал так, как будто я была самым ужасным на свете преступником.
– Александр Викторович, я хотела…
– Я сказал, все по автобусам, Нечаева! Все! Быстро! По автобусам! Твою мать…
Я разворачиваюсь, изумленная и испуганная чем-то, спотыкаюсь, бегу обратно и кричу:
– Витька, Мишка!.. По автобусам, уезжаем!
– Уезжаем!
Они бегут, и я бегу, и у них прекрасные белые арбузы, целых три, а у меня ни одного, и я выпрашиваю у мальчишек один, а они дразнятся и не дают мне ничего, только хохочут и обзывают меня шваброй.
– Уезжаем!
И мы садимся в салон, душный, раскалённый, и Золотариды пересчитывают нас, а я рассказываю на ухо подружке, что там сейчас было за складом, рассказываю, поглядывая на воспитателя, а он оборачивается и смотрит на меня, оглядывается только один раз, но очень зло, и лицо его – красное и блестящее. И я замолкаю. Потом Золотарид кричит на мальчишек, обещает им, что они останутся без полдника, а те вопят и не слушаются, какой там полдник, когда весь автобус набит лучшим в мире полдником, подарками с бахчи.
Потом автобусы долго едут вдоль берега, и за окнами – синее и жёлтое, только синее и жёлтое. Мальчишки орут, поют песни, хохочут, а Золотарид всю дорогу молча сидит на своём переднем сидении, опустив голову, сидит, сгорбившись, и не оборачивается. Он, наверное, объелся арбузами и спал всё время, пока мы не приехали обратно в лагерь.
Евгения Доброва (Москва)
Распутья
I. Абхазские мандарины
Когда я переживала разлуку с Зурабом, я могла есть только абхазские мандарины.
Это очень странно было: ведь я ничего-не-могла-есть-вооб-ще, а мандарины мне даже нравились.
Только мандарины.
Килограммами.
Видела бы мама. Закричала бы: диатез! Как в детстве.
А может, и не закричала бы.
Она знает, как я их люблю.
А Зураб не знает.
Когда мы были вместе, я ела их тайно. Пойду, говорю, посмотрю, не идет ли автобус, – а сама – хоп за остановку, и пихаю в рот мандарин. Скорей, скорей, пока не видит…
А то получишь этим мандарином прямо в лоб.
Потому что он абхазский. А Зураб – из Грузии. Но сейчас он прилетел в Хельсинки из Швеции, где ему предоставили политическое убежище. А я приехала на маршрутке из Петербурга.
Про мандарин я все-таки признаюсь. Вроде как шутка: стоим на транспортном пятачке возле аэропорта, ждем сити-бас, вечер, мороз ледяной – а у меня в кармане витамины с юга. Зураб говорит: абхазы, они знаешь, что сейчас сделали? Там церковь была с грузинскими фресками, так они их погубили. Стена, мол, обрушилась при реставрации. Уникальная роспись, древняя. Царь Баграт. Как можно…
Поэтому, когда подруга предлагала – хотите мандаринов, я уточняла:
– А у тебя какие? Он абхазские не будет есть.
– Марокканские.
На диван приземляется крупный оранжевый плод. Рыхлый, как сиська у толстяка. Перемороженный.
Ловлю, чтобы не скатился, раздираю на дольки. На двоих.
У Олеши – разрывают ягодицы абрикоса.
А я – мандарин.
Рывком.
Со страстью.
А он, сволочь, невкусный.
* * *
Вечером мы идем гулять по Фредрикинкату. Магазины позакрывались в семь, но витрины притягивают, горят зазывно – где ярко, где приглушенно-таинственно: электричество в Финляндии дорогое.
В витринах – сокровища. Шеренги модных ботинок, барханы шляпок, сумочек… Возле них я замедляю шаг.
– Я тебе потом всё куплю, – говорит Зураб на всякий случай.
– А мне ничего не надо. Я их как игрушки в «Детском мире» разглядываю. Просто так. Хочешь, справа от тебя пойду, подальше от витрин?
– Что ты, смотри, пожалуйста!
На перекрестке решаем поменять маршрут, сделать круг и вернуться другой дорогой. Сворачиваем – но там тоже витрины.
Я смеюсь – и стараюсь на них не смотреть. Но они такие праздничные, нарядные: январь, Новый год!
– Ой! Вот это да…
Под вывеской маникюрного кабинета коллекция накладных ногтей – мерцают, переливаются в луче подсветки. Ноготки всех цветов, от жемчужного до базальтового, изукрашены стразами, золотой и серебряной росписью – типсы с позументами, с галунами и кантами.
По моде этого сезона они острые и длинные, как птичьи когти.
– Пойдем! – Зураб оттаскивает от витрины.
– Подожди! Секундочку… Тебе не нравятся искусственные ногти?
– Сейчас расскажу тебе одну историю. Это мне бабушка рассказывала. Во времена моей прапрабабушки был один родственник, сильный и храбрый воин. Дело было в горах, где живут мохевы, это от слова «ущелье», оно называется «хеви». Доезжаешь до Владикавказа, потом через Дарьяльское ущелье, и попадаешь к мохевам. Горский народ, чем-то похожи на казаков – кто князя убил, или еще кого, или нарушил закон. Что-то за ними было криминальное. Они скрывались, а заодно границу охраняли.
Однажды тот родственник отправился косить и увидел на склоне странную фигуру: какая-то женщина взяла в руки палку и дразнила его, повторяя движения. Ему стало интересно, он подошел – и решил пленить ее. Схватил, бросил на коня и забрал домой, в прислуги. Но всё, что бы ей ни говорили, она делала наоборот. Надо воду набрать – а она выливает ее из кувшинов. Женщины на панихиду плакать – а она смеется.
Когда он ее привез, у нее были очень длинные острые ногти – как когти. Он отрезал их и положил в ножны от кинжала.
Однажды семья уехала на праздник в соседнее село. Дома остались трое: маленькая девочка, горе-служанка, и младенец в люльке. Женщина разговорилась с девочкой, попросила показать отцовские ножны. Та принесла. Служанка отправила ее во двор, а сама достала когти, надела их и задушила младенца. Когда девочка вернулась, он лежал бездыханный, а женщина исчезла, и больше никто никогда не видел ее…
– Почему он ее сразу не прогнал? Зачем нужна служанка, которая делает всё наоборот?
– Он думал, что может поработить демона, – ответил Зураб.
Иногда мы осмеливаемся посягнуть на стихию, но она сметает нас, как волосок с макушки одуванчика.
Я достаю мандарин. Это последний. Холодно чистить его на морозе, без перчаток… Южный привет северным грезам.
* * *
Опять, сволочь, невкусный.
Два года назад я работала в журнале «Абхазия».
Зураб не знает.
Мы не были знакомы тогда.
Потом он закрылся.
Потом умер Багапш.
Говорят, отравили, ну или еще что-то в этом роде.
Так же, как про Качинского.
Почему-то поляки не верят в просто-авиакатастрофу.
Полтора года назад я стояла в кафедральном соборе на Вавельском холме у саркофага Качинских.
Тяжелый темный гранитный короб.
Хризантемы.
Выбитые надписи.
Низкие своды, это в подвале было, в склепе.
Мрачно вокруг, и мысли мрачные.
А потом бежала по краковским улицам в Марьяцкий собор, но припозднилась, и билетер не продал билета. Дядьке впереди меня продал, а мне нет, я с ним даже поругалась: еще только без пятнадцати шесть! Тогда дядька обернулся и отдал свой. Я, говорит, туда еще попаду, – а вы берите. Я говорю – спасибо. Дядька спрашивает – а вы откуда? Говорю – из Москвы. – Тем более берите.
Я взяла. Хорошая вроде бы история, но только дядька разговаривал с презрением. Русская. А я всё равно взяла. И пошла смотреть алтарь Ствоша.
А он грандиозный. Космический. Одиннадцать метров в размахе и три этажа в высоту. Успение Богородицы. Рождество Иисуса. Поклонение волхвов. Трехметровые статуи из цельных стволов. Когда резали, дереву было лет пятьсот. Значит, сейчас – тысяча. Какое счастье, что любопытства во мне оказалось больше, чем гордости. Алтарь не виноват, что мы такие глупцы. Поляки, русские – все перед ним букашки.
А с Зурабом мы написали стихотворение «ХL-любовь». Начинается оно так: я хочу быть в тебе… А заканчивается: Москва – Тифлис, Тифлис – Москва, ХL-любовь!
Оно не о сексе, оно политическое.
Здорово было бы, не таясь, есть абхазские мандарины.
Потому что бывают в жизни моменты, когда больше ничего не можешь есть вообще.
III. Цветение
Лето 2013 года, Берлин, аэропорт «Тегель». Я провожаю Зураба домой в Стокгольм. Он в светлом льняном костюме, в белой шляпе с черной лентой вокруг тульи и в кроссовках на босу ногу, потому что мода. Он держит руки в карманах – говорит, по советской привычке, чтобы кошелек не вытащили. Откуда-то я знаю, что больше его не увижу. Неделю назад мы поссорились из-за выступления в «Панда-театре» (Зураб: «Ну ударь, ударь меня!»), потом помирились, и вот я смотрю на него с посадочным в руке, – а вторая рука в кармане, – смотрю на льняную ткань нежно-сливочного оттенка, на голые щиколотки и думаю: «Увижу ли еще, не знаю».
– Мне приснилось, что ты кормила меня овсянкой, – говорит на прощание Зураб. – Мне вообще редко кто-то снится, а тут приснилась ты, и ты кормила меня овсянкой.
Через несколько месяцев я переезжаю в Польшу, билет на лоукостер из Гданьска до Стокгольма стоит семь евро, но я не лечу. Зурабу начинает казаться, что у меня «роман с поляком». Я не опровергаю. Наверное, я была бы рада, если бы у меня случился роман с поляком, с кем угодно, с любым белым человеком, но этого не происходит: сначала один варшавский приятель говорит: «А может, ты шпион», а потом и второй, я чувствую себя как в сумасшедшем доме, а «Тиндер» еще не изобрели.
* * *
Про меня вспомнили через несколько лет, когда понадобились деньги.
Я захожу на личную страничку Зураба в соцсети и вижу его фотографию в больнице.
Последняя прижизненная фотография.
В глазах у него ужас.
Это случилось в Тбилиси, я даже не знала, что он вернулся из Европы.
Я смотрю видеорепортажи с похорон и читаю обновленную статью в «Википедии». Сообщается, что он похоронен в пантеоне Мтацминда. С Грибоедовым и Чавчавадзе, думаю я. Будут друг другу стихи читать.
Через два года после его смерти я приезжаю в Тбилиси – и не иду на кладбище. Каждый день я собираюсь туда пойти. И не иду.
Под окнами квартиры, где я остановилась, цветет вишня. Одинокое деревце в старом тбилисском квадратном дворе, под вишней сколотили столик со скамейкой, можно сесть и смотреть, как облетают белые лепестки, и пить домашнее вино, которое дарит постояльцам хозяйка – к приезду. Но больше мне нравится смотреть на него из окна, на это белое облако в каре красных кирпичных стен.
Я попала в неделю цветения, солнечную и ветреную. Если бы не ветер, можно было бы ходить без куртки. Я уже выбралась посмотреть сакуру в ботсаду и парк Вере, нависающий над Курой, обошла холмы, набережные и скверы правого берега.
Я хожу по цветущему городу и думаю, как херово из такого рая умирать.
Я хожу и впитываю блеск воды, и холод мая, и этот ветер, из-за которого вчера остановили канатную дорогу, и музыку на площади Горгасали, и эти резные деревянные балконы, и крепостные стены над Курой, весь этот мир, такой прочный и зримый, доступный с расстояния протянутой руки.
На Мтацминду идет фуникулер, я вижу его стрелу с разных улиц. Но не иду к ней. Я на нее просто смотрю.
В палатке у Цветочного рынка я покупаю лобиани, он мягкий и теплый, будто живая плоть, я отламываю пышный бок и ем на ходу.
Я направляюсь на левый берег. Мост Бараташвили, и памятник ему, и выше, и выше, и выше, на холм Святого Илии, к собору Самеба. У белокаменной лестницы носятся дети, привезли на экскурсию второй или третий класс. Шумно. Поднимаюсь к храму, собираюсь обойти вокруг. Вдоль дорожек распустились неведомые кусты, цветки у них сочно-пурпурные – такой оттенок, должно быть, имели императорские тоги. Спрашиваю название кустарника, мне говорят грузинское слово, силюсь запомнить, но через минуту оно вылетает из головы.
С холма видно, как розовеет, затем становится лиловым, малиновым, фиолетовым небо. Вот это уже точно тога, она сияет и накрывает улицы города. Вдалеке светятся огни фуникулера, мерцающая просека разрезает крутой лесистый склон. Я удивляюсь, что, несмотря на поздний час, он работает, двигаются кабинки.
Выхожу из храмового комплекса через заднюю калитку, сбегаю вниз, интересно же новой дорогой. Под горой переулок со множеством овощных лавок. Покупаю апельсин, кинзу, латук и помидоры. С меня берут несколько лари. Дома я делаю салат, а апельсин трачу на глинтвейн, потому что «Ркацители», схваченное давеча в ночном магазине, ни на что более не пригодно.
Случайно я узнаю, что Зураб похоронен на другом кладбище. Мне сообщают это в писательском баре на улице Нико Николадзе. «Какая Мтацминда, там давно уже места нет. Он на Махате».
За барной стойкой оказывается один из друзей Зураба.
– Он умер у меня на руках. Давайте, я вас кофе угощу. Вы уже связались с его семьей?
– С его переводчицей.
– Ах, да, Инна… Конечно.
Но Инна не отвечает. Я пишу ей в мессенджер и спрашиваю, как найти могилу или кого-нибудь, кто мог бы туда отвести, я, наконец, собралась, но она не видит моих сообщений.
И тогда я стираю их.
У меня остается день.
Есть еще шанс, что отведет Александре, певец, с которым я познакомилась в гостевом доме, у него есть время между выступлениями, он уже успел показать мне водопад и храм, где находится десница апостола Фомы.
Но Александре поет до утра в ресторане и днем собирается спать. Может быть, я схожу сама.
Трудно смириться со смертью. Чертовски не хочется на нее смотреть.
Свой последний день я тоже чуть не проспала, но кто-то позвонил, и я очнулась.
Вишня за эту неделю совсем облетела. Теперь она некрасивая, лысая и тощая. Скелет в окне.
Я выхожу из дома.
И иду по Леселидзе к канатной дороге.
Я иду в другую сторону.
Я поднимаюсь к крепости Нарикала, а затем спускаюсь в ущелье ботанического сада, прохожу мимо клумб с тысячей сортов тюльпанов, шагаю вдоль ручья, перехожу его по мостку, поднимаюсь на верхотуру за дендрарий, я иду и иду, лишь изредка присаживаясь отдохнуть, указатель за указателем, а маршруты всё не кончаются, будто это восьмерка бесконечности, дорожки ведут вверх и снова вниз, петляют, сходятся и расходятся, а иногда обрываются, и тогда, чтобы вернуться на какую-нибудь из главных аллей, я срезаю путь по траве.
Я теряю счет времени.
Темнеет, но сад пока не закрывают. Время его работы указано как «до заката».
В сумерках уже плохо видно, и тогда я сажусь на лавку и долго сижу.
Побуду тут, пока не придет охранник и не скажет, что пора.
Но никто не подходит.
Сад всё еще не закрывают.
И я всё сижу.
И сижу.
Уже совсем темно, включают фонари, изредка кто-то проходит в сторону выхода. Слышны брачные трели жаб, дуэт, он и она. Они переговариваются, выводят рулады по очереди, переливчато и раскатисто, наращивают обороты. Остальное сокрыто во тьме, она отобрала сирень, тюльпаны, сакуру, кипарисы, единственное, что осталось в саду, это голосящие жабы. Они поют с таким напором, словно хотят отполировать звуком реальность, начистить это створоженное ночное сияние, надраить его до рези в глазах, в ушах, во всем теле, во всем мире и вне его.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































