Текст книги "Путешествия любви"
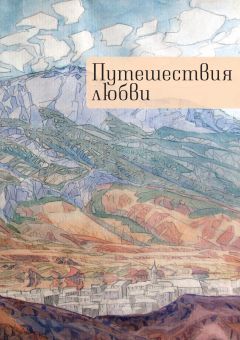
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
И все как один забывали про меня, стоило только расплатиться. К вечеру на своё койкоместо я принёс семь кило книг. Хотелось мира во всём мире и немного кушать. В комнате стояла тишина, перемешанная с запахом мужских ног. Молчать среди иностранцев всё же легче, чем среди своих – не страшно кашлянуть или хмукнуть. Страшно, когда к тебе обращается улыбчивый алжир, указывая в потолок пальцем, а ты, кроме родного языка, знаешь лишь несколько фраз на пингвин-инглиш. И ещё приветственное «шайсе». А палец алжира так и сверлит потолок, всё шире раздвигая перед тобой улыбку, и поневоле начинаешь думать о Боге. Все под ним ходим. Как мелюзга счастливая под стол. Под ладонь его. И когда вилка со стола падает – значит, человек придёт.
Вот так же нож, звякнув на другом конце города, слетел со стола на пол…
– О! Мужик придёт, – сказала Дюба.
– Да пора бы уже, – вздохнула Тося, глядя в окно.
– Что-то опаздывает, – заметила подруга.
– Задерживается, – поправила Тося, и через три дня с улыбкой добавила. – Появился.
Лучезарный алжир, тыкавший пальцем в люстру, так и заснул при свете. Я грыз карандаш.
Утром я позвонил Паше.
– Ты куда пропал ключи же одни приезжай быстро! – поприветствовал меня он.
Оказалось, на площадке у двух квартир, в одной из которых мне предстояло жить, – одна общая дверь. И ключ, как выяснилось, тоже один, который каждый входящий и выходящий должен был оставлять в почтовом ящике, чтобы соседи могли попасть в свою квартиру. Паша, дав честное слово и заложив душу и почку, выпросил ключ для меня, заверив, что я приеду через час.
Из-за грохота в метро я не приехал ни через час, ни через два, ни к вечеру. Вечером же с десяток сорванных, охрипших и осипших голосов, стоя на лестничной площадке, проклинали Пашу, меня и друг друга. Почему никто не хотел делать дубликат ключа – это совсем уже древняя история. Ее передавали из поколения в поколение, от отца к сыну, из уст в уста и на ночь глядя. В итоге замок взломали.
Я приехал к обеду. Скрупулёзная комендантша четырежды пересчитывала комплект сданного постельного, сбиваясь на наволочке.
Паша наотрез отказался заходить со мной в подъезд. Встретив прямо у вагона в метро, он проводил меня до самого дома, рассказав про нелёгкую жизнь коммунальных соседей. Пожелав мне удачи, он сбежал, едва скрипнула дверь подъезда.
Моя изобретательность редко давала о себе знать, но бутылка хорошего вина и торт мало кого оставляют равнодушным. Вдобавок, прежде чем войти в дом летающих кинжалов, я внимательно осмотрел изнасилованную дверь, и сбегал за новеньким замком, с комплектом из пяти ключей. По дороге я на всякий случай сделал ещё пять дубликатов. Денег не хватало, поэтому «Ангеловой куклой» Кочергина пришлось пожертвовать. Позже, подсчитав затраты на исправление ошибки, я пришёл к выводу, что в гостинице было бы выгоднее остаться. Но совесть…
Позвонив в дверь, я невольно подумал о побеге, но для острастки вдавил кнопку звонка ещё раз. Ожидание навело меня на мысль о добровольном согласии на эвтаназию. Я отогнал воображаемые трубки с жидкостями и стал вслушиваться в приближающиеся шаги палача.
Палач, поправив бигуди и запахнув не полностью халат, спросила:
– Кожев?
Я кивнул. Она вздохнула:
– Ну, проходи, Кожев. Горстью будешь, – недобро усмехнулась она и, качнув бедром, добавила из глубины квартиры:
– Горстью пепла.
Я переступил порог, и кухонный чад с флажками пелёнок в кишке коридора поглотил меня, обволакивая дымом Донского табака и тихой руганью. Дверь назад в безопасный и суетливый мир с лязгом захлопнулась.
За стенами проплывающих комнат кипела жизнь. Ковали счастье неиностранцы, строили беспроигрышные (и безвыигрышные) комбинации охотники за удачей, и до увечий любили друг друга неприкаянные пилигримы страстей. Пристанище поэта, последний рубеж отчаянных солдат фортуны и перебежчиков из закона во вне, в своих углах, спрятанных в тени, это место таило в себе бессмертие русской души, приколоченной грубым гвоздем к полированной дверце серванта и взирающей из-под его шляпки с глянца поверх спелых импортных грудей, в истоме округляя губы. Стены, и раза не слышавшие запаха настоящего кофе, дощатые полы, не чувствовавшие ничего тоньше и утонченнее женского каблука, окна, не видевшие чего-то более четкого и очерченного, чем сигаретный дым. Время, вернувшееся ко мне во всем нелепом своем, мерзком и неприкрытом величии. Неожиданно обступившее меня поделенными квадратными метрами. И оставленное мной задолго до своего окукливания. Когда-то я жил в такой квартире. Там меня кто-то любил, дважды пытались убить, один раз искали, но всё безуспешно – я съехал.
А теперь шел меж таких же стен, за которыми дремала жизнь, чьей частью я был когда-то.
Сквозь обои, клей и фанеру прорезался голос:
– Это ж как нужно блевать, чтобы с тобой перестали за руку здороваться?
– Я ему карбида в унитаз подложу, а почтальон сибирской язвы в конверте принесет.
Где-то вздрагивал пол от потерявшего равновесия тела.
– Только массовый расстрел поможет этой семье! – раздался комментарий из неопределенного угла. – Только массовый расстрел.
Моя фигуристая палачка отворила какую-то дверь и впустила меня в пустую комнату с высохшей лужей чего-то бурого на углу паласа.
– Казнь назначена на вечер, – шепнула она. – Туалет в конце коридора, кухня – прямо.
Я поблагодарил и прикрыл за ее задом дверь.
С серванта на меня глядела голая Матахари. Я сорвал ее и швырнул на кровать. На полированной дверце косовато ощерилась трещина от топора. С тоской представил, как в гостинице оставленный мной двухъярусный Эльбрус продавливается под довольным жизнью дальнобойщиком. Даже вредность глуховатой комендантши показалась мне самым теплым и светлым переживанием за весь день. Впрочем, день только начался.
– Тут зубилом нужно, – прохрипел сорванный дискант над ухом. – Ща принесу.
Я надеялся, что никто не заметит, как я поменяю замок. Хотелось без лишней суеты и разговоров. Но искореженное железо отнимало у моей жизни уже второй час. Я смотрел вслед удаляющейся загорелой спине в майке и думал об Ирландии. Всегда думаю об Ирландии, когда заняться нечем. В Ирландии, наверное, такие замки не делают, и ключи запасные всегда есть. И пиво вкусное. И полицейские добрые. Всё лучшее…
– Палец сломаешь. Держи. Меня Игорек зовут. Я тут дворником служу.
Я оторвался от носа и взял молоток с зубилом. Через пятнадцать минут мы перебудили всех тараканов в доме, а зубило можно было выбрасывать.
Игорек смотрел на затупленный край инструмента и разве что не плакал:
– Мне ж его из Дублина привезли. С гарантией.
Видать, не всё лучшее.
– Так закалялась сталь, – кивнул я на поцарапанный замок.
В общем, кое-как мы справились. Замок стоял, и десять ключей были розданы. А пока мы кудесничали, Игорек вкратце рассказал мне о местной жизни.
На самом деле дверь могли взломать сразу. Но никто не решался на это без разрешения Мариночки. Мариночка была дочерью гэбэшника, народно осужденного и тайно удавленного в уборной по ошибке, вкравшейся в наводку. Самосуд не лучшим образом отразился на психике осиротевшей дочери, выявив в ней недюжинные способности к манипулированию людьми. На следующий день в квартиру вошли вместе с несчастной дверью люди в погонах и забрали всех. Когда через неделю половина жильцов вернулась под родную крышу, стало ясно, что в домовом укладе что-то поменялось. В первую очередь, злосчастная уборная перестала использоваться по прямому своему назначению. Мочиться на месте гибели отца считалось святотатством. Первого и единственного ослушавшегося еретика Мариночка собственноручно изуродовала так, что даже стоматолог разводил руками, пытаясь определить личность. Ночь, проведённая в казематах госучреждений, казалась безопаснее дня, прожитого в родных стенах. В туалете же сделали красный уголок, восхвалявший службу в ГБ. А отхожее место перенесли в конец коридора.
Вторым табу оказалось праздношатание в коридорах в половине второго ночи: именно в это время суток ошибочно был отправлен к праотцам горячо любимый отец. Замеченные нарушители карались вечером следующего дня путем сбривания бровей и прижигания солевым раствором. Заметивший нарушителя и донесший на него вознаграждался Прощением – так как по логике вещей сам находился в половине второго ночи в коридоре. Однажды, в один такой комендантский час отловили ночную бабочку и, не слушая увещеваний нерадивого клиента, продержали ее до следующего вечера и привели приговор в исполнение. Приехавший сутенер, обеспокоенный длительным отсутствием одной из своих жриц любви, безропотно забрал опустошенную наложницу, зная о нелегкой руке и психике Мариночки. Из происшедшего жильцы вынесли урок на всю жизнь: не заказывать проституток на час в половине первого ночи.
И третий столп, на котором держалось всё это маленькое королевство страха, был самым нерушимым: ключ. Всего их было два.
В ту ночь убийца проник в квартиру, открыв дверь своим ключом, потому как второй ключ лежал в штанах убитого. Преступник мог быть и не из числа жильцов, но ключ определенно получил от кого-то из местных. Мариночка жаждала найти виновного в смерти отца, и подозревала буквально всех, вплоть до приходящего слесаря. Сменить замок или сделать дубликат ключа считалось поступком пострашнее, чем нажать слив в красном уголке в половину второго пополуночи.
Было ещё с десяток других законов квартиры № 50, которые сменяли друг друга, в зависимости от погоды или настроения владычицы морской, но эти три первых не менялись никогда. Малыши разучивали по ним алфавит, старики – тренировали память.
Со временем всё это стало нормой. Даже чьи-нибудь набегавшие раз в три года родственники спокойно принимали Устав и послушно жили по нему всё время отпуска, рассматривая это как экзотику.
Прошло тридцать лет, а маринархат крепчал с каждым днем, пережив два культа личности и сохранив маленькое государство в государстве. Но, как и во всяком государстве, в квартире № 50 были свои доносчики, междоусобные войны и сопротивление. И если первые и вторые были делом обычным и явным, то третье, как и положено, существовало подпольно и решительно. Все понимали горе осиротевшей девочки, но не всем по душе было почти треть века жить под заскорузлой пяткой тиранши. Игорек по секрету сказал мне, что кроме всего этого он ненавидит в Мариночке ее «аппетитные груди и манящий зад». По-моему, он был тайно влюблен в нее.
Я не слишком-то верил в то, что он мне рассказал, но слушал очень внимательно, чтобы потом перенести всё на бумагу. И поэтому, когда с замком было покончено, я сказал Игорьку спасибо, вернул зубило и пошел к себе. Ради шутки сказал:
– Выходит, я Мариночке все карты спутал этим замком.
– Похоже на то, – задумчиво ответил Игорек.
– И что теперь будет?
– Да ничего, – ответил он, всё так же задумчиво почесывая подбородок. – Сожгут вечером на заднем дворе, и делов.
Но не ответ Игорька снял с моих губ улыбку, а тот страх, с которым он смотрел на новый замок. Впрочем, до вечера я еще мог, к примеру, съездить до Петушков и вернуться обратно.
И поэтому я решил потратить это время с пользой для души и вредом для печени.
Ждавший меня Паша очень долго не мог поверить, что я пришел сам, и при каждом удобном случае ощупывал мои колени. Примерно то же самое проделывал с моими бровями. Он был уже в меру пьян. Мы договорились встретиться в клубе Der Kafka. Конечно, ничего общего с австрийским классиком это место не имело.
Исключительность этого заведения была в том, что столики в нём бронировались не банальными звонками за две недели бенджаминфранклинами, а твоими планами на будущее. Ты рассказываешь управляющему историю о себе, он решает, где ты будешь сидеть. Ты говоришь, что придешь с другом – он вносит поправки. Поясняешь, что друг издалека – он подбирает тебе столик побольше.
Почти все говорят одно и то же: приятный вечер, выпивка, знакомства. Такими историями заполнен весь зал, и большинству отказывают. Паша же всегда знает, что сказать. На этот раз с ним был друг, обреченный на казнь через обезбровливание. Нам дали два места из пяти за «Столиком интересных судеб». Рядом стоял столик «Интеллектуальная солянка». За ним «Дикая шайка». Дальше я не запомнил.
Оставшиеся три места за нашим столиком долго пустовали. Я успел выпить весь заказанный вермут и уйти в туалет. Сцена гудела от веселых историй, бар был похож на улей в самый разгар трутневого дня, столики, как грибы, скрывали под своими шляпками ножки. Когда я вернулся, под шляпкой нашего столика уже было шесть миловидных ножек.
– Знакомься! – крикнул Паша, стоило мне выйти из туалета. – Лотта. Дюба. Тося.
Девушки сосредоточенно разглядывали извивающиеся спины в зале. Паша увлеченно рассказывал самому себе анекдот.
Стоило мне преданно кивнуть, как в пустеющую миску моей улыбки бросили сахарную косточку милого «Здрасьте». Пара горячих мясных салатов чуть растопила холодок в глазах прелестниц. Во всяком случае, та, что была в зеленом, радостно пискнула:
– Мясо!
На пальце Лотты сидело обручальное кольцо. Дюба рвалась на танцпол.
– Я в таких местах себя матерью ощущаю, – сказала одна из них.
Тося, доев свой салат, вылавливала мясо из второго.
– Это всё сцена. Это не я, – продолжила она незаконченный когда-то диалог. – Всё правильно. Хоть и неправильно.
– Почему правильно-то? – вскинулась Дюба. – Тома в больнице. Ставить некого.
– Зато есть, что другое ставить, – сказала Тося, взяв зубочистку и прикрываясь второй ладошкой. – Это всё сцена. Ее не обманешь.
– Так ты же сама еще не скоро выйдешь! А Томе бы играть и играть. Лучше нее тебя никто не заменит.
– Лучше меня никто не сыграет. А Тома… Это ж дубль. Плечо заживет. А мои роли дорогого стоят. Сцена чует, кто не свою роль примерил. А Дергач, может, чужой реквизит научится складывать.
– Ну, знаешь! – Дюба поднялась и перегнулась через стол. – Идёмте, Павел. Мне необходимо потанцевать.
И сжав Пашино запястье, она увела его в пучину танцевального смрада.
– Сцена, как шахматная доска, – без злобы, по-детски сказала Тося. – У каждой фигуры свое место.
И съела листик салата.
Я заметил на себе взгляд Лотты.
– По-моему, он гений! – сказала она.
– Что, простите?
– Я говорю: Кафка – гений. Вы не находите?
Тося посмотрела на меня и добавила, пытаясь перекричать музыку:
– Это всё от фамилии. Количество букв, ударение, гласные-согласные, понимаете? Фамилия важна для жизни. И для женщины. Вот у вас какая фамилия?
Я назвал.
– Так, – стянула пальцы в кулачок Тося и стукнула в ладошку. – С фамилией всё плохо.
– И всё-таки он – гений, – продолжила Лотта. – Ведь он ни одного произведения своего не дописал, превратив это в стиль.
Тося, держа в кулачке комочек из салфеток, танцевала, не вставая и подняв руки, будто держала в них шарф болельщика.
– А умерев, оставил недописанным последний свой роман, априори сделав его стилистически законченным. Ну, не гений ли? Истинный юрист! Умер, а процесс завершен.
Я возразил.
Лотта попросила не выражаться.
Я привел другой пример.
Лотта напомнила об обручальном кольце.
Я попытался объяснить, что не имел в виду ничего пред…
– Не распускайте руки! Охрана!
Ночные улицы после шумных заведений кажутся очень чистыми и родными. Я встал, отряхнул с себя крошки асфальта. Рядом, вся в зеленом, стояла Тося, разглядывая носки своих туфелек.
– Что делать будем? – спросила она.
– Мне домой пора.
На четвертом перекрестке я понял, что заблудился.
– Куда мы идем? – спрашиваю.
– Я иду домой. А вы идете меня провожать. Утром у меня кофе не будет, но и вставать рано не надо. Выспитесь.
Я вяло запротестовал, пытаясь сориентироваться. Тося продолжала:
– Я хочу туда, где тихо, тепло и нет людей. Вы пьяны, и вас могут ограбить. На Лотту не сердитесь. Ее муж очень любит книги. А она очень любит своего мужа. Но он, увы, очень любит свои книги.
– Да я, собственно, ничего такого…
– Вы, главное, ночью не перебирайтесь из своей постели в мою, тогда и утро встретите, как все.
Я решил промолчать. Мы всё еще шли по ночному городу.
– Простите, – прервала она недолгое молчание, – а вам не кажется, что было бы куда логичнее, если бы Черная Королева играла в крокет отрубленными головами, а не ежами?
Я хмыкнул. Она наклонилась к клумбе, мимо которой мы собирались пройти, и несколько раз сделала глубокий вдох.
– Ой, муравей! – радостно воскликнула Тося. – А вы никогда не задумывались, что нетронутая спичка, упавшая в муравейник, похожа на неразорвавшийся фугас времен Великой Отечественной? Пуфф, и всё…
– Это очень печально. Но лишать ежей работы я считаю просто чудовищным предательством, – шутки мои перестали метать искры, судя по всему, от удара о землю, так как Тося даже не повернула головы.
– Кстати, о предательстве, – подхватила она тему. – С кем это ассоциирует себя человек, когда называет предавшего его Иудой?
Честно сказать, я не очень обращал внимания на её вопросы, хотя и находил некоторые из них довольно занятными и пару раз даже попытался ответить.
– Говор у вас какой-то интересный, – сказала Тося. – У моей бабушки такой был. Там, где она жила, есть один странный свадебный обычай: молодожены после ЗАГСа едут на окраину города к памятнику Лосю. И закидывают ему на рога букет. Памятник высокий, сразу не попадешь. Так вот. Если сразу не закинул, то считай, сколько раз налево сходишь. И все так радуются, когда цветы мимо рогов падают. Представляете, от чего верность зависит – от меткости!
Я разглядывал звезды – от этого кровь из носа переставала бежать. Наверное, в Ирландии всё гораздо проще. И пабы без всяких заморочек. Хорошая страна, довольствуется малым. Один известный писатель, одна известная группа и всё – весь мир о них знает. Ну, еще леприконы и горшочек с золотом…
– Вам скучно? – спросила Тося.
И мне сразу стало скучно.
– Со мной никогда не бывает весело, – продолжила она. – То есть бывает, конечно, но я все шутки успеваю понять заранее, разложить по полочкам, проанализировать и не засмеяться, где надо.
– А где надо – что вы делаете?
– Ясное дело – молчу и слушаю.
Мне показалось, что из нас двоих один – сумасшедший. Внезапно в голове пронеслась картинка – через полгода в половине десятого она звонит и говорит, что приедет.
– Везу Додина.
– Куда? – спрашиваю у коротких гудков. Кладу трубку. Первое, что приходит на ум: лавина безграничной любви, сминающая под собой всё, что не успело убраться с дороги. Включая меня.
Она из тех женщин, которых уже нет на свете. Вообще. Совсем. Кончились. Больше не производят. Она любит задирать ноги, ест руками. Совершенно не умеет целоваться. В ее воображении, если попросить ее определить, что такое счастье, она нарисует Большой Зеленый Шар. Правда, если попросить меня, то я коряво, но честно нарисую ее.
Вижу, как она обязательно вытаскает половину порции из моей тарелки. Или съест свою, а потом котячьими глазами глядит, как ем я.
Безоговорочно (даже не обсуждается) перегладит всех животных на улице, пока идем домой. А потом еще меня этими руками… Буэ!! Вот и сейчас.
Фильмы смотреть с ней, наверное, муке подобно. Уверен, что болтает. Затылком чувствую, как вскакивает на кухню за чем-то. Или еще хуже – меня гоняет. И главное – бегаю!
А потом еще – смотришь кино с каким-нибудь хорошим актером, Марлоном Брандо, к примеру, и непременно посчитает своим долгом сказать:
– Он ведь уже умер, да? А, ты не знал?
Фильму тридцать лет. Актеру на тот момент – семьдесят. Нет, не знал.
Но, как ни странно, мне кажется, что там, через полгода, я счастлив с ней. Мне не страшно, увидев в телевизоре чернокожих женщин, сказать, что они симпатичные.
Глядя на нее, я думаю о чем попало. Смотрю на её нос и думаю о Великом Предназначении Человечества. Бывают же такие носы, на которые смотришь и на душе чувствуешь тревогу, а на сердце ответственность за всю Вселенную. Ее нос как раз из таких. Сколько он ещё таким будет?
Вижу, она всё время говорит, что я должен стать миллионером. А если не стану?
Вот я. Средней руки менеджер, ищущий счастья, жаждущий мести. Каждое утро исправно опорожняющий кишечник. Каждый месяц покорно погашающий кредит. Четыре раза, по пятницам, продавливаю кресло у барной стойки. Три раза в «Клондайке», один – в «Халермусе». Каждый раз вижу от трех до двенадцати женских улыбок. Тридцать из ста их процентов имеют продолжение. Примерно три пятых дотягивают до конца. Приблизительно две кончают. Я, по обыкновению, засыпаю. Наутро никого.
Как правило, такое происходит около раза-двух за полтора месяца. Все, что в промежутке – менеджер средней руки. Точнее – правой. Живу во грехе, одним словом.
Но так до недавнего времени. Потом пришла она и увела меня в свою тихую невинную красивую жизнь. Но она пока об этом не знает.
Вообще мужчинам нравятся тихие девочки. Правда, есть обманувшиеся… Нервные птички в моих нервных клетках до сих пор прийти в себя не могут от прошлых отношений. Еле живой ушел. Всё еще сплетни с плетью по городу бегают. А казалась поначалу – как ангел!
Зато тут, как в Багдаде. Хотя, свои тараканы тоже есть. Вижу, как верю в карму и боюсь тонких тел. Но в мир сандалий, сгибателей ложек и любителей йогуртов меня не тянет. Погостил, и хватит.
Вижу, как она уже везет ко мне пятитомник Додина и свою зубную щетку. Свежая дыра в книжном шкафу и стакан в ванной ждут.
Что же дальше?
А ведь никто, никто так не будет замечать, как я, что она до безумия боится бабочек и до беспамятства влюблена в муравьев. Летучие мыши для нее – самые красивые существа на свете. Их носы – само совершенство. Только я об этом знаю. Только я знаю, что она готова часами разглядывать мертвых щенят на обочинах дорог и растерзанных птиц. Не то, чтобы у нее с головой размолвка, просто она видит в этом что-то, и это замечаю только я. А потом снова никто замечать не будет. Скоро. Через год-полтора? Такое ведь уже было. Не впервой. Перетерпим. По вечерам холодно как-то стало. Или это от тоски? Невыносимое чувство, когда ты всё уже знаешь, а другому еще только предстоит узнать…
Жизнь вообще застала меня врасплох. Седой клок тому доказательство. Я неожиданно понял, что скоро тридцать. И деревья давно уже не такие большие.
– Вот мы и пришли, – прошептала Тося. – Только тише, пожалуйста. У нас тут строго с этим.
Мы крались во тьме, казалось, целую вечность. Пару раз я даже почти заснул. Тося просила не шуметь через каждые три метра.
Аккуратно скрипя половицами, мы добрались, наконец-то, до ее комнаты.
Она включила свет, я снял ботинки, и на этом романтика взяла паузу.
– Давайте только быстро-быстро ляжем спать, а то я с ног валюсь.
Пока я решал, как лучше переодеться: за шкафом и пройти в исподнем к лежбищу, или дождаться, пока погасят свет, и снять одежду в темноте, Тося уже постелила мне, как и обещала, на полу, переоделась сама и распустила волосы.
– У вас нет воды? – спросил я.
– Нет. На кухне есть. Но я туда после шести не хожу.
– Диета?
– Нет, тараканы. Можете сходить, всё равно вы еще не разделись. Или так и будете спать в пиджаке?
Сама она тут же легла и отвернулась.
– Когда будете выключать свет, – зевнула она, – давите сильнее на клавишу, она заедает.
Через минуту я услышал мерное посапывание.
Я разделся, сразился с выключателем, спьяну забрался под палас, но в итоге все-таки уснул там, где мне и постелили.
Под утро захотелось в туалет.
Превозмогая боль и унижение от спанья на полу, я кое-как нашарил во тьме дверь и вышел в коридор. Как в стоячем вагоне, я шел мимо дверей комнат, оглушаемый всевозможными вариациями храпа. Отлично помню, что как минимум два человека посредством этого недуга умудрялись переругиваться.
Ежась от холода, я обнаружил-таки очень нужную мне дверь и скрылся за ней. Спросонья я не сразу обратил внимание на внутреннее убранство общественного места. Фотографии, цветы, свеча и другие, оставленные не к месту, вещи навевали странные мысли у меня, сидящего на холодном, чуть старомодном унитазе. Закончив, я дернул слив и вышел обратно в коридор.
И чуть не упал от крика, раздавшегося у меня над самым ухом:
– Марина! У нас нарушитель!
Сказать, что я был ошарашен осознанием того, что вслед за Тосей пришел в квартиру, в которой должен был жить изначально – значит, практически никак не обозначить мое удивление. Я был в растерянности.
Я сидел на кухне, в центре, на жестком табурете. Вокруг меня собирались заспанные, зевающие люди, поглаживая голые плечи и щурясь от яркого света. Кого-то я знал в лицо, кого-то по наколкам, кому-то улыбнулся, кивнул, не получив в ответ ничего. Люди отводили глаза, стараясь никак не обозначать хоть малейший контакт со мной. Пару раз мелькнуло лицо Тоси. За окном светало.
И тут в кухню вошла она.
Гнев в глазах Мариночки очень сильно контрастировал с холодным спокойствием, сопровождавшим каждое ее движение. Судя по тому, что она просила передать, подержать, зажечь, перевернуть, разложить, я стал догадываться, что общее собрание жильцов не ограничится одним только сбриванием не сильно мешавших мне бровей. Хотя, признаться, я и в само сбривание-то верил с трудом. А поди ж ты.
Узурпаторша начала что-то говорить, словно молитву или приговор. Меня грубо и сильно схватили в шесть рук, кто-то подал Мариночке странной формы раскаленную дугу, и она стала приближать ее к моему лицу.
Пространство огласил дикий, нечеловеческий вопль. Мариночка подняла бровь. Кто-то подбежал к окну.
– Что там?
– Игорек как будто… На земле барахтается…
– Сука! – кричал с улицы Игорек. – Твою мать! Ааа!..
– … ругается.
– Все вниз, – скомандовала Мариночка.
В суматохе про меня почему-то никто не забыл. Держали под локоть, толкали вперед, вниз по лестнице, к выходу, во двор.
Игорек лежал на асфальте, извиваясь, словно над ним проводили обряд экзорцизма. Но лужа крови, расходящаяся под ним, возвращала к более реальным выводам. Рядом валялись метла и совок. Чуть подальше, вгрызшись в асфальт, торчали тяжелые латунные часы.
– Мама! Мамочка, как больно! – вопил несчастный.
Мариночка склонилась над ним.
– Это сверху, что ль, шлепнулось? – все поочередно задирали головы вверх, пытаясь вычислить окно.
– Да я поди-ка знаю, чьи это часики, – сказал кто-то рядом со мной. – Это ж буйного этого, с пятого этажа. Ты смотри, а! А если б чуть в сторону – и по башке. И всё – не жить.
– Да лучше б не жить, – сказала вдруг Мариночка и сдернула что-то, торчащее из-под майки Игорька на веревочке, обвивавшей шею.
Все затихли. Даже Игорек умолк и слегка приподнялся на здоровом локте.
– Мариночка, милая, – зачастил он, – я всё объясню. Жизнью клянусь! Я не специально.
– Жизнью ты зря клянешься, – сказала Марина задумчиво. – Нет ее у тебя больше.
В руке у нее лежал старый ключ. А через секунду она достала из кармана своего халата второй, точно такой же.
Тут меня кто-то пихнул в бок. Я оглянулся. Всё это время под локоть меня держала Тося. Она протянула мне джинсы и мотнула в сторону арки – выхода из двора. В руках у нее был мой портфель и остальная одежда.
– Марина, – взывая к благоразумию, посерьезнел Игорек. – Я не мог иначе… Твой батя не дал бы… А я с тобой хотел. Всю жизнь, Марина!.. С тобой хотел…
Мы аккуратно вышли из окружения, я натянул джинсы, и уже за домом мы бежали, не оглядываясь, пока не кончились силы.
– Тебя ж казнят, – на полном серьезе сказал я Тосе, пытаясь отдышаться. – Ты же помогла беглому преступнику.
Тося жадно глотала воздух:
– Да нет… не казнят. Она моя тетка (на этих словах я чуть попятился). Не бойся. Даже если что-то и поймут… у них же праздник сегодня. Ты представляешь? Больные люди! Я даже думать не хочу, что там сейчас происходит.
Мы стояли на Большой Никитской, провожая взглядом поливочную машину.
– А тебе часто везет на таких, как я? – я посмотрел Тосе в глаза.
– Да нет, – ответила она легко, – я вообще невезучая на этот счет. Это, скорее, тебе повезло со мной.
Я улыбнулся.
– Мне как-то Пашку сейчас найти надо. У него мои книги. А до поезда часов девять осталось.
– Давай позвоним ему.
– Я номер не знаю, потерял бумажку.
– Я знаю… А что ты смотришь? Думаешь, как он тебе комнату нашел? – она улыбнулась. – У нас везде свои люди! Лишь бы он дома был.
Паша ответил сразу. Мы договорились, что он подвезет книги на вокзал.
Тося провела со мной весь день. Мы гуляли по Арбату, по Тверской. Хотели обойти Садовое кольцо, но сил и времени уже не хватало. Она показывала мне различные важные и значимые места, но я ничего не запоминал. Даже не пытался. Я просто бродил по Москве. Рядом.
Паша поставил книги на перрон.
– Слушай, старик. Я за эти два дня с тобой так намучился, как со своей бабушкой не получалось. Не приезжай больше.
Мы обнялись, и Пашка исчез в толпе.
Двери вагонов открылись, и пассажиров стали пропускать внутрь.
Я посмотрел на Тосю. Нужно было что-то сказать. На прощанье. Просто так.
– Скажи, а если бы тебе предложили счастье вне очереди, ты бы согласилась?
– А что, счастье получают в порядке очереди?
– Всё зависит от того, за кем ты стоишь, или кто за тобой.
– Но ведь кто-то устает ждать и может уступить свое место другому.
– Да. Может и так быть, – мысль зашла в тупик. Я чувствовал, что нужно было сказать что-то еще, но не мог нащупать нить.
– Ты еще приедешь? – спросила Тося.
– А ты хочешь, чтоб приехал?
– Ну, ты же ждешь своей очереди, чтобы получить свое счастье.
– Ты предлагаешь мне занять очередь?
– Да. Пока место свободно.
– Хорошо. Тогда вот что, – я посмотрел поверх голов и чуть повысил голос. – Кто крайний в очереди за счастьем?
– Я! – звонко ответила Тося.
– У вас тут не занято?
– Нет. Это ваше место.
– Отлично. Только я отъеду ненадолго. Если что, скажите, чтобы здесь не занимали.
– Обязательно. Но вы возвращайтесь. Будет на что посмотреть. Только не оглядывайтесь.
– Почему?
– Просто. Не оглядывайтесь…
И вот я уехал, а она стала маленькой точечкой. Я еще вижу её улыбку, но уже совсем не вижу её саму. Вместе с городом, со всеми его проводами и ливневками, грохотом и голосами, каналами и облаками. Сейчас туда ведут две рельсы, и те сливаются в одну сплошную ближе к горизонту.
Мне не хватило времени, но я не могу понять – на что я его потратил? Ушедшее время диктует нам лишь то, что мы утратили его, а не возможность. Не силы, не красоту, не собственное понимание или осознание, а лишь время. Пруст искал его на протяжении семи томов. У меня есть только один. Конечно, дела земные, сотворенные в этом утраченном времени, останутся невостребованными и занесенными пылью, но останемся мы, живущие своё время дальше. И могущие творить свои земные дела дальше и дольше. Время как неостановимый бесконечный товарняк, с которого мы то и дело сбрасываем – как сломанные вещи – старые знакомства, токсичные отношения, неудачные браки, обманутых детей, злых жен, безвольных мужей. Хотя «сбрасываем» не совсем верный глагол; скорее – перебрасываем со своего состава на другой. Что-то навсегда теряя меж путей, часто не задумываясь о том, как им там будет. А иногда и сами вслед за ними встаем одной ногой на крышу их вагона, не в силах остаться целиком на своем, или же, наоборот, спрыгнуть с него, роняя из карманов какую-то мелочь, значившую когда-то так много, а теперь лежащую, ржавеющую, едва различимую среди гальки меж закопченных, промасленных шпал. И сколько таких составов мы сменим за свою жизнь? Два-три? От силы пять? Кто-то более легкомысленный ведет счет на десятки. А кто-то, более доверчивый, каждый раз – поверивший…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































