Текст книги "Путешествия любви"
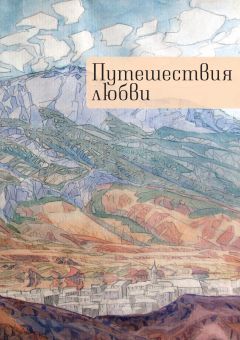
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Я… я…
– Прости меня, Мамонтик, но сегодня я не буду рассказывать тебе сказку. Сегодня я её тебе покажу.
Мамонт обескураженно стоял, стеснительно прикрывая шатающийся бивень. Царица фей выбралась из очереди, на ходу сбрасывая рюкзак. На нее никто не смотрел. Все о ней уже забыли. И только Мамонт умоляюще мотал плешивой башкой.
Титания озорно пританцовывала, корча рожицы, и, словно фокусник, извлекла то, что всё это время искала в карманах.
Черные, похожие на сложенный зонт, перепончатые крылья расправились, просвечивая лучами осеннего солнца. Царица фей воздела над головой летучую мышь. Изящная кисть Титании подергивалась от рвущейся на свободу твари.
Мамонт еще более учащенно замотал головой. Из набрякших мешками глаз потекли увесистые слезы. Он отнял руку от бивня, протянув жестом просьбы, просьбой оставить всё, как есть. Сохранить то шаткое равновесие, к которому привыкли его несущие земляной шарик плечи. Но Титания была неумолима в своем желании показать ему сказку.
Летучая мышь остервенело грызла руку царицы. По сжатому кулачку Титании стекали тонкие струйки крови, остывая под ногами чернильным крапом. Царица слегка морщилась, но торжествующая улыбка не сходила с ее уст. Кивнув Мамонту, она обнажила белоснежные зубки и откусила голову твари. Крылья, в последний раз расправившись, обмякли и сложились навсегда.
Мамонт прежде не видел, чтобы в человеческих глазах помещалось столько безумия. Только однажды у одного бедолаги, прибитого к двум перекрещенным жердям, наблюдалось нечто похожее. Впрочем, Мамонт знал, что когда столько безумия поселяется в чьих-то глазах, они навсегда перестают быть человеческими.
На губах царицы пугающе пестрела черно-бурая кровь. Титания смешала человека со зверем, чтобы перестать быть и тем, и другим.
Мимо очереди проходила старуха, с брезгливостью поглядывая на бездомных. Титания, не отрывая глаз от Мамонта, рывком притянула ее к себе и, словно любовницу, перегнув через бедро, одарила продолжительным поцелуем. Мамонт ощупал бивень. Он больше не шатался.
С воплями старуха вырвалась из объятий. Откашливаясь кровавой слюной, бросилась к людной остановке, где раскидала себя по толпе, взывая о помощи и щедро делясь подарком царицы фей.
Мамонт почувствовал неладное. Вопреки законам дня он вдруг начал вырастать над очередью, его ноги телескопически удлинялись, вновь превращаясь в стройные сосны, а из хобота вырвался оглушительный трубный зов, разнесшийся до самых городских окраин.
Когда Мамонт навсегда покидал очередь, на нем уже гордо восседала обнаженная и прекрасная царица фей. Жар ее лона щекотал щетинистый загривок, а где-то на окраинах последний зверь мифа спустился с мусорной насыпи. Продравшись через ельник, обступавший свалку, он, прислушиваясь, вышел к городской черте. Зверь был еще слаб и изувечен, но глаза уже разгорались карим огнем. Тур сделал шаг к городу, а лес за его спиной задрожал от набегающего топота.
Любава Горницкая (Ростов-на-Дону)
Ничейные дети
Ехать к детям без оружия Одиноков не решался. Табельного ему не полагалось. Но на остров Зелёный соваться без револьвера – не вернуться. Без того место гиблое. Анечка предупреждала: не ходи, не вздумай, поберегись. Еë волосы выцветали на буроватой фотокарточке. Анечка она как все кладбищенские. Несчастье чует.
Познакомились-то с ней, красивой, давным-предавно. В двенадцатом году, на Всехсвятском погосте. Лето стояло ветреное. Когда Одиноков клялся торжественно древнему эскулапу Гиппократу, губы иссохлись да потрескались.
Меж прогнивших крестов да косых оградок днюют и живые. Так, дурью маются. Декаденты, или как их там, болезных. Анечка носила вуали-соты и волнистые платья ночных цветов. Курила трубку, кашляла дымом. Наизусть знала страницы из романа модного писателя-истерика. Вязкая история, душная. «Навьи чары». По таким книгам, позвольте, диагнозы ставят. И, конечно, умела толковать приметы и суеверия. Она-то и рассказала Одинокову о том, что на острове Зелёном время становится, и мëртвые бродят наравне с живыми. Тогда он, только выпустившись, уже начинал практику хирургии. И верил в чертовщину не более, чем в приличное жалование. Потому все бредни о жертвенных капищах терпеливо слушал только ради последующих поцелуев. Но вот же. Припомнил. Десять лет прошло с их первого свидания, год уже, как он перестал мотаться по степи и осел в Ростове. А всплыло в голове лишь сейчас. Хотя чего бы. Подумаешь, командируют. Ну, приют для бездомной детворы. В скверном месте. Так там инспекции на день. Быстрый осмотр и назад в город, до темноты. Только револьвер бы. На всякий случай.
Зелёный тянулся к Ростову когтистыми деревьями с воды. Нормального моста туда не водилось. Один понтонный: плавучий, разборный, недоступный большую часть года. А ещё – не было там жилья. Ни во времена купеческие, когда искали выгоду в каждом клочке земли. Ни нынче, в тревожном новом мире. На весь остров – единственный дом. Приютивший воспитательную богадельню для дефективных. Диво-дивное, по нынешним меркам. В газетах не отпишут, побоятся. Но так-то местные знали: по Донской области голод катится липким комом. Прибирает малолеток. В одном Первом Донском округе девятнадцать детских домов уже прикрыли. А сколько на очереди? Тут, в Ростовском уезде, было посытнее. Но дом призрения на Зелёном казался нелепицей. Да и мёрли там, как мухи. И не с голодухи или от чумы с холерой. От неведомой хвори. До больниц в город пациентов не довозили. Живыми, ясное дело. Слали исправно отчёты с сухими сводками смертей. Вот и отрядили человека на осмотр. Надëжного, с опытом. И – как Одиноков верно угадывал про себя – такого, что и не вернётся, так беды мало.
Переправившись на ялике, Одиноков зашагал по осенней лиственной каше, замешанной на бурой грязи. В роще бестолково отсчитывала земные сроки кукушка. Давно зажившая нога привычно поднывала ниже пулевого шрама под коленом. Лёгкая хромота уже не мешала ходить. Кость цела, остальное маловажно. Кажется, эти слова он и говорил, морщась от боли, после того, как сам извлек пулю из кровоточащей раны. Тому восторженному мальчишке, красному комиссару, что по зиме белые утопили в речной полынье. Патроны экономили, обычное дело. Впрочем, неважно.
За деревьями Одиноков легко различил косую ограду-плетень. Ведьмин частокол. Голов не хватает. Он прятал от леса приземистый белый дом. Перед крыльцом, у цвелой лужи, копошились дети. Им было не до гостя по ту сторону плетня. Дети играли.
В центре круга лежала девчушка, с виду лет пяти-семи. Смоляная ворона, неясно своей ли смертью издохшая, припала к еë плоской груди, распластав крылья. Руки девочки перекрещивались на спине мëртвой птицы, босые ноги были плотно сомкнуты, и на пальцы оказалась щедро насыпана жухлая выгоревшая трава, мелкие камешки, пыль и всякий сор. Остальные шестеро малышей – пара мальчишек и четыре девчушки, мал-мала-меньше, – обтекая лежащую, цеплялись за руки, кружились хороводом, мычали заунывно. Одиноков кашлянул. Нарочито громко. Круг распался, мелкотня ринулась врассыпную. Девчушка поднялась, стряхнула птицу и замерла, глядя на чужака исподлобья. «В городе юки, юные коммунисты, или как там их, первооткрывателей, кличут. Отряд «Спартак». Полезным заняты. А тут дичь да блажь. И зараза от мертвечины». Мысль была верная. Первая. А второй скользнуло понимание, что хороводная забава Анечке понравилась бы.
Девочка не отводила взгляда. Злые тëмные глаза сочились любопытством. Одиноков улыбнулся криво. Обращаться с детьми он не умел. Лечить – всегда пожалуйста. А дальше – без него. Рос он один, без сестёр и братьев. А с Анечкой малышей так и не случилось. О первенце их он узнал в святки. Проговорилась ненароком: ходила к старухе – плод травить. Куда ей обуза, молодая, жить хочется, жить! Во всю грудь, чтобы ненасытно соки счастья пить из серебристых бокалов, таких нелепых в еë нищей угловой комнатушке-гробике. Второго ребëнка, долгожданного, Анечка потеряла от скверного пропитания и вечных волнений, уже в Гражданскую. Одиноков таскал ей столько снеди, сколько умел добыть честным путём в лютый голод. Да вот не хватило. После чистки она лежала бледная, цеплялась за руку и молчала. В палате было тихо и душно, несвежие простыни тяжело разили потом. У высокой кривой койки стоял таз с липкими бурыми сгустками.
– Будет ещё у нас всё, – пробормотал Одиноков сипло.
И щупал чужое запястье. Ловил пульс.
Если у него ещё и зачинались да заканчивались дети, так он не знал. Анечка замалчивала.
Ввинтившись в калитку, он безразлично обогнул девчонку. Мельком определил, что ворона у ног еë – свежая. Разложилась мало.
– Не спи, дяденька! И окна закрывай! – крикнули ему в спину писклявым голосочком.
«Об антисанитарии доложить надо. Хотя, в городских приёмниках разве лучше? «.
Директрису звали Изольда. Женщина без возраста, тонкая, высокая, полностью седая. Седина не признак старости. Седым был и тот вечно усталый белый офицер лет тридцати, что привозил Одинокову новых раненых на операции. Кажется, это его потом закололи штыками красные у стены Всехсвятского храма. Неважно. Одиноков сухо озвучил цель инспекции. Директриса пожала плечами.
– Смотрите. Выделю комнату, обеспечу посещение. Сейчас у нас больных нет. А прошлые давно уже в земле.
Пол в директорском кабинете блестел стерильной чистотой надраенного паркета. Одиноков старался смотреть прямо перед собой. Мутило памятью.
Осмотр намекал: спровадили его сюда зря. Вши, дистрофия, ногтевая плесень – набор обычный для ничейных детей при минимуме ухода. Личные дела обозначали возраст пациентов: от пяти до десяти полных лет. Дефективные морально, некоторые с умственной отсталостью. Тихие, вялые, без обычной для их лет живости. Послушно раздевались, разрешали, не капризничая, изучать кожный покров и слизистые. Оживила дело только бывшая владелица мëртвой вороны. Не ушла сразу после отрывистого: «Свободна. Зови следующего». Помялась, переступая с ноги на ногу. Взяла, да и сунула деловито Одинокову в ладонь тряпицу, из которой торчали сухие, горько пахнущие стебельки.
– Это ещё что?
– Одолень-трава, дядя, – девочка хихикнула, и эхо задякало по углам.
– Какая-какая трава? – название показалось незнакомым.
– От печали. Вам надо.
Выбросить, наверное, стоило всё же, когда дарительница не видит. Одиноков кивнул девчушке. Тряпица казалась жестковатой на ощупь. Пока сунул ненужный подарок в карман, к анечкиной фотокарточке.
Стоило отбывать. За окнами начинало сереть. Но бледная Изольда справилась тихо, когда он зашёл в кабинет попрощаться:
– У вас своя лодка?
Одиноков покачал головой. Почти угадывая, что ему сейчас скажут.
– Так куда вы, товарищ, собрались? В это время с острова только вплавь. Утром нам провизию подвезут из Ростова. В самую рань, с рассветом, до завтрака. Тогда и вернётесь. На ночь я вас пристрою. Дом большой.
Стоило, конечно, позаботиться самому об обратном пути. Проморгал. Раньше дела не имел с островами. Всё детство пролетело безвыездно в тихом углу города, в доме с плачущим вальсами пианино. А в Гражданскую мир расширился до прокаленной жаром степи. Там-то он знал, как беречься. Степь – скверное место для войны. Открытое. Поди найди, где спрятаться от шальной пули. Зато конным есть, где разойтись, да и для рукопашной раздолье. У островов же своя жизнь. Тут, конечно, не Беловодье и не Буян. Просто Зелёный. Подростовье. Глухомань. Вместо берëзок вверх корнями и камня-алатыря – одолень-трава тëмно-глазой девчонки.
– Да уж позаботьтесь, – кивнул директрисе Одиноков.
Бедро жало пустотой. Отсутствием револьвера.
Комната, выделенная для отдыха, меблирована была скудно. Колченогая кровать с провисшей ржавой сеткой и пустой шкаф со стеклянными дверцами. Одиноков не стал расстилать бельë. Лежал, рассматривал тёмную тень на потолке. Под боком валялся мешочек с сухой травой и фото Анечки в венке из искусственных цветов, изображавшей в кадре дриаду. Спать в незнакомом месте не хотелось. Лучше дома, утром, отдохнуть.
Началось за полночь. Бледная звёздочка полетела вниз, к лесу, отчеркнула раму из края в край. По коридору зашлëпали босые ноги. Дети или другие существа дëргали ручку закрытой на щеколду двери, хихикали, скреблись.
– Ша! Хорош баловаться! – прикрикнул Одиноков.
Мычали, как прежде в хороводе. Перешëптывались и дышали. «В окна бы не лезли. Стекло. Порежутся, бинтовать,» – мелькнуло в мыслях.
С чего бы им лезть? А с чего бы болеть и помирать?
Одиноков погладил фотокарточку кончиками пальцев.
Анечка-Анечка, где твоë тело? Я хотел, так хотел, чтобы всё случилось как положено. Дарил мохнатые астры, которые ты любила. Нанимал извозчика в синематограф. Я всегда, везде хотел правильно. Математика, логика, медицина. Зараза имеет источник. Легко угадать. И ты исправляешь, врачуешь хвори. Спасаешь живое от нежизни. Анечка-Анечка, разрыв-трава открывает любые замки. И, если женщина изо льда их не удержит, они войдут ко мне. Зачем войдут? Разрыв-трава разорвала нас с тобой, разбросала. Она растёт на пятнистых обоях нашей комнатушки. В доме у железной дороги, где лунные бокалы дрожат под паровозные гудки. Поезд увезëт нас в Петроград, к твоим манерным писателям, к моему лучшему госпиталю с обширной хирургической практикой, к водам тёмных каналов, к островам, откуда можно выбраться без урона. Но разрыв гниёт, разрыв прорастает сорняками. Отпусти меня, Анечка, отпусти!
– Дяденька, открой! Пошли с нами, играть!
Одиноков на всякий случай встал. Прикинул: этаж первый, прыгать невысоко. Хотя, если за дверью просто малолетки дурачатся, чего пугаться? Да и не войдут они, пока сам не позовëт. Не смогут.
– Отвори! Мы тебе еë покажем, дяденька! Невесту твою!
Мы должны были бы венчаться на том кладбище, где гуляли по аллейкам. В храме Всехсвятском. Под которым крестики с именами и нету, нету общих солдатских могил. Когда ты держала кружку с горячим, смешно мизинец выпячивала. От тебя пахло дешëвым табаком и мятными леденцами вперемешку. Ты злилась на имя Анечка, как на всякую неловкую ласку. Анна, только так, целиком и полностью.
– Спать вам пора, – пробурчал в сторону дрожащей двери Одиноков.
Свет в комнату пробивался холодный, от полной луны. Сильно пахло мелом от чисто выбеленных стен. В стекле шкафа кривилось отражение. Умом Одиноков знал – его. Но вглядываться не стал. Он ещё в подвалах вглядываться отвык. Врача звали, чтобы привести в себя очередного служивого, до того как спрашивать дальше. Хирург им был бы ни к чему, обошлись бы и фельдшером. Только вот притаскивали первого попавшегося из госпиталя неподалёку. Помогай, мол, или подменишь бедолагу. Одиноков научился забывать увиденное, равно как до того отстранялся от стрельбы на улицах. Дома Анечка. Если он тут сгинет, кому её кормить? Пол был чистый от частого мытья. Пачкался. Прибраться надо. Одиноков даже и не запомнил: при красных это упало на него или при белых? Армии часто менялись в городе. Он не различал. Больные и так и сяк не переводились.
Дети замолчали. Может, надеялись, что гость решит проверить: ушли или нет. Сидели в засаде, мышата бестолковые. Оди-ноков развернул тряпицу и вдохнул терпкость одолень-травы.
А надо было уходить в Крым, а оттуда пароходом в турецкие края. Корабли-корабли, красное-красное синее море. Гимназические товарищи предлагали бежать. Говорили, мол, припишем к армии. Только нужен он им был без спутницы. Вот и остался. Анечка-Анечка, а нет, совсем нет никакого правильно! Есть болезнь-память, и она одолевает, она грызëт. И через реку, на дальних островах, собирают ежевику мои мëртвые. Ту самую ежевику со старой дачи, где мама в кружевной шали стоит на крыльце. Улыбается. Слушает, как отец в доме играет на пианино. И мне пять лет, и кажется, что впереди ещё много-много жизни, и ничего не кончилось.
Анечка отворила дверцы шкафа. Высвободилась из отражения, шмыгнула в комнату. Ноги еë, видневшиеся в прорехи рваного горелого платья, ещё не поджили, цвели сине-чëрными пятнами. Волосы вороньего цвета были всë так же аккуратно убраны в узел на затылке, как и обычно. Подошла сзади, обняла за плечи руками теплоты стылого хрусталя. Сопротивляться бы. Да зачем?
– Набродился по степи?
– Я ведь в военврачи подрядился, чтобы забыть. Как ты… Как с тобой… Как тебя…
– Глупенький какой! – смех был завораживающий, русалий.
– Посидим рядом? Я наглядеться хочу. До крика петушиного.
Сетка скрипела под ними, прогибалась. Одиноков водил пальцами по резаным ранам на буреющей коже со следами земли. «Девку твою конные сволокли по вечеру. Ты погоди, может, вернут ещё». Нашëл он сам. Обошëл, что мог и нашëл. Хоронили в закрытом гробу. Некрасивая она стала, совсем некрасивая…
– Я в ту ночь, когда дежурил, не думал, что тебя утащат. Остался бы.
Анечка мурлыкала немую песню, ту же, что у кружащихся в хороводе. Звезды падали за подоконник. Одиноков дышал с ней в такт, чтобы не слышать, как скребутся в дверь их нерождённые дети. Когда зарозовело рассветом, неохотно отодвинулся к ржавой спинке кровати с крупными металлическими шарами.
– Пустишь меня с острова?
– Я-то да. А ты себя – сможешь?
Он кивнул, запоминая жадно лицо, запах, ощущение от её кожи и платья. Прощаться долго Одиноков никогда не любил.
На лодке с оказией он добрался к городу. Дон – река глубокая, но узкая. После стоял на берегу, смотрел в мутную воду на отражения дома и людей, медленно сворачивающиеся в черноту, под которой лишь водоросли и ил. Неподалёку пара крестьянской наружности перебирала свежеотловленную сельдь из самоделковатой сети. Крупную бросали в ведро, мелкой делились с облезлой чëрной кошкой, умильно мурлычащей у их ног.
– И когда там чаво построют? Пустует свято место, – пробурчала баба, косясь на зелёную кляксу острова.
– Кабы свято… – многозначительно протянул мужик.
Одиноков отвернулся от реки. Ступая по сырому песку, он и не приметил как обронил фотокарточку. Ростов акварельно окутывало утренним туманом. Лаяли дерущиеся у рыбацких хибарок собаки. Влага в воздухе затрудняла дыхание. Пахло жизнью.
Денис Кожев (Ижевск)
Только не оглядывайся…
(почти реальная история)
Есть среди нас люди, которым хронически не везет в жизни. Дворник Игорь из их числа. Писать про таких несчастных – кощунство, но обходить стороной причины их невезения – непростительная халатность.
Два месяца назад на Игоря набросилась свора собак. Просто за то, что он бежал в туалет.
В детстве, поскользнувшись, он так сильно упал в ванной, что почти навсегда отказался от мыла.
В родильном доме нянечка, запеленывая младенца Игоря, перепутала свертки и бросила страдальца в корзину с грязным бельем. Но всё обошлось – его нашли, простукивая палками белье на предмет попадавших туда санитарных уток.
Отец Игоря (тот, что биологический), исполняя супружеский долг своего соседа в отсутствие оного, неожиданно замер и как-то смешно ойкнул. После чего, ссылаясь на совесть, сказал лежащей под ним соседке:
– Нам нужно расстаться, – и на следующий день уехал в неизвестном направлении.
Через тридцать с половиной недель у четы Непухиных родился первенец. Счастье пришло в их дом. Особенно счастлив был глава семейства, вернувшийся из двухлетнего плавания.
Дворник Игорь уже давно смирился со всеми бедами, которые сыпались ему на голову. Иногда даже в буквальном смысле – в виде окурков. И поэтому перестал гадать, где, а главное – за что он понесет очередное наказание.
Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Порой даже в туалет выходить не стоит…
Поэт Соухин ходил из комнаты в комнату в поисках рифмы. На часах было двадцать минут позднего. Строфа мучительно тяготилась своей неполноценностью. Она не давала поэту спать. В конце концов поэт дошел до ручки и, потянув дверь на себя, заглянул в туалет. Ему хотелось серьезных мыслей. А также литературного признания. Немного гонорара. И чуть-чуть выпить. Иногда выездных симпозиумов. С милыми и безотказными официантками. И чтоб на всю ночь. Но рифма не шла. Смыв за собой, он прошел в кухню.
– А может… – шевелил он губами, – …может…
Холодильник застучал компрессором, вытащив ненадолго поэта из забытья. Соухин заглянул внутрь. Поблескивая прозрачным стеклом, на него смотрела рифма.
– Как пошло, – пробормотал он и, достав бутылку, налил полста.
Муки творчества, словно мухи, роились над головой. Мешали вдохновению зайти на посадку. Соухин встал и измерил шагами кухню. Два раза. От двух в ширину до пяти в длину.
– У кого-то это уже было, – подумал Соухин вслух.
Мухи переместились к кастрюле с супом. Суп не трогали вторую неделю. Соухин жил в полном одиночестве уже полтора месяца. Жена ушла от него к пианисту Таинскому. Соухин был пару раз на его выступлениях. Один раз плакал и два раза крикнул «Браво!». Тому платили за ритмы. Плюс контрамарки в Большой. Рифмы он брал у Есенина. Не утруждаясь. Жена млела от берез, собранных в одну строчку. После ее ухода Соухин еще раз побывал на концерте ненавистного фортепьянщика. Через двадцать минут его вынесли из зала с фрагментом пиджака Таинского в руке и сломанным носом. Попытки вернуть жену были исчерпаны.
В редакции журнала на него посмотрели косо, но колонку выделили. Срок подходил к концу. Оставалась ночь.
Всхлипнув, Соухин прошел в библиотеку. Гордость поэта молчаливо взирала с полок. Беззвучный диалог в четвертый раз за ночь сводился к мучительному шепоту в кулак. Рифма нахально сопротивлялась. Соухин взял Гете и вернулся в спальню.
Ночная муза, недавно посетившая поэта, немного посидела и ушла. В комнате остался запах духов и визитная карточка. Руки поэта еще помнили тепло упругих ягодиц. Исцарапанная спина бодрила.
На кухне звякнуло.
Самостоятельный Нобель, мурлыча, доедал краковскую.
– Ах, ты ж с…! – творец швырнул в кота «Фаустом».
Нобель невозмутимо уклонился от поэмы и, спрыгнув на ковер, растворился во тьме. «Фауст» угодил в бутылку и, досрочно освободив крепленого гомункула, разлил его по полу. На газете остались полста в рюмке и кружок сырокопченой. Соухин выматерился, рифмуя сложные идиомы и соблюдая ритм. Поэт еще держал марку.
Но темнота в конце строки молчаливо возражала.
За окном розовело. Лязгнули ворота дворницкой. Кровь постепенно отливала с лица поэта. Глядя на чистый лист, он белел сам. В воздухе повисло слово «халтура». Соухин проглотил колбасу вслед за коньяком и закурил.
Сквозь дым он разглядел пепелище трудов и виршей, на которых когда-то гордо стоял его гений. Он вытаскивал из-под золы свои шедевры. Сдувал с них пепел. Читал сам себя, был восхищен. Угольки плагиата покалывали подошвы. Веселые искорки триумфа расползались по тлевшим рукописям. Где-то вдалеке запоздало выл набат.
Соухин потушил окурок. И щелчком сквозь форточку отправил его в предутреннее небо.
Скрипнув паркетом, он прошел в кабинет. В кресле, необремененный делами, сидел Нобель и, задрав лапу, познавал самое себя. Поэт согнал кота и сел за стол. Подобрался. Смахнул на пол всё лишнее. Закрыл глаза.
Звуки приглушились. За опущенными веками на зеленом сукне лежал чистый лист бумаги. Карандаш черной ленточкой пересекал угол. Издалека потянуло ямбом. Мухи творчества затихли. И поэт почувствовал – вот оно. Проступила одна строчка, вторая… Главное – не хвататься за карандаш. Не спугнуть. И вот уже колонкой ровной ложатся строфы на листок. Поэма росла. Страх отступал. На горизонте замаячил гонорар. Сытая жизнь возвращалась в свое русло. Оставалось поставить точку.
Треск будильника прервал интимный момент.
Поэт, бледнея, поднял веки. Солнце лежало на подоконнике. Асфальт шуршал под метлой дворника. Секундная стрелка весело обгоняла минутную, сонно открывавшую восьмой час. Нобель, позевывая, вытянулся на ковре.
На столе лежал чистый лист.
Соухин с истерическими воплями разломал вешалку для зонтиков, изуродовал зеленое сукно и с размаху швырнул в окно тяжелые латунные часы, не прекращая кричать и материться. Пока время летело, он крушил кабинет, проклинал Шекспира и завод чьего-то имени, на котором делали танки, а потом будильники. Превратил в дрова книжный шкаф и навсегда вызвал у Нобеля чувство вины за съеденную краковскую.
Гонорар, а с ним и уважение, и почести, и официантки, и всё остальное, что было так дорого поэту, всё это уплывало за горизонт под сдавленные стоны и крики боли, доносящиеся с улицы.
Через час в районную травматологию привезли несчастного Игоря с обширной гематомой плеча и переломом ключицы. Он на всю жизнь запомнил время, которое показывали стрелки упавших на него часов…
Эта маленькая неприятная история произошла через два дня после моего приезда в Москву.
Узнав, что в столицу на премьеру своей новой пьесы собирается приехать лично Мартин Макдонах, я, не раздумывая, купил билеты на поезд. Позвонил Паше, через два часа он нашел мне жилье практически задаром. Последняя неделя отпуска обещала порадовать. Правда, через день выяснилось, что Макдонаха не будет, и вообще всё оказалось уткой. Разразился огромный скандал, тысячи обманутых поклонников гневно рвали поддельные билеты. Даже сам ирландский драматург выразил глубокую печаль и досаду по поводу мошенничества в своем твитере: «Shit happens».
Тем не менее, билеты на поезд я обратно не сдал. Раз уж жилье есть, можно и погостить.
Косыгин, узнав о поездке, заказал трёхтомник Джойса. Пока везу, выклянчивал мой почитать.
– Сразу отдам, как только вернёшься.
– Нет, – говорю, – не дам.
– Да я аккуратно, обещаю.
– Извините, никак не могу.
– Ну, может, за квартирой присмотреть? Мне не сложно.
– Спасибо, не надо.
– Давай хотя бы ключи на хранение возьму.
– Нет.
Косыгин был наркоманом. Что-то мне подсказывало не доверять ему. На вокзале он отдал мне чемодан и попросил на обратную дорогу. В вагоне я обнаружил, что не хватает пакета с едой. Решил: надо бы пересмотреть свой круг общения. Сосед поделился бутербродом, завербовав мои уши рассказами о саратовских грибниках.
– И главное, – говорит, – когда находишь его, гриб этот – весь мир для тебя пропадает. Дышать перестаёшь.
Проводник принёс бельё, чай и религиозный журнал с набором цветных карандашей.
Грибник открыл пиво. Я не успел дочитать абзац.
– Траву, значит, вот так примнёшь вокруг него, – продолжал он свой увлекательный рассказ, – и ножиком аккуратно подрезываешь.
Так и говорит:
– Подрезываешь.
Дыша на меня солодом, он всё дальше уходил от занимательной микологии: книгу пришлось убрать.
– Берёшь так его за подбородок мягко, поперёк кадыка, пока сообразить не успел.
Пьянея и кое-как вспоминая родные буквы, грибник выпытывал у меня угодную ему родословную:
– И родителя в Германии не были? Ни разу? Странно. А похож… Слишком похож. Не врёшь? Я ведь чувствую, когда врут… Вот так за подбородок и подрезываешь…
Собравшись спать, он напоследок задал совсем уж пугающий вопрос:
– Дети есть?
Я осторожно помотал головой. Он подался вперёд и с холодком в глазах сказал:
– Тогда я карандаши забираю.
Вскарабкавшись наверх, он издал львиный рык и уснул.
Старушка с нижней полки так и просидела всю беседу с краешку. Ночью, сквозь сон, я слышал её шуршание фольги и запах остывшей курицы.
Меня пугают отставные военные. Отсутствие на них формы превращает многие конфликты в простую формальность. Только общие условия делают нас одинаковыми. Одинаково покорными и одинаково бестактными. Но поезд безучастно катит в ночь, уговаривая колёсами: терпи-терпи, терпи-терпи, терпи-терпи…
Наутро грибник в запасе заразительно смеялся, листая журнал с нераскрашенными образами. Перед прибытием он вручил мне банку маслят. Я смотрел через стекло на жертв лесного геноцида и остро ощущал ещё одну, новую, причину, по которой я не люблю грибы.
Паша встретил меня на перроне, похлопал по спине и поинтересовался:
– У тебя деньги есть хочешь? – он был очень экономным юношей, зная о своей расточительности. Поэтому всегда оставлял бумажник дома. Даже на словах экономил.
– Я нашёл комнату для тебя уже ждут.
Мы спустились в метро. Паша проскочил без жетона. Под грохот вагона он всю дорогу смотрел на меня и открывал рот. Я вежливо улыбался. Выходя он спросил:
– Всё понял?
Я на всякий случай кивнул. Он дал мне ключи и пошёл вперёд. Я двинулся следом. Через полсотни шагов Паша, будто увидев меня впервые, почти не останавливаясь, развернулся и сказал:
– Нет-нет-нет! Тебе на Чеховскую нужно. Это в обратную сторону. Вон, за угол повернёшь и наверх. Ну, всё. Мне пора, опаздываю. Вечером позвоню. Или ты мне. Вот номер. Пока. И убежал.
Выйдя на улицу, я начал догадываться, что мы с Пашей слегка недопоняли друг друга. Адрес, разорванный на звуки и звучания, сорвался с его губ и разлетелся на отзвуки, ударившись о грохот электрички. Моя предусмотрительность в очередной раз облегчила мне жизнь: в кармане лежал клочок газеты с координатами маленькой частной гостиницы.
Первый день в Москве напоминает очередь за счастьем. Как будто стоишь в ней всю жизнь, пропускаешь кого-то вперёд, терпеливо ждёшь…
Уют и комфорт, обещанные в объявлении, так и остались двумя приятными уху словами. Тараканов лупили прямо под носом – книгой учёта, в которой нужно было расписаться. Живописный вид из окна был не живописнее обложки «The wall» Pink Floyd’ов. В комнате, вытянутой как стручок, обитало кроме меня ещё семь горошков. Все иностранцы.
Пентхаус двухъярусной кровати был до интимного приближен к потолку. В поездах на багажных полках – свобода и то не так ущемляется.
Ключ от комнаты выдавался только в пределах гостиницы. При выходе просили сдавать.
Плата оказалась в два раза выше объявленной. Ссылаясь на анонимного альтруиста, цокали языком и качали головой, поражаясь и искренне удивляясь, в каком безумном мире мы-таки живём. Уже третий год какой-то сумасшедший печатает в газетах объявление про эту гостиницу со смехотворной ценой. Так неудобно перед постояльцами! Постельное брать будете?
Вредная комендантша никак не хотела правильно услышать мою фамилию.
– Коцер? Немец что ли?
– Ладно уж, – говорю, – пишите «Коцер».
– Конев, – вписала она, почесывая ухо. – Болгарская какая-то фамилия.
Переодевшись, я пошёл на улицу восстанавливать нервные клетки.
На свалке смешных историй попадались хорошие прутья и арматура.
Вот чего не понимаю в этом городе, так это автомоек. Зачем они тут? Впрочем, моё дело пешеходное. Главное – успевать уворачиваться от грязных брызг. Как будто танцуешь.
В сутолоке тротуаров я прилежно заглядывал во все книжные магазины, встречавшиеся на пути.
Каждый человек за прилавком, стоило с ним заговорить, считал своим долгом сказать:
– Какой у вас акцент интересный. Вы случаем не из Коми? Пермь? Ульяновск?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































