Текст книги "О себе"
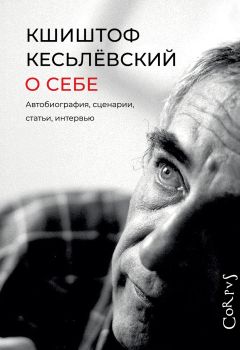
Автор книги: Кшиштоф Кесьлёвский
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
И в конце концов остановился на Ирен Жакоб. Ей было двадцать четыре, а выглядела она еще моложе. Невысокая, худенькая. Родилась и выросла в Швейцарии. Я счел это добрым знаком, потому что Швейцарию люблю. Посоветовался со знатоками насчет ее французского. Меня успокоили: “Если играет провинциалку – сойдет”. Прежде Ирен снималась в короткометражных фильмах, сделанных на крохотные деньги, например на гранты. Еще она сыграла маленькую роль в чудесной картине Луи Малля, которая нравится мне до сих пор, – “До свидания, дети”. Она запомнилась мне в этой роли – поэтому я и пригласил ее на пробы.
Когда мы начали снимать “Веронику”, Энди Макдауэлл было тридцать, а Ирен Жакоб – всего двадцать четыре. Я боялся, что она слишком молода, но оказалось, напрасно. Я сначала думал, что героиня должна быть молодой женщиной, а Иренка почти девочка – по крайней мере для нашего фильма. Но когда все стало складываться, я понял, что это фильм именно о юной девушке, а не молодой женщине.
Главная мужская роль предназначалась итальянскому режиссеру Нанни Моретти. Я очень люблю и его фильмы, и его самого. В нем сочетаются мужская сила и удивительная нежность. Он не актер и играет главные роли только в собственных картинах. Но тут – о чудо – охотно согласился. Мы встретились задолго до начала съемок. Кажется, хорошо поговорили. Обсудили сроки, фасон пиджака, который будет носить его герой, – оказалось, такой же носит сам Моретти. Впрочем, речь шла и о более важном. Но вскоре из Парижа сообщили: увы, Нанни играть не может, он заболел. Пришлось заменить его Филипом Вольтером – французским актером, понравившимся мне в “Учителе музыки”. С его стороны это было очень любезно – ведь Филип знал, что я хотел снимать Моретти.
Затем начались встречи с актерами на другие роли. Первым делом я хотел просто познакомиться – тамошнего актерского рынка я не знал. Мы беседовали о жизни, иногда они читали фрагменты из ролей вслух. Меня посадили в кабинете, поставили стол. За ним я чувствовал себя неловко, но где еще сидеть? В кафе не поработаешь – слишком шумно. Попытался было убрать стол, но оказалось, тогда некуда положить бумаги, записи, сценарий. И я, как дурак, сидел в кабинете за столом, а у актеров, конечно, возникало чувство, что они пришли сдавать экзамен. Поэтому каждый разговор начинался с преодоления этой неловкости. Если я спрашивал, что им снилось накануне, то и сам рассказывал свой сон. Мне хотелось узнать их по-настоящему, а не только посмотреть, как они выглядят и как владеют актерской техникой. Поэтому разговор часто касался неожиданных, любопытных тем. Например, одна тридцатилетняя актриса рассказала, что когда она расстроена, то обычно выходит на улицу – ей необходимо побыть среди людей. Я слышал такое во Франции уже не в первый раз, и мне казалось, это художественный вымысел. Поэтому я стал расспрашивать подробно: зачем она это делает, что надеется найти на улице загрустившая девушка? Попросил привести пример. Актриса вспомнила историю шестилетней давности. Она переживала нервный срыв и решила выйти из дому. На улице она вдруг увидела знаменитого французского мима – Марселя Марсо. Он был уже старик. Она прошла мимо, обернулась, чтобы взглянуть на него еще раз. И неожиданно Марсо тоже обернулся и улыбнулся ей. Постоял так несколько секунд, улыбаясь, и пошел дальше. “Он тогда меня спас”, – сказала актриса, и на этом месте я понял, что это не художественный вымысел: она говорила совершенно серьезно, и я ей поверил. Мы на мгновение задумались: а что, если Марсель Марсо прожил жизнь только ради того, чтобы шесть лет назад спасти эту молодую француженку? Может, все остальное – его спектакли и подаренные людям переживания – ничто в сравнении с этим фактом?
– А он понял, как важна для вас эта случайная встреча? – спросил я.
– Нет, – ответила актриса. – И больше я никогда его не встречала.
Я искал актера лет под тридцать. Он пришел, красивый, высоченный, метр девяносто с лишним. Я объяснил, что мне нужен учитель. Он кивнул: почему бы и нет? Мы прочли по ролям сцену, актер мне определенно понравился. Он спросил, не учитель ли физкультуры мне, случайно, требуется. Я сказал – именно. Он снова кивнул. Я уточнил, что дело происходит в провинциальном городке, который мы будем снимать в Клермон-Ферран. Тут он улыбнулся. Я спросил, что показалось ему забавным. “А я три года работал учителем физкультуры как раз в Клермон-Ферран”, – ответил парень. Прямо вслед за ним пришел один прекрасный старый актер, которого я помнил по чудесному фильму “Воскресенье за городом”. Мне хотелось снять его в роли учителя музыки, и я спросил, играет ли он на фортепиано, знает ли ноты. “Да, – спокойно ответил он. – Я по образованию дирижер и десять лет работал в Марсельском оперном театре”. Когда происходят такие совпадения, кажется, что фильм непременно получится. Мне было интересно, сбудутся ли приметы на сей раз.
Вечером я увидел моего учителя физкультуры по телевизору. Он убеждал меня в достоинствах нового дезодоранта. Жаль, подумал я: слишком высок для маленькой Ирен. Эта роль не для него.
Подбирая для нашей героини профессию или какое-нибудь увлечение, придумывая ее мир, мы вспомнили девятую серию “Декалога” и девушку, которая появляется на экране от силы на минуту. К сожалению – потому что характер получился интересный. Но фильм о другом, и ее роль в истории коротка. Болезнь не позволяет девушке заниматься пением профессионально, но вообще-то она могла бы, потому что поет прекрасно. Поскольку характер Вероники был нам уже понятен, поскольку она уже существовала, мы просто передали ей страсть той девушки, а именно – желание петь.
“Двойная жизнь Вероники” – фильм, кроме прочего, о музыке. Во всяком случае, о пении. В сценарии было подробно описано, где будет звучать музыка, какая музыка, какой характер должен быть у концерта для солисток, хора и оркестра. Оставалось найти композитора, который сумел бы превратить наши пожелания в музыку. Как опишешь музыку? Прекрасная? Возвышенная? Захватывающая? Таинственная? Все это можно назвать словами – но дело в том, чтобы композитор нашел необходимые ноты. А потом музыканты их сыграли. И чтобы результат напоминал то первоначальное описание. Все зависит от понимания и таланта композитора. Збигнев Прайснер справился с задачей великолепно.
Прайснер – необыкновенный композитор: он включается в работу с самого начала съемок – в отличие от многих других кинокомпозиторов, которые предпочитают иллюстрировать готовую картину. Обычно композитор смотрит фильм и находит пару пустых мест, которые заполняет музыкой. Но возможен и другой подход. Можно попробовать задуматься о музыке с самого начала. Сделать ее частью драматургии, чтобы музыка рассказывала то, чего нет в изображении. Если заранее известно, какая нужна музыка и где примерно она будет, то можно с ее помощью рассказать о том, чего в кадре нет, но благодаря ей начинает существовать. Удивительно, как от сочетания музыки и изображения возникает нечто, чего нет в них по отдельности, – как музыка приносит новый смысл и создает настроение. У американцев, например, музыка не умолкает с первого до последнего кадра.
Мне всегда хотелось снять фильм, чтобы музыку для него играл симфонический оркестр. Впервые это мне удалось в “Случае”, над которым мы работали с композитором Войцехом Киляром. До тех пор я обычно использовал готовую музыку. Так, для фильма “С точки зрения ночного сторожа” взял ее из “Иллюминации” Кшиштофа Занусси. Замечательная музыка. Но она была написана раньше, – я просто взял и проиллюстрировал ею свой фильм. Так что впервые оригинальную музыку мы записывали к “Случаю”. А следующий фильм, “Без конца”, я уже делал с Прайснером. И потом мы всегда работали вместе. Только что мы с ним закончили “Три цвета”. В первом из этих трех фильмов, “Синем”, музыка играет очень важную роль – даже большую, чем в “Веронике”.
В “Двойной жизни Вероники” использован текст из Данте. Это была идея Прайснера. Никакого отношения к сюжету фильма текст не имеет. Он написан на староитальянском языке, который даже итальянцы сегодня понимают с трудом. Но у Прайснера имелся перевод, для него было важно, о чем он сочиняет музыку, о чем говорит Данте. И вероятно, смысл этих строк вдохновил его музыку. О музыке мы много думали. Инструментовка для Прайснера так же важна, как мелодия. И звучание староитальянского – прекрасно. Во Франции было потом продано пятьдесят тысяч компакт-дисков.
Профессия Александра, в которого влюбляется Вероника, возникла совершенно случайно. Мы понятия не имели, кем бы он мог быть. Не помню, кто из нас, Кшиштоф или я, однажды увидел по телевизору фрагмент замечательного кукольного спектакля. Полминуты, минуту, не больше. Зашел в комнату, где был включен телевизор (а может, включил сам), и увидел фрагмент на экране. Это было за два или три года до “Вероники”. Никто из нас потом об этом спектакле не вспоминал. Но в момент, когда нужно что-то вспомнить, оно возвращается. И мы стали прикидывать, что это могла быть за передача, откуда она взялась на польском телевидении. И выяснили, что Джим Хенсон – который придумал “Маппет-шоу” – сделал цикл фильмов о кукольниках, создавших свои собственные театры, – в частности, туда вошли интервью с неким Брюсом Шварцем и отрывки из его спектаклей. Я попросил раздобыть мне этот сериал и посмотрел его от начала до конца. Брюс Шварц оказался абсолютно лучшим из всех кукольников.
Мы созвонились с Брюсом Шварцем, и выяснилось, что кукол он бросил, потому что не мог этим заработать на жизнь. Ему сорок семь лет. Что стало с этим идиотским миром, в котором мы живем? Лучший кукольник на свете не может прокормить себя своим ремеслом, потому что его ремесло – играть с куклами. И он вынужден бросить его и заняться развешиванием картин. Когда я сказал ему, зачем звоню, Шварц ответил, что готов прочесть сценарий и если сочтет, что есть чего ради вернуться к прежней профессии, – он вернется. Мы послали сценарий. Он прочитал и согласился работать с нами.
В сценарии было написано, что кукольный спектакль должен быть о балерине, сломавшей ногу. И что же? У Брюса Шварца имелась кукла-балерина. Он делает кукол сам. У него оказалось все, что нам надо. Он предложил сыграть сказку с участием балерины и бабочки – потому что у него была еще кукла-бабочка.
Он приехал. Для последней сцены, как и требовалось, Шварц сделал две куклы, изображающие Ирен Жакоб. Потом одна кукла осталась у него, а вторая, по условиям контракта, – у продюсера. В следующий раз Шварц приехал на съемку. Приехал, достал свои куклы. И мы сразу убедились в том, что было ясно с самого начала.
Стоило ему взять в руки марионеток, и в то же мгновенье на наших глазах возник целый мир. Он удивительный человек. В отличие от большинства кукловодов, которые обычно скрывают руки под перчатками, пользуются веревочками, тросточками и тому подобным, Брюс работает иначе – его руки все время на виду. Но через секунду ты перестаешь их замечать – кукла живет собственной жизнью, притом что его здоровенные лапы постоянно видны. Я понял, что это совершенно необходимо для нашего фильма. Что мы должны видеть руки Александра: руки человека, который чем-то манипулирует.
Представление было очень трогательным. Снималось это в Клермон-Ферране, в школе. Смысл сцены простой: школа пригласила кукольника, который ездит по городам со своим маленьким театром. На представление пришли все классы. “Это непросто, – сказал Шварц. – Я никогда не играл перед детьми – только перед взрослыми. Страшно волнуюсь”. Он необычайно впечатлительный и тонкий человек, этот Брюс Шварц. И всегда выступал перед небольшими аудиториями. Тридцать, сорок человек. А мы собрали около двухсот ребят. И все это происходило в огромном школьном спортзале. Брюс опасался, что ничего не выйдет. Но разумеется, дети поняли его в сто раз лучше, чем взрослые.
Спектакль снимали несколько раз – зал, сцену, потом сцену и зал крупнее, затем крупные планы зрителей и так далее. Так что продолжалось это довольно долго. В первый раз мы просто снимали реакции детей, как в документальном кино. Искали самые выразительные лица. Реакции были потрясающими. Потрясающими. Потом, во время монтажа, многое пришлось выбросить – оказалось, сцена должна быть короче. А этого великолепного материала у меня набралось минут на пятнадцать – живые детские лица, горячий отклик. Сняли спектакль и сделали перерыв. Дети сразу окружили Шварца, и тут я увидел совершенно счастливого человека. В этот миг Брюс Шварц был по-настоящему, абсолютно счастлив. Он так волновался, возвращаясь спустя много лет к своей профессии. Он так боялся, что дети не поймут, что им будет неинтересно. Ведь они теперь интересуются только компьютерами и куклами Барби. Но оказалось, что именно эта история балерины – трагическая, романтичная, нежная – ребят бесконечно тронула. Некоторых даже до слез. Полтора часа они расспрашивали его обо всех подробностях – технических и художественных. Объясняли, как поняли эту сказку, в которой нет ни единого слова (причем она гораздо длиннее, чем то, что мы видим на экране, – около десяти минут вместо трех, вошедших в фильм). Дети поняли абсолютно все. Все, что Шварц вложил в свой спектакль, и даже больше. Я смотрел на него и видел перед собой абсолютно счастливого человека.
Это удивительно радостные мгновения. Предполагалось, что человек приедет, покажет спектакль и уедет. А он вдруг – благодаря нашему фильму – обрел забытую радость, утраченное счастье, то, что, казалось, ушло навсегда. Это колоссально важно.
Теоретически можно было снять его спектакль в пустом зале, без детей. Но на самом деле нет. Брюс Шварц был счастлив от того, что зрители его поняли, и этот простой факт определил всю атмосферу сцены, множество подробностей и ее интонацию в целом.
Не думаю, что Вероника навсегда останется с Александром. В конце фильма она плачет и смотрит на него глазами, в которых совсем нет любви. Александр внезапно рассказал ей сюжет будущей книги, и оказалось, что он, в сущности, использовал ее жизнь. Приспособил к делу то, что узнал о ней. Во всяком случае, в конце картины Вероника много мудрее, чем в начале. Благодаря Александру она узнала, что существует другая Вероника. Это он нашел фотографию, на которую сама Вероника не обратила внимания среди других снимков. А он заметил – и, возможно, понял то, чего сама Вероника не могла понять. Понял, а потом использовал как сюжет. И она ощутила, что он не тот человек, которого она всю жизнь ждала. Обнаружила, что когда ему открылось бывшее для нее очень личным, интимным, он воспользовался этим. И это личное сразу же перестало принадлежать ей, быть ее тайной. Оно больше не было личным.
Мы сняли множество сцен, показывающих, что у обеих героинь больное сердце, но, надеюсь, оставили в фильме не больше, чем следовало. Только чтобы обозначить тему. И все. Мы знаем, что французская Вероника больна, – отсюда возникла идея кадра со шнурком. Когда сердце перестает биться, линия на ЭКГ становится прямой. Вероника, рассматривая свою кардиограмму, сильно натягивает шнурок в руках – и вдруг понимает, чтo2 это значит. И бросает его. Кажется, это придумал Славек. Тогда Ирен предложила, чтобы у польской Вероники все время возникали проблемы со шнурками. Мы осуществили ее идею, но при монтаже все это пришлось выбросить – получалось очень длинно. Тем не менее идея прекрасная. Такие предложения заставляют фантазию работать, и неважно, что потом вошло в фильм. Важно, что мы думаем вместе. Ирен вот придумала, чтобы у Вероники то и дело что-то приключалось со шнурками. При сердечном приступе она первым делом расшнуровывает ботинки, а не хватается за сердце. А когда на бегу наступает в лужу – шнурки немедленно развязываются.
Французская Вероника стоит перед выбором – пойти по пути Вероники польской, поддавшись тяге к искусству, – или отдаться любви. В принципе, такой выбор действительно существует.
Польская часть фильма более динамична – в силу характера героини. Там вообще использован другой способ повествования, чем во французской. В польской мы движемся от события к событию. Кратко, пунктирно показываем год или полтора из жизни Вероники в течение получаса. Точнее – двадцати семи минут, когда следует поворотный пункт. Примерно так и должен строиться полуторачасовой фильм. В течение этих двадцати семи минут я описываю довольно долгий период жизни польской Вероники, рассказывая только о некоторых важных событиях, которые приводят к смерти. Больше ни о чем.
Если можно так выразиться, польская часть рассказана синтетически. Синтез касается времени. Французская часть рассказана совершенно иначе. Во-первых, героиня гораздо больше сосредоточена на себе. По разным причинам. В частности, может быть потому, что польская Вероника умерла и Вероник что-то почувствовала в связи с ее смертью. Какое-то беспокойство, заставляющее задуматься над своей жизнью. Во-вторых, французская часть рассказана аналитически. В отличие от польской. Здесь мы исследуем психологию героини – и потому не можем обойтись отдельными, короткими сценами, – требуются длинные. Какой-нибудь проход, проезд, пробег, немного воздуха – и снова большая сцена.
Требовалось найти, помимо прочего, единое изобразительное решение, чтобы эти две совершенно разных стилистики стали целым. Французская часть, думаю, минут на пять-шесть длиннее, чем следует. К сожалению, мне не хватило времени, чтобы ее сократить. Были ошибки и в сценарии, которые не могли не обнаружиться в готовом фильме – особенно во второй половине. Например, история с подругой Вероники, которую не удалось убрать при монтаже.
В сценарии она была написана очень подробно, и я снял много материала. Мне казалось, этот сюжет неплохо выстроен и может служить мотором для трети фильма. Но оказалось, линия вообще лишняя. Я попробовал ее выбросить – но тогда героиня превращалась в нечто эфемерное – ничего кроме души, интуиции, предчувствий. Пришлось вернуться к истории с разводом подруги – просто чтобы спустить Веронику на землю, сделать ее нормальным человеком. Этой цели история достигает. Но притом остается в фильме искусственной. Впрочем, все-таки зритель может увидеть, что Вероника – чья-то подружка, чья-то соседка, а не только девушка, витающая в иных мирах.
В “Веронике” мы постоянно использовали светофильтр – золотисто-желтый. Это помогло добиться образного единства мира, показанного на экране. Фильтры создают удивительную однородность изображения, а это важная задача. Например, когда Славек, наш оператор, использовал фильтры в “Коротком фильме об убийстве”, – это было принципиальным решением. Снятый через фильтры в холодных тонах мир выглядел более безжалостным, чем есть. Варшава вышла отвратительной. В “Двойной жизни Вероники” эффект обратный. Здесь мир намного красивее, чем на самом деле. Мне не раз говорили, что картина получилась очень теплой. Думаю, эта теплота идет от актрисы, от общей интонации фильма, но также – и от этого золотистого колорита.
Фильм делается для всех. Если я намерен что-то сказать или о чем-то намекнуть зрителям, я пользуюсь всеми средствами, имеющимися в моем распоряжении: драматургией, актерской игрой, а также операторской работой. Проблема в том, чтобы выбрать средства правильно. Возможно, кого-то раздражают эти фильтры, но я думаю, они безусловно помогают выразить то, о чем рассказывает фильм.
Утром – съемки, вечером – монтаж. В Клермон-Ферран привезли монтажный стол, приехал наш монтажер – Жак Витта. Очень милый, спокойный, добрый человек. Это важно, потому что мне предстояло провести с ним три месяца жизни – день за днем. Было сразу понятно, что будут проблемы с языком – и они возникли. Жак не говорит по-английски, я – по-французски. В таком интимном деле, как работа над монтажом, нам требовался переводчик. Мартин Ляталло, прекрасно справлявшийся со своей задачей, был молодым человеком и после целого рабочего дня на съемочной площадке начинал в монтажной клевать носом. Интересно, что молодые люди, несмотря на весь апельсиновый сок, который они выпили в детстве, и на все овощи и фрукты, которые съели, не отличаются выносливостью. Казалось бы, их поколение красивее, образованнее и здоровее, чем мое, прошедшее войну, но мы почему-то гораздо крепче. Кто знает, может, немного неудобств, нищеты и лишений необходимо каждому поколению? Или все зависит от человека?
Одно время у нас была мысль смонтировать столько версий “Вероники”, в скольких местах она будет идти. Если, например, в Париже фильм покажут в семнадцати кинотеатрах, – делаем семнадцать разных версий. Конечно, это довольно дорого, особенно на последней стадии: изготовление промежуточных негативов, отдельная перезапись всех вариантов и [25]25
Промежуточный негатив (англ. digital intermediate) – промежуточное звено между пленкой-негативом и прокатными фильмокопиями. Создание интернегативов необходимо для печати как можно большего числа фильмокопий, оригинальный негатив не выдержит достаточно много циклов копирования.
[Закрыть]так далее. Но у нас были конкретные идеи для каждой версии. Мы размышляли о том, что такое фильм. Теоретически – пленка, которую пускают через проектор со скоростью двадцать четыре кадра в секунду, и успех кино как бизнеса, в сущности, основан именно на возможности повтора. Где бы фильм ни показывали – в огромном кинотеатре в Париже, или в крохотном зальчике в Млаве, или в среднем зале в штате Небраска, – зрители видят на экране одно и то же, потому что пленка бежит через проектор с одной и той же скоростью. Вот мы и подумали – а собственно, почему бы не нарушить этот порядок? Почему не сделать каждую копию штучным изделием? Чтобы версия номер 00241-б отличалась от версии 00243-в? У них могут быть немного разные финалы, одна сцена длиннее, другая короче, в одной версии будут сцены, которых нет в другой, и так далее. Сценарий был написан с учетом этих возможностей. И материала мы сняли, чтобы смонтировать все задуманные версии и выпустить на экраны такой вот фильм ручной работы. Но, как всегда бывает по ходу дела, в какой-то момент оказалось, что на это не хватает ни времени, ни денег. Даже не столько денег – времени, главным образом.
Но две версии все же существует, поскольку для Америки я сделал особый финал. Из уже знакомого нам дома выходит человек и кричит: “Вероника! Холодно! Иди скорей!” Она восклицает: “Папа!”, бежит к нему, обнимает. И американские зрители понимают, что это ее родной дом и ее отец. В первой версии, как я уже говорил, это было для них не очевидно. Думали – может, какой-то другой тип с чуркой в руках. Мало ли. В Штатах фильм прошел прекрасно. Продюсер неплохо на нем заработал.
Что прибыльно? Чем обычно пытаются привлечь зрителя? Или сюжетом, или популярными актерами. А какие козыри были у меня в “Веронике”? Малоизвестная французская актриса, сыгравшая одну маленькую роль в фильме Луи Малля. И не всем понятная история об интуиции, восприимчивости – то есть о том, что, вообще-то, кино передать не в состоянии. На что я рассчитывал? На какие сборы?
Конечно, я знал, как буду рассказывать эту историю, и понимал, что определенный компромисс неизбежен. Я должен рассказывать так, чтобы мой зритель меня понял. Чем бы я ни занимался – подбором актеров, работой над сценарием, отдельными сценами или диалогами, – я всегда думаю о зрителе. Это самое главное. И в “Веронике”, конечно, тоже. Поэтому я и сделал для американцев другой финал. Мне кажется, публике нужно идти навстречу, иногда даже отказываясь от каких-то собственных представлений.
“Вероника” – фильм только и исключительно о чувствах. В нем нет драматического действия. Это фильм, делая который я, конечно же, играю на чувствах зрителей. После “Короткого фильма об убийстве”, в котором две длинных сцены сначала убийства, потом казни, мне тоже говорили, что я играю на чувствах. Да, конечно. А на чем мне еще играть? Что еще существует, кроме чувств? Что может быть важнее? Я играю на чувствах зрителей для того, чтобы они ненавидели или любили моих героев. Чтобы сопереживали им. Чтобы болели за них, если герои того заслуживают.
Думаю, что, отправляясь в кино, зритель и сам хочет отдаться чувствам. Я не имею в виду, что “Вероника” должна всем нравиться. Как раз наоборот. Думаю, это фильм для весьма узкого круга людей. Круга, который определяется не возрастом или социальным положением. Люди, способные понять чувства, о которых идет речь, есть и среди интеллигенции, и среди рабочих, и среди безработных, студентов, пенсионеров. Это фильм ни в коем случае не элитарный – разве что элитой назвать людей чутких.
Как ни странно, картина имела успех и в польском прокате. Я всю жизнь конфликтовал с польскими кинокритиками – и, конечно, продолжу до конца моих дней. В коммунистические времена я упрекал их в неискренности. У меня было право говорить так – ведь ни я, ни мои коллеги конъюнктурных фильмов не снимали, а вот они писали по указке главного редактора или чиновников из политбюро и ЦК. По прошествии многих лет были опубликованы описания разных заседаний и воспоминания политиков, признававшихся в том, что в свое время они “осуществляли руководство” критикой. Не говоря уж об искусстве, о кинематографе. Так что я обвинял критиков недаром, и они знали, что я прав, и от этого приходили в бешенство. Не могли мне этого простить. Но в случае с “Вероникой” грех жаловаться. Хотя даже в положительных рецензиях говорилось так: “Красивый фильм – но, пожалуй, слишком красивый”, “Необыкновенно трогательная картина – возможно, даже чрезмерно”, “Попахивает коммерцией”, “Героиня слишком хороша”, “Актриса чересчур мила”. Таков был вердикт серьезной критики плюс упреки в том, что фильм не о Польше и не о польских проблемах.
Провинциальность – это желание видеть во всем провинциальное, интерес только к тому, что касается твоего уезда. Парикмахера всегда страшно раздражает, если актер, играющий парикмахера, неправильно держит ножницы. Для остальных это не имеет никакого значения, но, на его взгляд, картина никуда не годится. Вот и здесь нечто подобное. “В Польше прошли такие важные выборы. Создаются новые политические партии. Коммунисты проиграли. А в фильме об этом ни слова. Как же так?” Потому что так задумано. Ничего этого в фильме нет, потому что все это меня совершенно не интересует. Мне нет дела до выборов, правительств, партий и тому подобного.
Но вообще на отклик критики я не жалуюсь. Что же касается публики, могу сказать, что счастлив – два месяца картина шла в Варшаве при полных залах. Не знаю, сколько человек посмотрело фильм, но прокатчики не проиграли, даже наоборот – немножко заработали. Чего мне еще желать? Церковь же фильма не заметила. Думаю, была слишком занята возвратом церковной собственности, конфискованной коммунистами после войны. А также борьбой за запрещение абортов и введение религиозного образования в школе. До кино просто руки не доходили. К счастью.
Я никогда не бываю доволен результатом. Думаю, мне более-менее удается осуществить задуманное процентов на тридцать пять. В “Веронике” тоже. Этих тридцати пяти хватает, чтобы удовлетворить самолюбие, – ну и хорошо. Просто пора привыкнуть, что большего не будет.
Во Франции картине удалось подняться над неким средним уровнем. Таковы амбиции современного режиссера: чтобы фильм не потонул в потоке, чтобы как-то, по тем или иным причинам, выделился на общем фоне. “Веронике”, конечно, это удалось. Думаю, это фильм для определенного поколения зрителей – скорее младшего, чем старшего.
Французские кинокритики любят писать о том, что им нравится. Их одобрение очень важно. От него может зависеть мнение части зрителей, склонной смотреть то, что хвалят критики. Я не делю критику на французскую и нефранцузскую. Честно говоря, французских рецензий я не читаю – не знаю языка. Судя по отрывкам, которые мне иногда переводят, общая атмосфера скорее доброжелательная. Французские критики уверены, что способны оказать влияние на прокат. У польских критиков нет такой уверенности. Они часто пишут, зная, что статьи их никакой роли не играют. В прежние времена, например, было известно: если фильм хвалит “Трибуна люду”, смотреть не стоит. И наоборот: если “Трибуна люду” ругает – значит, скорее всего, фильм хорош. То есть эффект всегда был противоположным. Зрители и читатели не верили ни слову из написанного, а писавшие знали, что никак не влияют на публику. В результате критики привыкли считать, что их мнение не имеет значения. Само собой, первопричина была в том, что критики врали, не высказывали собственных суждений, а повторяли чужое вранье. Поэтому доверять им стало почти невозможно. С известными исключениями.
Я работаю безо всякой мысли о критиках. Не делаю ничего, чтобы именно критики поняли, что я имел в виду. Я вообще о них не думаю. Почему камеру надо поставить тут или там, почему сцену надо решить так, а не иначе. Я не анализирую, не теоретизирую. Если отсутствует внутренний компас, все равно ничего не получится. Как бы хорошо ты в кино ни разбирался.
Конечно, работая над сценарием, я принимаю в расчет множество обстоятельств, связанных с драматургией, бюджетом, актерским составом. Если, например, у меня уже есть конкретный актер, пишу так, чтобы ему было легче войти в роль. Если актера нет – намечаю персонажа в общих чертах, а уточняю позже, во время съемок. Если нет денег на ту или иную сцену – ищу, как решить ее иначе. Так было с “Тремя цветами” – я понимал, что никто мне пятидесяти миллионов франков на финальную сцену не даст. Да я, честно говоря, и не попросил бы. Не хочу тратить такие деньги. Считаю, что тратить такие суммы на сцену или на фильм просто безнравственно. Ничего, как-то справился.
Парадоксальным образом, чем меньше бюджет, тем больше свободы. Есть что-то глубоко безнравственное в больших затратах, про которые не известно, окупятся ли они. Конечно, если фильм, какой-нибудь, например, “Терминатор‐2”, приносит сто миллионов долларов, то понятно, что хотя бы часть этих денег будет израсходована разумно. Может, на съемку других фильмов, один из которых окажется стоящим, или на разработку какой-нибудь вакцины, которая однажды пригодится, или пойдет на налоги, гранты, субсидии и так далее. Если картина приносит такую колоссальную прибыль – значит, миллионы людей пожелали ее увидеть. А раз пожелали увидеть – очевидно, она что-то им дала. Мне все равно что – может, просто позволила на минуту забыться, неважно. Но я не хочу снимать фильмы с бюджетом в сто миллионов долларов. Не потому, что боюсь, что фильм не окупится, хотя и это тоже. Я боюсь ограничений, создаваемых такими бюджетами. На что они мне?
В сегодняшней Польше найти деньги на съемки гораздо труднее, чем во Франции. Мне особенно. Мне даже как-то неудобно просить, потому что поляки уверены – и не без оснований, – что я могу раздобыть нужную сумму в другом месте. У меня уже давно есть такая мысль, такая теория: все на свете существует в ограниченном количестве. И в частности, на кинематограф в Польше выделяется определенная сумма. Так что если возьму я – не достанется кому-нибудь другому.









































