Текст книги "О себе"
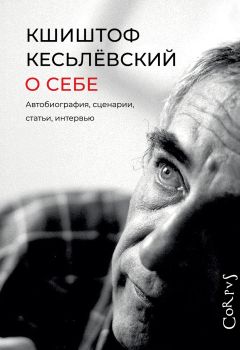
Автор книги: Кшиштоф Кесьлёвский
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Я определенно не хочу снимать фильмы глобального масштаба. Мой масштаб – камерный, потому что для меня не существует таких вещей, как “общество” или “народ”. Существует, не знаю, шестьдесят миллионов конкретных французов, сорок миллионов конкретных поляков или шестьдесят пять миллионов конкретных англичан. И в этом вся суть. Это конкретные люди. Я делаю фильмы об этих людях и с мыслью о них.
Я не снимаю метафоры. Это сами зрители находят в моих картинах нечто метафорическое. И хорошо. И пускай – этого мне и хотелось. Мне всегда хотелось расшевелить зрителя. Неважно, просто ли он погрузится в историю, которую я рассказываю, или начнет ее анализировать – все равно. Главное, я к чему-то подтолкнул его. Ради этого я и делаю фильм. Ради того, чтобы зрители что-то пережили. Не имеет значения как – эмоционально или интеллектуально. Не так уж важна разница.
Для меня признак класса в искусстве – если я читаю, смотрю, слушаю и вдруг ясно ощущаю, что кто-то сформулировал то, что я сам чувствовал или думал. В точности то же самое – только при помощи слов, образов, звуков, какие я не мог и вообразить. Или на мгновение вызвал во мне чувство красоты или счастья. Если это происходит при чтении книги, для меня эта книга великая, если в кино – для меня это великое кино. Читая великую книгу, на каждой странице встречаешь слова, которые, кажется, сам говорил или где-то слышал. Описание, образ, который глубоко тебе близок, глубоко тебя трогает и совпадает с твоим собственным. В этом отличие великой литературы. Читаешь – и сам оказываешься в ситуации, о которой читаешь; или это не ты, а совсем другой человек, но который думает так же, как ты и сам думал, видит то, что видел ты. Вот что такое великая литература и вот что такое великий кинематограф – если, конечно, он существует. В какое-то мгновенье ты сам оказываешься их героем; и тогда уже не имеет существенного значения, будешь ли ты сопереживать или бросишься спорить, возражать, сравнивать, анализировать.
Многие люди не понимают пути, по которому я иду. Считают, что я свернул не туда, изменил себе – своему мышлению, своему видению мира. Мне так не кажется. Я никогда не отказывался от своих взглядов и даже не уклонялся в сторону – ни ради комфорта, ни ради денег, ни ради карьеры. Ни в “Веронике”, ни в “Трех цветах”, ни в “Декалоге”, ни в “Без конца”. Нет ничего труднее, чем снимать кино о том, что составляет внутреннюю жизнь человека: об интуиции, предрассудках, предчувствиях, суевериях, снах. Но, понимая, что, как ни старайся, снять этого нельзя, я все-таки стремлюсь, пытаюсь приблизиться настолько, насколько позволят мои способности. Так что не думаю, что “Вероника” – это какое-то предательство моих прежних работ. Например, героиня “Кинолюбителя” так же, как и Вероника, обладала сильной интуицией – предчувствовала, что мужа ждут неприятности. Знала, ощущала. Вероника так же чувствительна. Не вижу разницы. Я иду по этой дороге с самого начала. Я не знаю. Я ищу.
У меня нет большого кинематографического таланта. Как был, например, у Орсона Уэллса, который в 25 или 26 лет снял “Гражданина Кейна” и в первой же картине достиг всего, на что способно кино. На свете всего несколько таких фильмов, и “Гражданин Кейн” навсегда в первой десятке. Гений сразу себя находит. Мне же понадобится целая жизнь. Я знаю об этом – и все-таки иду. И если кто-то не понимает или не хочет понять, что это – процесс, то, конечно, будет говорить, что я снимаю иначе, лучше или хуже, чем снимал прежде. Для меня же все это – ступени; в моей личной системе ценностей – крохотные шажки, которые приближают меня к цели. Которой мне все равно никогда не достичь. Не хватит таланта.
Эта цель – попытаться увидеть то, что находится в нас, но чего снять нельзя. Можно лишь приблизиться. Вероятно, задача по силам литературе. Скорее всего, это единственная настоящая задача на свете. Великая литература в состоянии не только приблизиться, но и описать. На свете существует, наверное, несколько сот книг, позволяющих заглянуть в самые глубины человеческой души. Такие книги писали Камю и Достоевский. Такие пьесы писал Шекспир. Так писали древнегреческие драматурги, а также Фолкнер, Кафка, Варгас Льоса, которого я очень люблю. Например, его “Разговоры в «Соборе»” – книга, на мой взгляд, достигающая цели, о которой я говорю.
Литературе это доступно. Кинематографу – нет. У него нет для этого средств. Он недостаточно тонок. И, как следствие, слишком буквален. Но притом, оставаясь слишком буквальным, он слишком многозначен. Например, у меня в фильме есть сцена с бутылкой молока. Бутылка падает, и молоко проливается. Неожиданно кто-то видит в этом значения, которых я не предполагал. Для меня бутылка молока – это бутылка молока, и если она опрокинулась – значит, молоко пролилось. Не более. Это не означает, что рухнул мир. Это молоко не символизирует материнское молоко, которого не досталось дочери, потому что мать умерла вскоре после родов. Для меня – не значит. Но кто-то видит тут символ. И такова природа кино.
Я пытаюсь объяснить своим молодым коллегам, с которыми веду занятия: если в кадре зажигают зажигалку, это значит, что зажигалка зажглась; а если не зажглась – значит, она сломана. Не более того; и никогда не станет более того. Но если в одном случае на десять тысяч все-таки станет, то значит – свершилось чудо. Подобного чуда когда-то добился Уэллс, а после него, как мне кажется, – только Тарковский. Несколько раз оно удавалось Бергману. Несколько раз – Феллини. Лишь нескольким режиссерам. Еще Кену Лоучу – в фильме “Кес”.
Конечно, зажигалка – довольно идиотский пример, я просто имею в виду буквализм кинематографа. Если у меня есть какая-то цель, то – избежать его. Я никогда этого не добьюсь. Так же как не сумею показать, что на самом деле происходит в душе моих героев. Хотя пытаюсь. Если есть какая-нибудь задача у фильма, то она – по крайней мере для меня – в том, чтобы кто-то увидел в нем самого себя.
Один американский журналист рассказал мне замечательную историю. Как-то раз он прочитал роман Кортасара, у героя которого были такие же имя, фамилия и совершенно такая же судьба, как у этого журналиста. Журналист не мог понять, совпадение это или нет. Он написал Кортасару, что читал книгу и внезапно обнаружил, что читает о самом себе. И решил написать автору письмо, чтобы сказать, что существует на самом деле. Кортасар ответил ему: как прекрасно, что такая история возможна. Он никогда в жизни не встречал этого журналиста. Ни разу не видел его. Никогда о нем не слышал. И был счастлив, что придумал человека, который существует на самом деле. Журналист рассказал мне эту историю в связи с “Вероникой”.
Это раз. Есть и еще одна проблема, более, пожалуй, общего характера. В моей профессии – как и во многих других профессиях, как и в других сферах человеческой деятельности – если не вообще во всех, – невозможно оставаться совершенно чистым. Невозможно потому, что таковы правила игры. Мое дело – а это ведь не просто работа над фильмом – требует всевозможных компромиссов и всевозможных отступлений от собственных взглядов. По разным причинам. Здесь, на Западе, это обычно связано с деньгами, коммерцией, с тем, что следовало бы назвать цензурой публики, когда вкусы публики принимаются в расчет до такой степени, что заменяют цензора. У меня сложилось впечатление – с которым, вероятно, многие не согласятся, – что цензура публики ограничивает куда жестче, чем цензура политическая, с которой мы имели дело в коммунистической Польше.
Повторяю, оставаться в нашем деле кристально чистым невозможно. И все же я не оппортунист – в том, что касается профессии. В личной, частной жизни – мы, само собой, все оппортунисты.
Перед кинематографистом при коммунизме открывалось несколько путей. Первый – не снимать кино. Но, честно говоря, я не знаю ни одного человека, который бросил бы работу в кино по принципиальным, идейным соображениям. Может, были такие, но я о них не слышал. Другой путь – снимать разрешенное кино; делать фильмы партийные, советские, ленинские, милитаристские и так далее. Третий путь – снимать кино про любовь, природу, про то, как все прекрасно и будет еще прекраснее. И четвертый путь: попытаться понять. Я выбрал этот путь, потому что он соответствовал моему темпераменту.
За одним исключением (фильм “Рабочие-71”, который я смонтировал, поддавшись давлению), у меня нет ощущения, что я переступил какую-то свою внутреннюю границу. Именно поэтому многие мои картины годами лежали на полке по пять, семь, десять лет, а другие не были показаны вовсе. И хорошо. Я с этим смирился.
Есть обратная сторона этого дела. Компромисс, на который порой приходится идти, отказ от своих убеждений в некоторых – но все-таки более-менее незначительных вопросах – вещь, возможно, даже полезная. Абсолютная свобода в искусстве плодотворна лишь для гениев. В большинстве же случаев она приводит к претенциозности и вторичности. А в кино – еще и к бессмысленной трате денег и к созданию фильмов для себя и своих друзей. Ограничения – необходимые ограничения и необходимые компромиссы – стимулируют находчивость, изобретательность, пробуждают энергию, что помогает найти интересные и оригинальные решения.
Снимать “Веронику” мы начали в Польше, а закончили во Франции. Я приехал в Париж. Остался, чтобы смонтировать и закончить фильм. Был занят только этим. Ни на что другое времени не хватало. У меня нет времени на то, что когда-то казалось столь увлекательным – наблюдать за жизнью; да и прежнего любопытства уже нет. Когда-то шатался без дела, глазел, слушал, присматривался. Прежнего терпения у меня тоже нет. Что мог, узнал, а чего не узнал – наверное, уже и не узнаю. К примеру, не знаю французского и никогда не выучу. Английский кое-как одолел, хотя, прозанимавшись им лет пятнадцать, до сих пор говорю, как будто учил пару месяцев. У меня врожденная неспособность к языкам. Это закрытая для меня сфера, и я даже не пытаюсь, хотя, может, и следовало бы. Вокруг постоянно звучит французская речь, я разговариваю с людьми через переводчика – вообще мог бы уже что-нибудь сам понимать. Слушаю диалог на французском, понимая, что это значит по-польски. То есть знаю оба варианта. Слушаю снова и снова. И тем не менее даже не стараюсь выучить французский. Дело не в лени, хотя, вероятно, немножко и в ней. Просто когда я работаю – пишу сценарий или снимаю фильм, – то отдаю себя целиком и не в состоянии одновременно что-либо воспринимать. Будь у меня много свободного времени – что на сегодняшний день даже вообразить невозможно, – может, и выучил бы французский.
У нас есть человек, который адаптирует переведенные диалоги, и все дела. Иногда вместе с ним, переводчиком или актерами мы думаем, как лучше выразить то, что имелось в виду. Бывает, получается не сразу. Найдя решение, играем сцену. Во всем, что касается интонации, мне приходится полагаться на актеров, которым я доверяю. Если актеры выбраны правильно, с этим проблем никаких. А если нет, проблемы возникнут, даже если они будут говорить на польском.
Мои опасения оказались напрасны. Члены французской съемочной группы хотели и умели работать. Ко мне относились дружелюбно и удивлялись, что я появляюсь на площадке первым, одновременно с оператором, а после съемок не спешу сесть в машину и уехать, а стараюсь помочь погрузить реквизит. Мне не давали этого делать, считая, что должно быть строгое разделение труда. У меня совершенно другой взгляд. Мы снимаем фильм вместе, и хотя, конечно, каждый отвечает за свою часть работы, – за конечный результат отвечают все.
Есть еще одна проблема, вызывающая у меня некоторую неловкость. На съемочной площадке руки у всех чем-нибудь заняты. Оператор держит камеру и экспонометр, звукооператор – микрофон, электрики – осветительные приборы и так далее. А я с утра отдаю сценарий script girl, то есть помрежу, и остаюсь с пустыми руками. Создается впечатление – отчасти верное, – что я просто шатаюсь по площадке без дела. Конечно, я руковожу. Обсуждаю что-то с оператором и актерами, отдаю какие-то распоряжения, кое-что меняю в диалогах, иногда даже что-нибудь придумываю. Но руки у меня пустые. Недавно я работал с пожилым оператором, поляком. Снимали первый фильм “Декалога”. Он внимательно за мной наблюдал. Вместе мы работали впервые, и нам хорошо работалось. Как-то раз он заметил: “Режиссер – это человек, который всем помогает”. Мне понравилось такое простое определение. Я повторил его французским грузчикам, которые протестовали, когда я после съемки помогал закидывать в кузов ящики с реквизитом. Они кивнули и разрешили мне таскать ящики.
Приезжали итальянские журналисты. Интересовались, чем отличается кинопроизводство на Востоке и Западе. Недовольно покачивали головой, услышав, что особенно ничем. Тогда я отыскал одно отличие, не в пользу Франции. Я противник часового перерыва на обед посреди съемочного дня – за это время все успевают слишком расслабиться. Это им понравилось, записали. Может, у них в Италии нет обеденного перерыва? А может, им хотелось, чтобы на Востоке хоть что-то было лучше?
В Польше проблем со съемочной группой у меня тоже не возникает. Бывает, конечно, люди не хотят выходить в ночную смену и тому подобное. У каждого свои дела, семьи. Я снимаю фильмы лишь раз в пять лет, а они занимаются этим постоянно – с одним режиссером, потом с другим, – так что их тоже можно понять. Но вообще в Польше совершенно другое отношение к труду, чем на Западе. Людей испортили сорок лет социализма. Плюс еще национальная гордость: мы ведь созданы для чего-то высшего – не для уборки клозетов, заботы о чистоте улиц, добросовестного асфальтирования дорог или ремонта водопроводных труб. Все это унизительная суета. Поляки сотворены для большего. Мы – пуп земли. Все клянут коммунизм, но я убежден, что отношение поляков к работе во многом связано с этим гипертрофированным чувством собственного превосходства. В сущности, работа для них не имеет значения. Но несмотря на это, проблем с группой у меня, повторю, не возникает. Как и во Франции. Только французы более дисциплинированны, рабочее время здесь лучше, тщательнее организовано. У поляков больше импровизации.
Мне всегда легко работается с операторами. Вечером, помимо текущих дел, мы обязательно обсуждаем планы на завтра. В Польше, в отличие от Франции, оператор – соавтор, а не только наемный технический специалист. Эту традицию мы создали в Польше сами. Она существует давно, но думаю, именно мое поколение особенно высоко подняло роль оператора. Оператор участвует в работе над фильмом с момента написания сценария, иногда еще на уровне замысла. Когда у меня возникает идея, я иду с ней к оператору. Потом показываю ему все версии сценария. Мы вместе думаем, как снимать. Оператор занимается не только камерой и светом. Он вносит вклад и в постановку. Делает замечания актерам, и имеет на это право. Именно этого я от него и жду. Предлагает свое видение сцены. Фильм – наше общее дело. Эта система создала великолепных польских операторов. Любящих так работать. Чувствующих себя соавторами фильма. И по праву. Я всегда об этом говорю.
В титрах готового фильма – множество имен: все, кто принимал участие в его создании. По крайней мере, я стараюсь указать всех. Конечно, окончательные решения принимаю я – ведь кто-то должен брать на себя ответственность. Таким человеком и является режиссер. Но главное – побудить группу думать сообща, совместно находить решения. Именно так я работаю с оператором, звукооператором, композитором, с актерами, с помощниками оператора, со script girl, с реквизиторами – со всеми. Я доверяю им и верю, что, возможно, кто-то из них найдет более удачное решение, чем я. Существует ведь такая вещь, как интуиция, – и у всех она разная. Она может подсказать лучшие решения – что часто и случается. Я беру их, и они становятся моими собственными, но я не забываю при случае напоминать, кто настоящий автор идеи. Надеюсь, что в этом отношении веду себя порядочно. Для меня это очень важно.
Вообще, я стараюсь предоставить группе достаточно свободы. Не знаю, что получается на самом деле. Может, если вы спросите их об этом, люди ответят “ничего подобного”. Но, во всяком случае, я к этому стремлюсь. Актерам я стал предоставлять свободу, поработав на “Покое” со Штуром. Я сразу решил, что диалоги мы будем писать с ним вместе. Штур прекрасный актер и интеллигентный человек, и я рассчитывал, что он сумеет почувствовать, как разговаривает его герой, какие выбирает слова, как строит фразы. В сценарии я сделал лишь наброски диалога, а окончательный текст мы писали с ним перед съемкой. Накануне вечером. Это моя система – вечером обсуждать то, что предстоит делать на следующий день. И тогда постепенно складывался живой диалог будущей сцены – из его предложений, моих предложений.
Актерам я стараюсь говорить поменьше – буквально пару слов. Они ведь слушают очень внимательно, особенно в начале работы над фильмом. Скажи слишком много – начнут потом ссылаться на мои слова, и уже не выпутаешься. Так что я крайне немногословен. Все ведь написано в сценарии. Мы можем болтать часами – но о другом: “Как дела?”, “Как спалось?” и т. д. Я предпочитаю слушать.
Я заметил у молодых режиссеров одну опасную наклонность – седина дает мне право об этом сказать: они заказывают на съемки камеру с дистанционным монитором, уходят с площадки и усаживаются перед этим монитором. Действие происходит в одном месте, а они кусают ногти в другом. Они переживают – радуются или огорчаются, если что-то идет не так, – но при этом абсолютно теряют связь с актерами. А ведь актеры обладают фантастической способностью улавливать тончайшие нюансы в поведении режиссера. Они точно знают, правильно сыграли или нет. А точнее – нравится режиссеру их работа или нет. Но как почувствовать это, если режиссер повернулся к тебе спиной и уткнулся в свой монитор? Я всегда стараюсь быть рядом с актерами.
Я люблю актеров. Это удивительные люди. В сущности, они делают за меня всю работу. Отдают мне свои лица, свои умения, а часто и куда более важное – мировоззрение, чувства. А я использую. Вовсю использую. Вот за это я их и люблю. А когда любишь человека, хочешь быть рядом с ним. Они отвечают мне тем же. И готовы дать куда больше, чем просто ремесло и глицериновые слезы.
В сущности, я снимаю кино ради того, чтобы монтировать, хотя монтажера из меня бы не вышло. Потому что монтажер – это человек, который занимается конструированием. Его дело – смонтировать материал, который снял кто-то другой. Мне кажется, я бы не сумел, потому что не смог бы погрузиться в чужой мир достаточно серьезно и глубоко. Чтобы не просто клеить пленку, а именно монтировать. Монтировать значит строить, создавать какой-то порядок. Нет, я бы не смог. В какой-то степени я сам монтажер своих фильмов, но только своих. Надо признать, из всех моих сотрудников наименьшей свободой, пожалуй, обладают монтажеры, потому что я люблю монтировать. Я не могу отдать кому-то другому то, что люблю. Как монтировать, я знаю уже во время съемок. Но на монтажном столе открываются иные возможности. Весь фокус в том, чтобы их увидеть. Может, я не прав. Может, если бы я давал монтажерам больше свободы, они бы и сами их обнаруживали.
Думаю, на самом деле я делаю фильм в монтажной. Съемки – только сбор материала, подготовка возможностей. Я стараюсь снимать именно так – чтобы обеспечить себе наибольшую свободу маневра в монтажной. Конечно, монтаж – это склейка, соединение двух кусков пленки, и на этом уровне существует ряд правил, которые следует соблюдать и нарушать только изредка. Но есть и другой уровень, куда более интересный. Монтаж как работа с конструкцией фильма, игра со зрителем, управление его вниманием, распределение напряжения. Одни режиссеры полагают, что все это заложено в сценарии. Другие верят в актеров, постановку, освещение, операторскую работу. Я тоже в это верю, но знаю, что таинственная душа фильма, которую так трудно описать, рождается только в монтажной.
Поэтому, снимая “Веронику”, я сидел за монтажным столом по вечерам и в выходные, а потом, после окончания съемок, – столько, сколько было можно. Первый вариант я постарался смонтировать как можно скорее, совершенно не заботясь о деталях. Он соответствовал сценарию – с изменениями, которые я внес во время съемок, на площадке. После просмотра стало ясно, сколько глупостей, повторов, просчетов было в сценарии. Я как можно скорее сложил второй вариант – одни сцены сильно сократил, другие выбросил, третьи поменял местами. Оказалось, перестарался. Третий вариант, в котором я вернул кое-что из выброшенного, уже напоминал фильм. Еще ни ритма, ни плавности, но наметилась структура целого. В этот период я смотрел фильм через день, а то и ежедневно, пробуя всевозможные решения, играя с материалом. В результате получилось семь или восемь вариантов – в сущности, совершенно разных картин. Из этих вариантов, из частых просмотров сложился довольно отчетливый образ фильма и определилась форма. Только тогда мы стали заниматься деталями, уточнять монтажные стыки, ритм, настроение.
Я из режиссеров, которые очень легко расстаются с большими фрагментами материала. Мне не жаль ни хороших, ни красивых, ни дорогостоящих или трудно давшихся сцен, ни хорошо сыгранных персонажей. Если оказывается, что в фильме они лишние, я выбрасываю их беспощадно и даже с некоторым наслаждением. Чем они лучше, тем мне легче с ними расстаться – я ведь знаю, что отказался от материала не из-за плохого качества, а просто потому, что без него можно обойтись.
Обычно я снимаю больше сцен, чем потом остается в фильме. Монтажер иногда чуть не плачет: “Такой прекрасный кадр! Она так чудесно сыграла эту сцену!” Но все, что кажется лишним, я вырезаю без колебаний. Вот еще одна проблема молодых режиссеров. Привязанность к собственному материалу. Хочется все использовать. Такой прекрасный материал. Хотя по большей части все это никуда не годится. Мы все повторяем эту ошибку. Трудность заключается в том, чтобы понять, что необходимо.
В монтажной я чувствую себя относительно свободным. Конечно, я располагаю только тем материалом, который снял, но он открывает, в сущности, неограниченные возможности. Теперь я не связан ни временем, ни бюджетом, не завишу от настроений актеров, организационных проблем или неполадок с – даже самой лучшей – съемочной техникой. Мне не приходится ежедневно отвечать на сотни вопросов, ждать, пока сядет солнце или установят освещение. Я просто сижу за монтажным столом и с некоторым волнением жду результата новой склейки.









































