Текст книги "In medias res"
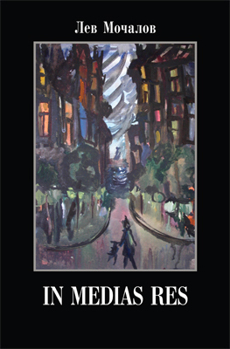
Автор книги: Лев Мочалов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Попытки оглянуться на историю
Азбучная истина: жизнь связана с водой. Может быть, даже вода – основа жизни. И жизнь – в известном смысле – сохраняет повадки воды. Как вода, распространяется во все стороны, обладая свойством отыскивать и заполнять собой каждую выбоину, каждую трещину. Трещина, разлом – это принципиальная возможность. Возможность экспансии воды, а, стало быть, жизни. И если возможность существует, то она реализуется. Причем, именно в то место, где находится эта трещина, указующая особое направление развития (эволюции), и устремляется вода. И если нет других трещин, то вся вода уходит в одну.
Не здесь ли следует искать ответ на то, почему развитие мировой цивилизации – в целом – пошло не по восточному, а по западному пути? Восток дал тяготеющие к статичности общества с традиционной культурой. Само представление о времени было цикличным. Запад дал образец динамического общества и выработал – прежде всего, в учении христианства – представление о направленности развития, о векторном времени, ведущем к Концу Света. Не взглянуло ли христианство на мир, на мировой процесс более реалистично, уловив его подлинную трагедийную диалектику, угадав ту «трещину», в которую неминуемо должна устремиться «вода-жизнь»? И противопоставив этому спокойное смирение перед неизбежностью, а также – надежду на воздаяние в мире ином, горнем? Возможно, не случайно христианский рай лучше загробного мира древних религий (греков, евреев), мира, не сулящего ничего утешительного: за более тяжкую земную жизнь и небесное вознаграждение должно быть выше…
И что если весь процесс развития человечества и земной цивилизации – не что иное, как следствие разбега, разлива «воды-жизни» и «замерзания» ее в каких-то кристаллических формах? В самом деле, жизнь человеческих обществ кристаллизуется в культурах, в памятниках. Кстати сказать, воздвижение памятников отвлекало энергию людей, направляя ее в «неполезное» русло и замедляя тем самым ход прогресса. Вместо создания орудий покорения природы, вместо производства и усовершенствования оружия (запреты в Индии и Китае) люди строили пирамиды и храмы. Улитка, согласно японской пословице, не спешила к вершине горы. Человечество не спешило в пропасть. В этом было противодействие прогрессу, чреватому всемирной катастрофой.
* * *
Пирамиды – величайший образ древности. И восточную модель общества можно назвать пирамидальной. Дистанция между управляемыми и управителем в авторитарных государствах Востока очень велика. Китайский император по отношению к простому смертному, ко всем своим подданным недосягаемо высок. Всех – много, он – император – один. Поэтому веления, исходящие и нисходящие сверху, воспринимаются массой как явления природы: дождь, снег, град; как проявление божьей стихии. Со стихией же – не спорят, ее принимают как данность. И даже – как благодать.
Такая модель управления воспитывает в гражданах высокую степень общественного конформизма. Личность как бы сворачивается в себе, замыкается на себя, что – при соответствующем воспитании и желании – не лишает ее интенсивной духовной жизни. Однако – внешне нивелируется, превращается в пластилин, из которого можно лепить всё, что угодно владыке.
Вершина пирамиды и ее основание взаимно приспособлены друг к другу и обусловливают друг друга. Подданные убеждены, что погоду, которую посылает Бог, не выбирают. «Бог» же убежден на свой лад: любое его веление хорошо уже потому, что оно заставит подчиниться всех поголовно. Настоящей обратной связи здесь нет. Есть лишь взаимообусловленное сосуществование.
Подобные системы – весьма статичны. Иное – европейский вариант. Цехи, гильдии, городское самоуправление, выборность – институты, предполагающие активность личностей. Это – динамичная модель. И – с обратной связью.
Но и динамика, и статика – в природе вещей. Реки текут, а горы стоят…
* * *
Ко времени открытия Колумбом Америки (грань XV и XVI веков) лишь регион Средиземноморья избрал путь техногенной цивилизации; другие регионы (и даже континенты) или находились на первобытной стадии развития и на ней законсервировались, или предпочитали тип традиционной культуры. В Америке не знали колеса. Азия – Китай, Индия, – хотя там и были сделаны некоторые замечательные открытия и изобретения в области техники (порох и др.) отказались от технического типа развития цивилизации. Только Европа (в первую очередь, Средиземноморье) избрала этот вариант развития. И что интересно: Средиземноморье находилось под эгидой христианства. Не столь важно – оформило ли христианство уже имеющуюся тенденцию, прорезавшуюся еще в Древней Греции и Риме, или оно стимулировало (и, может быть, даже обусловило) ее. Важно соответствие: путь техногенной цивилизации – и христианство. И вот тут приходят на ум определенные особенности христианства, отличающие его от других религий. Прежде всего – представление о времени. Оно уже не мыслилось цикличным, как в традиционных культурах. Оно получило вектор, стало историчным. Учение о Конце Света, очевидно, изменило и отношение к индивидуальной жизни, к ее времени, если учитывать принцип личной ответственности перед абсолютом. Земное время должно было быть использовано для получения наград небесных. Далее. Поскольку христианский дуализм отрицал ценность физической реальности, материи, утверждая приоритет духа, материя могла быть подвергнута переработке, внешний мир перестроен ради утверждения внутреннего. Такое разделение средств и цели (не признаваемое восточными культами), не противоречило христианской доктрине искупления первородного греха, – корне христианского учения: если можно добрыми деяниями искупить грех, то, следовательно, можно и оправдать грех святой целью! Отсюда небезызвестная формула: «Цель оправдывает средства». Эта формула явилась движущей пружиной развития техногенной цивилизации (или идеологически оформила народившуюся тенденцию). Крайне интересно, что средневековое презрение к плоти, к материи, к физическому миру очень легко сменилось ренессансным утверждением плоти и материального мира, коль скоро для этого созрели определенные возможности. Самой же смены или коренной ломки христианства не произошло. Просто Бог одухотворил материю. Земное осмысливалось как проявление небесного. Христианство пантеизировалось. Особенно – западное. И соответственно энергия личности, направленная в раннем христианстве на самоукрощение и душевное устроение личности, была направлена во вне, на овладение миром внешним, физической (а затем и социальной) реальностью. Очевидно, что личностный подвиг страдания, образец которого явил Христос, трансформировался в личностный подвиг деяния. Вспомним героев Ренессанса! Но экспансия во внешний мир и способна привести – раньше или позже – к истощеиию ресурсов природы и, возможно, к Концу Света… Эсхатология христианства, таким образом, как бы оправдывала путь техногенной цивилизации. Природа давала то, что люди у нее просили.
* * *
Признание ценности личности, стимулируемое христианством, постепенно, с течением веков настроило умы на реабилитацию начала телесного, ибо личность неотделима от данного ей тела. Этому процессу способствовало освоение опыта античных государств – Греции и Рима. Пантеизировавшееся христианство стало своеобразной формой примирения «полюсов» дуализма, имеющего свои истоки в некоторых восточных культах – зароастризм и др. В свою очередь, пренебрежение к телу, «отрешенность» от него и было базой средневековой соборности, средневекового коллективизма. Самосознание личности, трансформирующееся в философию индивидуализма, подразумевало и культ тела, всего телесного. В этом формула искусства Ренессанса.
* * *
Предпосылки распространения христианства: Римская империя дискредитировала идею национальных религий. Национальные, племенные боги уже не защищали людей. И люди, увозимые в рабство, отрывались от родной почвы. Человек представал перед миром и перед Богом – один. Христианство и предлагало единение одиночеств, «радость всех скорбящих». Сознание греховности каждого и надежда каждого на спасение – пусть не здесь, на земле, а там, на небе, – вели к росту личностного самосознания. Ценностным становилось личностное – конечное время. И это явилось мировоззренческой формой европейской цивилизации.
* * *
Духовная жизнь – горенье. Но горенье – значит, сгоранье. Как можно представить вечную жизнь духа без сгоранья?! И может быть, именно сгорание нашей плоти и питает жизнь духа? – Во всяком случае – здесь, на земле…
* * *
Только поиски абсолюта рождают настоящую трагедию, ведут на Голгофу, на распятие этим миром, что и позволяет вступать с ним в подлинное соприкосновение…
* * *
Нравственные заповеди как бы выносятся «во вне» человеческой личности. Они – даны от Бога и могут быть заявлены лишь априорно. Они – нормативны. Освоившая их совесть становится инструментом весьма жестким по отношению к отдельному человеку. Но она уже не исчезает со смертью одного человека, порождая чувство общности тех, кто уверовал.
* * *
И пусть не всегда беда находит человека, – человек всегда может найти беду: принять чужую беду как свою. Хотя, конечно же, обыденное сознание старательно сопротивляется этому, защищается душевной глухотой. Помню разговор в такси каких-то подвыпивших мужиков. (Я ехал из Института скорой помощи от Аси и случайно оказался их попутчиком). Один из них, безотносительно ко мне, но имея в виду свои дела, с тупой затверженностью повторял: «Кому интересно чужое горе?..» Да и я за время болезни Аси стал чувствовать себя прокаженным. Меня сторонились. Всё это так. И тем не менее – проблема существует…
Крайне примечательно, что христианство протянуло нити связи и зависимости между человеком (более того, Богом во плоти человека!), идущим на страдания и смерть, и – человечеством, грехи которого нравственно искупаются этой смертью. Искупаются, чтобы обратить внимание толпы на личность. И напомнить, что каждый может оказаться этой личностью по отношению к толпе, орущей: «Распни его!» В конечном итоге сам распятый осознается как Бог. Покаяние перед ним открывает путь к его обоготворению.
* * *
Мы ищем духовную реальность. И она создается для нас общением, поскольку общение так или иначе духовно. Поэтому и Бог становится реальностью, коль скоро он объединяет людей. Потребность в Боге – вопль одиночества. Обретая символ своего единения, одинокие обретают и духовную реальность.
* * *
Миша, мальчик 7 лет, попал в Ленинград и увидел обнаженные скульптуры на Аничковом мосту. Он спросил у мамы: «Почему они голые?» – «Ну, как тебе объяснить? Понимаешь, это не моряки, не военные, не рабочие – это люди вообще. Человек – вообще. Борьба человека с животным, со стихией». – «Но почему «человек-вообще» должен быть голым?» – «А вот ты попробуй нарисовать человека-вообще!» И Миша нарисовал – в шляпе!
Более убедительным для ребенка оказался ответ знакомого скульптора: «Видишь ли, это – боги». Такой ответ как бы всё объяснял, исключая дальнейшие вопросы.
* * *
Личностное и надличностное… С точки зрения большинства, первое – достоверная, самоочевидная реальность. Второе – не самоочевидная. Сознание исключительно личностно, оно осуществляется через самосознание отдельного человека. Коллективное сознание, по-существу, бессознательно, оно традиционно, мифологично. Обратная связь здесь затруднена, замедленна. Впрочем, коллективу не обязательно спешить: он бессмертен, что и символизируется образом божеств, олицетворяющих единство племени, нации.
Возникновение идеи Бога – это свидетельство расщепления, произошедшего между личностью и коллективом. Понятие единого Бога закрепляет это противостояние. Человек ответствен перед Богом, – следовательно, перед коллективом, народом, обществом. И Бог – как народ: и карающ (стихиен), и милостив (забывчив), главное же – бессмертен.
О десакрализации культуры
Революцией в науке, теорией относительности Эйнштейна пытаются обосновать крушение всех прежних святынь культуры, стирание разницы между эстетичным и антиэстетичным, между вкусом и бесвкусицей. Как же! – Ведь нет ничего абсолютного! Все ценности жизни относительны! И право же: о том, что всё – суета сует или всё – майя, сказано очень давно. Ценности: благополучие, богатство, слава – относительны. Их всегда недостает человеку, их всегда мало. По линии приобретательства, накопительства – предела нет. Но есть и нечто абсолютное – смерть человека, абсолютный нуль, дающий точку отсчета. И этот нуль задает не только масштаб относительным ценностям – в зависимости, определяемой их отдалением от антиценности, но и – «в обратном отражении» – абсолютную ценность Бога, обещающего бессмертие. Бог и есть абсолютная ценность, ибо вожделенное бессмертие – не что иное, как «зазеркалье» антиценности – смерти.
* * *
Почему во многих культурологических исследованиях фактически проводится знак равенства между релятивизмом научным (физическим), имеющим, главным образом, операционно-прикладное значение и не исключающим неких мировых констант, и релятивизмом философским, нравственным, эстетическим? Не потому ли, что культура подменяется цивилизацией, искусство – техникой? Теряя свой суверенитет, искусство начинает быть лишь дополнением к технике – дизайном; культура растворяется в цивилизации. Сегодня – устаревает модель мерседеса или кадиллака, устаревает и искусство, сервирующее модели техники, создающее комфорт сегодняшнего дня. Но в чем же тогда особая, «собственная» миссия культуры? В чем отличие искусства от техники?
* * *
Мир всё более сводится к сугубо прагматическим параметрам. Однако отрицание всего святого, а, значит, и Бога, – косвенное свидетельство крайней дешевизны человеческой жизни. Смерть перестает быть абсолютом, и об этом вопиет «смерть» Бога. А вместе со смертью Бога десакрализуется и культура. Она становится царством вседозволенности, сточной ямой всех человеческих «выбросов». Может быть, благодаря этому общество, построенное на базе техногенной цивилизации, «выпускает пары»? Человеку предлагается быть адептом существующего порядка. А если человека не всё в нем устраивает, он может изрыгать свои токсины в сферу культуры. Прежде «ад» жизни компенсировался «раем» культуры. Теперь – то, что предложено считать «раем» жизни, дозволено компенсировать «адом» культуры.
* * *
Недавно по телеящику сообщили: американцы напечатали на долларе не портрет Вашингтона или Линкольна, а изображение Христа. Каково изобретение! И вполне в духе культуры постмодернизма – в русле общего процесса десакрализации культуры, устранения в ней всего святого. Упомянутым актом культурно-духовная иерархия отождествлена с иерархией богатства-власти. Нет ли здесь признания того, что в системе дем-рынка – богатство и является, в конечном счете, властью? – Христос, некогда изгонявший торгующих из Храма, благословляет торжище и его символ – доллар! Санкционируется грандиозная сделка обмена: духовного – на материальное. Бог, тиражированный в денежных знаках, отождествляется с долларом. Доллар – становится Богом. Провозглашается, так сказать, официально.
1992
* * *
Несомненно, в Его смирении был и вызов: «Да, я готов. Распните же меня! – Чтобы оправдать смертью истину моих слов, чтобы обеспечить – очевидным! – страданием его цену. Распните! – Чтобы вами овладело чувство вины, пробуждая в сугубо телесном, скотском – человеческое, духовное. Распните! – Чтобы уже не было пути назад, если даже я и утешу вас чудом своего воскресения. Чудесной сказкой – на память, чтобы воскресать для любящих меня в их сердце.
* * *
Принимаю распятие. Сомневаюсь в воскресении. Сказка о рае и об аде – для тех, кто не может обойтись без пряника и кнута. Она припахивает коммерческой сделкой: будешь хорошо себя вести – получишь пряник, плохо – выпорют. Механизм совести – ставится над человеком, являясь, по сути, механизмом поощрения-устрашения. А мы – малые дети, которым еще не дано судить самих себя. Но что значит – внутренне! – суд, вершащийся помимо меня?..
* * *
Христианство учло эту «напасть» – виноватость живых перед умершими. Человек не только предстает перед Страшным судом – загробные кары и воздаяния есть и в других религиях, – но изначально несет вину первородного греха. Он культивирует в себе и смирение, и всепрощение. Суд человека обращается прежде всего на самого себя. И это правильно. Хотя сама идея первородного греха (и соответственно – вины), против которой выступал Л. Толстой, странна и способна, будучи логически «перевернута», перевоплощаться в идею «цель оправдывает средства». Раз можно искупить грех последующим деянием, то и совершение греха в использовании неких средств может быть оправдано возвышенной целью. К чему это приводит на практике, мы хорошо знаем…
* * *
Истина Христа: страдание – путь к идеалу. Апогей страдания – Голгофа, распятие. Примечательно, что в самом облике Христа сочетаются и предельная приниженность (он нищ, по некоторым данным – хром и т. д.), и царственность. Можно сказать: вознесение совершается через унижение.
* * *
Откуда могла возникнуть идея равенства? Ведь люди столь различны не только по характеру, но и по своим возможностям. Не являемся ли эта идея своеобразной моральной компенсацией: Бог всех призовет. И с каждого спросит! Но раз у всех равная ответственность перед Богом, то, следовательно, и права – равные.
* * *
Смысл жертвы… Ты – ради меня. Я – ради него. Деяния – во имя. И в этом – цепь, связующая нас, позволяющая преодолеть нашу разобщенность.
* * *
Идея, а главное, практика прогресса сформировалась в лоне христианской (западной) культуры. И от этого факта истории уже никуда не уйти, не отмахнуться. Прогресс реализовал, наполнил конкретным содержанием представление о векторном времени, совпадающим с христианским учением о Конце Света. Христианская эсхатология как бы узаконила трагедийность прогресса, ставшего доминантой современной истории. Вместе с тем, если не забывать об эпохе Ренессанса, религия благословляла красоту, связанную с жизнью человека, человеческой личности. Эта красота осмыслялась как священная, даруемая Богом. Искусство породнялось с религией, в его ткань вплеталось божественное начало. Дух проникал в поры материи…
Не слушая радио, не читая газет…
«Страх какой-то, – сказала сегодня Нюра, – вдруг я что-то с собой сделаю… Страх – перед предстоящим. Как всё это пережить?.. Но ведь и страна-то стала уже не своя. То там что-то, то – тут…» Как она всё это чувствует? Ведь и телевизор не смотрит, и радио практически не слушает…
* * *
Вчера утром – весть, и ранящая, и вызывающая чувство тошноты. Т. Ю. Хмельницкая пошла в сберкассу получать ваучер. Ее предупредили, что поблизости похаживает какой-то подозрительный молодой человек. Отправилась – предусмотрительно – вместе со знакомой женщиной. И всё же, обратно благополучно не дошла. На нее налетела, как она выразилась, «темная фигура» и вырвала из рук сумочку, где был и полученный ваучер, и паспорт, и блокадное удостоверение. А что она могла сделать? Ведь ей уже около восьмидесяти. «Божий одуванчик», как говорит Нонна. Вот она вседозволенность в действии: всё можно! Можно детине средь бела дня ограбить старуху…
Я зашел в свою сберкассу – узнать, пришел ли перевод. Передо мной с таким же вопросом стоял мужчина: «Как же так, 10 дней прошло, перевода нет! Когда же будет?» – «Откуда я знаю», – традиционно хамский ответ. Мне вспоминается: Маша несколько недель ходит в банк (у нее какое-то деловое поручение), а высланного перевода нет. Я поясняю мужчине: «Ваши денежки кто-то на время берет взаймы и пускает в оборот!» Стоящий за мной парень добавляет: «Чего ж вы удивляетесь, если и само правительство воровское»…
Потом – от Нюры (она – исхудала, очень пожелтела, при дневном свете особенно заметно) – поехал на выставку, посвященную Н. Н. Пунину. «Поехал» – относительно. Пешком – мимо Артиллерийского музея – до остановки у дворца Кшесинской. На «двойке» – до Инженерной, и опять пешком – до Литейного 51, где проход к Фонтанному дому, к музею Ахматовой. Выставка – интереснейшая. Эти воззвания «Уновиса» и «Искусства коммуны», провозглашающие отречение от отцов («Сотрем черты отцов с наших лиц!»), горько и стыдно читать! И, конечно, Н. Н. – один из тогдашних комиссаров – имел к этому касательство. Как это совместить: сотрудничество в «Аполлоне», статьи о русской иконописи и отдачу себя «революции в искусстве»? Безусловно, это не было просто коньюнктурой. Что же тогда? Возникающая проблема заставляет искать механизм духовной трансформации человека, деятеля культуры. Н. Н., должно быть, спасало собачье чутье на искусство. Вдруг – среди футуристических и конструктивистских ниспровержений – маленькая статья-рецензия на «Тристию» Мандельштама. И Пунин сам признается: «Я не знаю, где тут старая, где новая форма, изменяю своим единоверцам, динамике, декларациям…» Далее Н. Н. говорит о том, как он вкушает стихи О. М. и как они очаровывают. Жаль, что на доклады, запрограммированные вечером памяти, остаться я не смог…
И еще сюжет вчерашнего дня. Троллейбусы ходят редко. Давка. На углу Литейного сел на 1-ый, чтобы вернуться к Нюре. На Садовой многие выходили, и как раз на сиденье передо мной освобождалось место. Освобождалось сиденье и в правом ряду, ближе к заднему выходу. Я пытаюсь продвинуться к месту передо мной, но тут с каким-то нечленораздельным мычанием меня оттесняет только что вошедший тип, явно моложе меня, ну, уж не более сорока лет. Придавленный, я говорю: «Из психдома только что?» В ответ слышу: «И тут евреи! «Памяти» на вас не хватает!» Он усаживается, а я отчетливо произношу: «Я не еврей, но перед такими, как ты, хотел бы быть евреем». Наверное, я мог бы «отредактировать» ответ получше, но сказалось именно так. В тот же миг его кулак смазал мне по скуле. Но только «смазал», – промазал. Он сидел, а я еще стоял и был в более удобной позиции. И если бы болевой рефлекс был сильнее, то, наверное, ударил бы сразу, не просчитывая все варианты исхода. Меньше всего меня сдерживал страх. Ударил бы и уж – не иначе! – раскровянил бы ему нос, пусть даже это был бы единственный мой удар. Но на меня смотрело расплывшееся в своих чертах лицо, такое, какие я видел в психиатрических клиниках, и где-то в сознании шевельнулась версия, что это больной. (Ведь и сам я настроил себя на эту версию: «Из психдома только что?»). Ударить больного?.. И я секунду, уже отведя руку, помедлил. И тут – как-то очень спокойно и словно бы сочувственно ее придержал сосед. Я и сел рядом с ним на свободное место. Народ безмолвствовал. Но – скорее, благожелательно по отношению ко мне. И мужчина, придержавший меня, тоже не проронил ни слова. Напряженным было это молчание… Только амбал, сидевший за моей спиной, еще ораторствовал и после того, как мы обменялись «любезностями». Он мне: «Быдло». А я ему, сам удивляясь, что говорю уже вполне спокойно: «быдло-то – это ты…» Подавленное молчание постепенно рассеивалось. Народ явно не хотел влезать (да и вникать) в ссору, чтобы ее не разжечь… Амбал, уже сбавляя тон, продолжал вещать: «Вот только, когда люди кругом, на конфликт лезут. Встретились бы один на один!» Он-то, как оказалось, был не один; с ним ехало, судя по голосам, доносившимся сзади, еще человека три. И ехали в «Юбилейный», – на хоккей. Их разговор состоял из набора штампов: «Зенит» – чемпион всё равно!», «А что – чухонцы?!»… Далее – интерес сместился к законному дополнению массового спортивного зрелища: «На Большом водку всегда достанешь!» Мой-то «друг» был уже явно «в поддатии». Наверное, сидевший рядом со мной мужчина, который меня «притормозил», понял это раньше меня. А его приятели еще не успели «принять». Запомнились и какие-то другие обрывки их разговора: «Мороженое – за 250 рублей? Да, – я говорю ей, – и ты мне за 250 не нужна вместе со своим мороженым…» Так что в компанию я угодил хорошенькую. Может быть, меня спас хоккей, ожидание полного кайфа, который не стоило ломать из-за какого-то интеллигуя. В моем же сознании, слава Богу, боль от удара (удар-то не получился!) – еле ощутимая, так что и болью ее называть не стоит, не затмила соотношения важного и неважного. Меня ждала больная Нюра. Надо было покормить ее обедом.
20. 12. 92.
* * *
В гардеробе районной поликлиники (после мучительных хлопот о госпитализации Нюры – стариков и старух в больницы не берут: «Вы же знаете, в какой стране живете» – сказала заведующая отделением), одеваясь, я вместе с номерком подаю гардеробщице – невзрачной пожилой женщине – рубль (что сейчас рубль! – Проезд на трамвае, стоимость талона – 2 р.; в метро – 3 р.), но эта женщина как-то очень скромно и тихо говорит мне: «Спасибо, я денег не беру». Здесь не было и тени гордыни или вызова: что, мол, зачем мне ваши крохи. Нет, тут было достоинство. Я сказал: «Дай Вам Бог здоровья».
Рассказал об этом случае Нонне. Она заметила: «Это ведь протест против повальной продажности». Не думаю, что это осознанный протест. Скорее, определенная традиция. С этой старой женщиной, сколь это ни печально, умирает и менталитет России. Дай Бог, чтобы это было не так…
2. 01. 93.
* * *
Разговор в аптеке.
– Что-нибудь сердечное есть?
Стоящая ближе к прилавку женщина отвечает:
– Вот, панангин.
– А сколько стоит?
– Всего 2000 рублей.
– А мы столько в месяц как раз получаем, – говорит другая пожилая женщина…
После этого как-то бледнеют бодрые теле-хвалы Киселева – Гайдару, который «вернул цену рублю»… Оказывается, судя по таким телепередачам, что Гайдар знает несколько иностранных языков и часами может говорить без бумажки; а, вот, вызывает раздражение темных россиян…
4. 02. 93.
* * *
Сегодня утром, до 10 часов, мы с Машей должны были дать ответ о согласии на операцию Нюры – удаление желчного пузыря, а может быть, и чего-то еще. Больше 2-х часов ждали результата анализа крови на билирубин. Наконец, пришел лечащий врач и сказал, что показатель билирубина несколько уменьшился. «Сегодня операцию делать не будем. Поставим капельницу, а после праздников – посмотрим». (До этого главный врач был решительно настроен на операцию, и лишь по случайности – привезли больную с острым приступом аппендицита – Нюру не положили на стол. Она, сейчас – малое дитя, якобы, согласилась). Словом, дали нам отсрочку, передышку. Маша преподнесла одному врачу бутылку «Смирновской», а другому – конфеты и чай. В общем-то они, видно, славные мужики. Но больница есть больница, в чем-то подобная драге, подбрасывающей свои «камушки». Кто – останется, а кто – провалится.
Нюра всё время спрашивает, давно ли она здесь, в больнице? Не возвращалась ли она домой? Ей казалось, что она вышла, прошла по набережной, потом очутилась, вроде бы, дома, в небольшой комнате, как бы прихожей, передней. Она лежит, а мимо проходят люди, в большую комнату. Такой сон ей привиделся. Еще она говорит: «Смотрю в окно, смотрю – ночь и как будто вижу всю свою жизнь. Какие-то города с башнями и птицы ко мне прилетают, а я их кормлю…» (Это её-то жизнь! – Реальных событий она почти не помнит).
Говорю ей, что она здесь, на Крестовском, работала, стадион строила. «Помнишь Никольского? Александра Сергеевича?» – «А что – мы вместе лежали в больнице?» И снова вопрос: «Давно ли я здесь?» – «Всего неделю». – «А мне кажется, что я здесь очень давно». И вдруг – вполне ясные мысли, трезвая оценка своего положения: «Я не надеюсь, но я спокойна. Раз надо – так надо. Я же не буду капризничать. Не какая-нибудь цаца. Получится – вернемся домой, вы же меня не оставите. А нет – так уж простите меня»… Она – святой человек, преисполненный покорности и смирения, говорит нам «Простите»!..
Нюра никогда не была религиозной. Работа, домашние хлопоты (растила, вместе с мамой, меня, потом – моих детей – Машу и Асю; после случившейся с Асей беды до самой ее смерти – почти 5 лет – неотлучно была рядом с нею) – оставалось ли у нее время, возможность для размышлений о том, что там, «за чертой»? Да и на Бога она вряд ли надеялась. Но принимала безропотно то, что требовала от нее жизнь, даря близким свою бескорыстную любовь. И если есть люди, перед нравственной чистотой которых я могу преклониться, то Нюра в их числе одна из первых.
* * *
Сегодня оперировали Нюру. Две операции, одна вслед за другой. Под общим наркозом. 7 часов… И когда она уже лежала на больничной койке с трубкой во рту, притянутой веревками, как будто взнузданная и жизнью, и смертью, и смотрела куда-то мимо меня, мне казалось, что ее каменеющее лицо напряжено под давлением какого-то неземного ветра. Она пребывала в недвижном полете. Когда же наркоз начал отходить, то муки ее стали такими, что смотреть на это было страшно. Это было ее распятием. Больничная койка – тоже может оказаться подобной распятию…
20. 01. 93.
* * *
Какие-то из последних слов Нюры:
Я устала…
А чего мы ждем?..
Я усну?..
Почему мы здесь, а не дома?..
Страшно…
Обращаясь к Маше: «Ведь ты – моя мама»…
До последней минуты, хотя у нее был поставлен катетр, порывалась сама идти в туалет…
23. 01 93.
* * *
Вчера похоронили Нюру. Во время отпевания – в соборе князя Владимира, все говорили, как она стала похожа на маму. И это было действительно так. Ее страдания последних недель, и особенно последних дней, наложили свою печать на лицо. Углубились глазные впадины, весь облик приобрел черты суровой отрешенности и спокойствия. Смерть не смяла ее лица, а, напротив, придала ему нечто скульптурно-окаменелое. И даже как-то странно, этот отрешенно-суровый и монументальный лик принадлежал душе бесхитростно-простой, а последнее время – почти детской, младенческой, и в то же время – неприхотливо смиренной. По словам Маши, на долю которой выпало быть в ту минуту с Нюрой, та пошла на операцию покорно, как овечка. В каком-то смысле она стала для Маши ребенком, о котором надо постоянно заботиться, которого нужно беречь. Прогрессирующий склероз стер, изъял из памяти Нюры почти все события ее взрослой жизни; и Войну, и Блокаду. С трудом вспоминала, или, скорее, как бы угадывала она своих родственников. Помнила маму (Марию Федоровну), папу (Илью Гавриловича), сестру Веру, мою маму, а уже образы братьев – Кости, умершего по возвращении из германского плена в Первую мировую, и Сашки, пропавшего без вести во Вторую, мучительно восстанавливала в своем сознании. Так же, как и детей дяди Саши: Зарю, (умершую несколько лет тому назад), и Таню. Нюра словно бы только соглашалась, что у нас в Москве есть родственники – племянница Таня и ее сын Юра, но не более. Забыла и своего кумира, свою платоническую любовь – А. С. Никольского, о котором всегда так трогательно и артистично рассказывала. Но помнила детство: как отец ее, мой дед Илья Гаврилович, сушил, развешивая в сарае, покрытом полукруглой крышей, лечебные травы, а она помогала ему вязать пучки и размещать их на протянутых веревках.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































