Текст книги "In medias res"
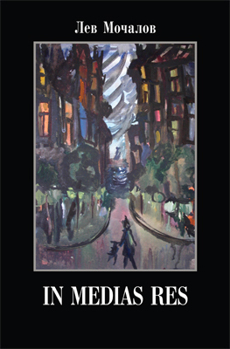
Автор книги: Лев Мочалов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Строки прощания
Вчера, в соборе Спаса Преображения отпевали Леню Агеева. Поначалу мне было никак не подойти к гробу. Потом мы с Нонной как-то приблизились к нему – с другой стороны. Смерть скрутила Леню буквально в два дня. Какой-то срыв судьбы… Дома, в своей двухэтажной квартире, шел по лесенке и упал. Сломал руку. В больнице ее загипсовали. А тромба в легком не заметили. Так ли в точности всё было, не знаю, но болезнь не успела измучить его тела. Измучить – одухотворить. Как это бывает с долго болевшими людьми. (Помню: В. А. Пушкарев, впервые увидевший Асю во время ее похорон – на Востряковском кладбище – сказал: «Хороним красивого человека»). Леня в гробу – не был красив. Меня поразила землисто-глинистая масса его лица. В этой омертвелой тяжелой плоти не было ничего от его веселой, а порой лукавой игры. Он сам – живой – как бы ушел из себя. Ушел – шумный, удалой, хмельной, с характерной медвежьей походкой. А на своей – уже не нужной – «оболочке» оставил галстук, (который, по-моему, никогда не носил) – должно быть, для встречи с Богом. Какой Бог был у него? А он, конечно, был! И – языческий, (за глаза Леню звали «Агей», и в этом было что-то эллинское, среднее между Агамемноном и его отцом – Атреем), – жил он нелегко, но со вкусом, со смаком; однако был Бог и христианский: Леня умел прощать и прощать от души. Как-то в Союзе, при почтенной публике, – у Володи Торопыгина лицо окаменело, а у Поэля Карпа брови поползли вверх, – Нонна отделала его за что-то отборнейшим матом. Он не стал полемизировать, сразу же ретировался. Только, отворив на секунду дверь и просунув в узкий прогал свою кудлатую голову, произнес: «Сама ты – жопа!» И в этом, конечно же, не было нанесения равнозначного ответного удара. Через некоторое время, в Комарово, сидя под заборчиком, что на пути из магазина, в присутствии Гали Гампер и Гриты, они распили бутылочку «на мировую». И зла Ленька на Нонну не таил, обиды не держал. За неделю до своей смерти, поминая Шалимова, объяснялся ей в нежных чувствах и дал испить из своей рюмки…
23. 02. 91.
* * *
Обрывок сна. Последний осознанный и удержанный памятью кадр. Как будто сквозь оконную раму или балконную дверь вижу лицо Нонны, молодое и светлое, образ ее – реальный, но не отягощенный бременем повседневности, не отравленный горечью не слишком складного нашего быта. И такое чувство, что она должна куда-то уйти, отбыть, уехать. Щемящее, перехватывающее дыхание… Потеря Нонны – один из традиционных, навязчивых и наиболее ранящих моих снов. То она пропадает в толпе, то кто-то ее увозит, – повторяющийся кошмар. Но здесь, в сегодняшнем сне, всего лишь некий намек на расставанье. И в нем – этом намеке (вдруг!) откровенье, откровенье любви. Сквозь все наслоения нелегкой жизни – как прозрение…
7. 03. 92.
* * *
На днях Нонна утром вбежала ко мне в комнату (я еще был в полудреме) с криком: «Нет, никогда!» – Ей приснился сон: будто бы мы перебрались в Израиль… Там уже почти все знакомые, которые пока еще здесь, Алик Городницкий, кто-то еще. Воскресли запахи южной страны. И вот – какая-то булочная, в ней булочник, тоже наш земляк из Ленинграда; он подает питту, а меж тем возникает разговор: «А вы помните булочную на углу Зверинской и Пушкарской»? В реальности – ее нет, но во сне – есть. И тут-то оглушают, обрушиваются свои, родные запахи той Булочной Детства, Юности, Всей Жизни. «Булочная – не на углу Пушкарской, а на Зверинской», – замечаю я. «Знаю, но всё равно там, во сне, я пережила весь ужас ностальгии!» И потом добавила: «Прав был Утевский, надо выбирать. Я – русская».
6. 04. 92.
* * *
4-го февраля в СП была презентация книг Геннадия Угренинова и Нонны Слепаковой – ныне представителей разных союзов. Презентация – новомодное, громкое и обязывающее слово. И я думал, что церемония будет происходить в большом зале. Но пришло всего около 30 человек (все уместились в Красной гостиной), а под конец осталось человек 15. И это тем досаднее, что читались настоящие стихи, со своим у каждого страданием. Хотя было в этом страдании и нечто общее – личностная отнесенность к исторической реальности, отсутствие дешевого игромыслия и ёрничества, подлинность чувствований. Нонна из своей – очень «плотной» – книги отобрала еще более «сгущенный» цикл; голос придавал стихам дополнительные краски. Потом началось обсуждение. Пикач сказал: «Говоря об Угренинове, приходится отметить то, что можно было бы отнести к судьбе не только его поколения и что выразилось в оттесненности на обочину, в незаслуженной вытесненности и человека, и поэта из жизни». Кржановский стихи Геннадия назвал (по его строке) «самодельной молитвой». И это также относимо ко многим из нас. Потом – по традиции старых времен (расходиться сразу не хотелось и следовало «отметить» событие) – спустились в ресторан, теперь практически уже не наш, не принадлежащий Союзу. Гена с Таней притащили свою выпивку (две бутылки водки) и булку с колбасой. Что-то нашлось – в ёмкости из-под пепсиколы – у Левитана. Официантки поначалу ворчали: «нам неинтересно, что вы у нас ничего не берете», а потом сжалились, – дали бутерброды с рыбой, масло. И, кажется, даже денег не взяли – узнали своих. Сидели за столом: Левитан, Пикач, Таня, Гена, Нонна, я, Андрей Кржановский, Лена Елагина, Наташа Карпова. И была в этом убогом застолье тоска по прошлому, какому-никакому, но единству, дружеству, которого сейчас, как видно, всем нехватает. Подошел Толик Степанов, поседевший, осунувшийся, (я его помню мальчиком). Присел рядом со мной, поделился: «Как-то были тут с Горышиным и еще кем-то, – я не разобрал – вспоминали о нашей прежней жизни…» Кржановский, сидевший от меня слева, спросил: «Кто это?» Я ответил. «Не антисемит?» – «Ученик Д. Я. Дара». А Толик, как на грех, стал распространяться о символике в журнале Н. Катерли, нашел там какие-то неточности. Он, оказывается, интересуется историей славянского язычества. И эти увлечения легко могли быть расценены по меньшей мере неоднозначно, что расстроило бы единство (или, вернее, его иллюзию!) компании. Я поспешил перевести разговор в другое русло… Наконец, нам дали понять, что пора уходить. Мы с Нонной, Гена и Таня пошли до улицы Чайковского, сели на троллейбус, доехали до Владимирской, а дальше – на метро. Генка – комок нервов, воспринимающий всё окружающее не кожей, а живым «мясом». Он явно ущемлен, задавлен жизнью, обстоятельствами, не давшими ему развернуться во всю мочь, развить в полной мере свой талант. По дороге он блестяще анализировал ситуацию, сложившуюся в общении между ним и А. Чистяковым. Тот спросил: «На какую тему Вы пишете?» – Геннадий пожал плечами: «Не знаю» – «А я – на колхозно-навозную». И было в том и презрение к жизни, и к самому себе, и в то же время «знание» – превосходство над еще не оперившимся, еще не тертым собратом. В рассказе Гены брезжила настоящая проза. Может быть, именно в прозе – самые главные слова, еще не сказанные им. Потом мы с Нонной шли пешком от метро Петроградская до дому. Она спросила «Ну, как?» – «Да всё хорошо. Но во всем мероприятии и в застолье мне видится что-то жалкое». – «Напротив, – романтически-рыцарственное!» – «Одно не исключает другого. Разве не жалко выглядит это желание сохранить хотя бы остатки вчерашнего?» – «Ну, мы еще не дошли до «идеала», до Блокады. Еще нас не бомбят, еще не голодаем». – «Всё так, всё так…» Только за последние месяцы Нонна похудела больше, чем на 20 кг. Я – на 7. Сегодня мне дали направление на консультацию к хирургу в Первый медицинский…
5. 02. 93.
И опять легче говорить о себе – как о нем… Она не спала ночь и под утро пришла к нему: сжимало сердце. Он дал ей валокордина. Она сказала: «Сколько времени тратили мы на ссоры. Я гуляла, изменяла тебе. Неужели трудно было догадаться: ты – единственное, что у меня есть!» Странно: его это и растрогало, обдало теплом, и одновременно озадачило. Если ее увлечения и «отлеты» – всё пустое, то и треволнения, душевные травмы его – тоже ерунда, неадекватная реакция по пустяковому поводу. Но тогда – они не были такими. Без нее тогда – ломалась жизнь. И он не мог перенести этой ломки… (Смешно сказать: сквозь двойные рамы окон он слышал агрессивно-навязчивое рычание грузовых автомобилей, которое во времена, когда был с ней, – не замечал, не слышал. И когда она – хотя бы временно – возвращалась, и он снова бывал у нее, автомобили переставали издавать угнетающие звуки!) И теперь он не мог признать то, что переживал тогда, чем-то напрасным и ненастоящим. Нет, боль его была настоящей…
* * *
Сколь бы ни были непросты наши личные отношения с Нонной Слепаковой (в вопросах общих у нас практически не возникало разногласий), мы прожили совместно без малого четыре десятилетия. По-существу Нонна стала неотъемлемой частью моего бытия (меня самого!). Так же, вероятно, как я стал страницей ее судьбы. Той страницей, которую зачеркнуть уже невозможно. Произошло взаимное прирастание. Природнение. Причем – духовное. Нити, связующие нас, затрагивали коренные основы личности каждого.
Какими словами поведать о бесконечно дорогом, навсегда ушедшем человеке? Никакие отдельно взятые эпизоды, факты (или сумма фактов) и даже высказывания, признания не способны решить этой задачи. Пожалуй, наиболее адекватно выражают то, что значила для меня Нонна, стихи, посвященные ей. Считаю возможным – для лучшего представления о Нонне Слепаковой – предложить вниманию читателя «выжимку» из стихов, собранных в моей книге «К портрету Н». Они писались на протяжении всей нашей совместной жизни. А также – после, когда Нонны уже не стало… Их можно обозначить как
Строки прощания
* * *
Не заносчиво
и не робко,
подбородок упрямо вскинув,
точно в беге на стометровку —
и пускай улюлюкают в спину! —
так расплачиваешься стихами
за обиды свои и беды,
а стихи, как верба в стакане,
с пузырьками у красных веток,
как на письмах цветные марки,
как веселых ромашек лучики,
как желание – в день получки —
магазин превратить
в подарки!
А в стихах – на головку клевера
прилетают жужжащие тигры,
стрекоза, как будто приклеена,
на ладошке твоей притихла;
а еще – травинка зажатая,
легкомысленная – во рту,
а душа твоя,
душа твоя —
та березонька на ветру!..
Что мне делать с твоими маками,
со шмелями твоими и пчелами,
с прирученными росомахами
и собаками учеными?
Что мне делать с июньским вечером,
где та звездочка, та скамья,
та девчонка зябко-доверчивая
и счастливая,
и не моя?
Ведь души твоей население
существует само по себе
и придумывает увеселения,
и бывает навеселе.
А твоя голубиная улица
вдруг да сделает поворот,
и не знаю, с чем зарифмуется
и куда меня
поведет?!
1961–1962
* * *
Когда иду от тебя,
уже не ходят трамваи.
Давно
двери парадных позакрывали.
Улица – тише пустынного зала.
Нет голубей. Не стало базара.
Будка ненужного автомата…
Вроде мемориальных досок
вывески банка, военкомата…
Сторож нахохленный держит в коленях посох.
Мудрый философ,
не задающий вопросов.
Светом
меня озаряют витрины.
Как экспонаты древнего Рима,
галстуки,
промтовары,
печенья
и кукурузные хлопья,
и сахар,
и кофе —
вещи
забытого назначенья,
отдаленной дневной эпохи…
Прожитыми
недоуменными числами
смотрят афиши…
Долетает до слуха —
дворники чиркают метлами сухо.
Вот когда улицы
становятся чистыми!
Улица
приводит в утро.
С шумом прошел поливальщик,
будто
светлое небо он расстелил на асфальте…
Медленно пересекает дорогу кошка.
Светится чье-то окошко…
Что ж вы не спите? – Вы засыпайте!
И ты засыпай…
1962
Рыбки
«…Знаешь,
может, тебе аквариум
к дню рождения подарить?..»
Я не спорил. Не отговаривал.
Я не знал,
что говорить.
«Пусть оранжевые рыбки
берегут семейную тишь.
Пусть разглядывают без улыбки,
как ты думаешь,
как сидишь,
как ты ищешь зубную щетку,
приготавливаясь ко сну,
как, поглаживая щеку, —
улыбаешься письму…
Чтоб, уставясь глазами навыкате
в глубину твоего жилья,
заведено жабрами двигали,
мягко водоросли шевеля.
Чтобы шлейфы разных фасонов,
всем показывая красоту,
колыхались плавно и сонно
в голубом подводном саду…
Я тебе подарю аквариум —
удивленья
настольный мир,
чтобы с рыбками ты разговаривал,
и любил бы их, и кормил.
Чтобы, им высыпая дафнии,
через многие года —
вспоминал бы
про что-то давнее,
про несбывшееся навсегда…»
…Рыбки радуются, играя.
Говори о них, говори…
Дорогая моя,
дорогая,
не дари мне их. Не дари…
1962
Деревенская элегия
Всё кажется, что дверь не заперта,
за ней незримым полыханьем ветра
живет одушевленно темнота,
безумствует разгульно и всесветно…
И вдруг – погаснет свет. Ударит тьма
в лицо… Не одолеть ее разлива.
Размыла все соседние дома,
размыла стены, стол, тебя размыла.
Я растворяюсь. Я лечу. Тону.
Тьма первобытна и непроходима.
Ты где? Откликнись! Отзовись! Ау!
Но вряд ли ты услышишь… Всё едино…
Ослеплена как будто даже речь.
И только разговаривает где-то,
пульсирует, мигает, дышит печь.
Костер в ночи. Родимая планета.
И свет – внезапно, так же как погас,
зажжется, приучая вновь к уюту
глаза. Друг другу возвращая нас…
Но где мы побывали за минуту!
1970-е
Под куполом цирка
Они взлетали в высоту
кругами, по спирали,
и мы глазами красоту
ловить не поспевали.
Он – точно птица. А она —
мерцающая рыбка,
то розова, то зелена,
выныривала прытко.
Всё очень просто, как во сне,
и всё взаправду в цирке.
Но было страшно видеть мне
бесстрашные кувырки.
Ведь мы такие ж циркачи!
(Как звали их, не помнишь?)
Моя родная, не кричи
и не зови на помощь!
Ведь мы такие же точь-в-точь,
неопытней, быть может.
Нас видят все, а вот помочь —
помочь никто не может.
Ведь у любви, ведь у любви
нет ни друзей, ни мамы.
Лети ко мне, а я – лови!
А рядом – ямы, ямы…
Ведь у любви – такой уж дом —
ни потолка, ни пола,
в январском небе молодом
Медведица – опора.
А ночь, пронзительно пуста,
друг к другу нас бросает.
И может, только высота,
она-то
и спасает!..
Середина 1960-х
Четыре бога
С лицом, самомненьем налитым,
глядит из угла на меня
угрюмо-придирчивый идол —
Заботы Текущего дня.
Он жаждет всевластия, скаред,
он всё подмечает… Он тот,
кто мучает, словно ласкает,
по темечку капелькой бьет.
Напротив – в позе пижона,
всё знающего назубок,
лениво и неублаженно
присутствует Вечности бог.
Легко обещает он то, что
не получить всё равно,
чтоб, мучаясь, жаждал истошно
того,
что тебе не дано.
Любитель
жертвоприношений,
Любви капризный божок,
над кровушкой вытянув шею,
зеленые глазки зажег.
Довольно ему и стакана!
Но хочет он, чтобы текло,
к нему на колени стекало
из вены живое тепло.
Еще – богиня Свободы.
Зовет – занимается дух.
Свобода! – может, всего-то
холодного облачка пух?
Летит – не поймаешь рукою,
парит над моею судьбой.
Откликнись, пламя какое
меня обвенчает с тобой?
…Живи, человек, негромко,
не думай о похвальбе,
воюй на четыре фронта —
и хватит славы тебе!
Середина 1960-х
* * *
Играет быстрина…
Светло и мелодично,
до донышка ясна,
звенит ее водичка:
не говор и не смех —
полупрозрачный лепет,
далекий ото всех,
самозабвенно лепит.
Но давит на весло
звенящее шуршанье
и вспыхивает зло,
ворча и угрожая,
когда плыву, гребу,
все силы напрягая,
чтоб испытать судьбу
тобой, вода тугая.
Послушай, быстрина,
я твой, моя девчонка!
Я – тонкая струна,
натянутая звонко…
Но мимо – по кривой,
в пятнисто-белой пене,
воронкой вихревой
уносится мгновенье.
И не достать рукой
того, что было рядом,
за ивы над рекой
не уцепитьтся взглядом.
И, тяжело дыша,
кричу я быстрине:
проточная душа,
дай отдышаться мне!
Постой, судьба моя,
умерь свое старанье —
мгновений бытия
незримое сгоранье!..
Лишь солнце надо мной
не гаснет – остается.
И взмыленной спиной
я упираюсь в солнце!
Середина 1960-х
* * *
Зеркальце мое,
ты куда же делось?
Все мое житье
лишь в тебя гляделось.
Замыкался зло,
посмотрел уныло —
светом изошло
и меня умыло.
Я сильней, умней
был другим на зависть,
в глубине твоей
свято отражаясь.
Мой творя портрет,
как бы говорило:
Криво? – Вовсе нет!
Прямо, а не криво!
Именно такой,
на себя похожий,
даже и плохой —
всё равно хороший.
Даже и плохой,
всё равно хороший!..
А теперь какой?
Просто так – прохожий.
1969
* * *
Всё начиналось при свечах,
и было хорошо сначала.
Лишь ты грустила, замолчав.
Нас отрешенно изучала.
А своевольный диалог
меж нами напрягал пространство
и одного к другому влек
и тут же разделял контрастно.
Наверное, в какой-то день
сидел он, выявленный светом,
а на меня ложилась тень.
Наверное, всё дело в этом.
И я не знал, что это – Он,
не думал, не гадал, что это
твой Аполлон, мой эталон,
всего несбывшегося эхо.
Твой Антиной, мой антипод,
противовес – в одной системе,
моей поверженности взлет,
свет, перекроенный из тени…
Всё начиналось при свечах,
при свете шатком и неверном,
и слово, громко прозвучав,
на пламя налетало ветром.
И дуновенье новизны
тебя восторженно знобило.
Всё предрешив, со стороны
ты наблюдала, как Сибилла.
И каждый жест, и каждый взгляд
прищуром точным засекая,
ты шла, срывалась наугад
в то – ледяное – зазеркалье…
1969
* * *
…Не в пене взбалмошной морской —
случается, что и в ангине
с ее капризною тоской
для нас рождаются богини.
Лекарство – детское питье —
пила? Ах, надо бы еще раз!
Ты вся моя, дитя мое!
Доверчивая незащищенность!
Но станет резче светотень,
апреля выбьется росточек,
и вот – в один прекрасный день —
дитя мое болеть расхочет!
На воробьином языке
позвали Петергоф и Стрельна,
и ты летела налегке
и вся светилась акварельно.
Полупрозрачна и чиста,
а так – чего ж обыкновенней?
Но приходила красота
к тебе, как Божье вдохновенье.
А вдохновение вело
тебя осмысленно и зорко.
Не сабля – Слово наголо!
Воительница! Амазонка!
В огне, на боевом коне,
к ногам сраженных повергая,
и – не моя уже, но мне
моею мукой дорогая —
летела ослепленно ты
в своей самозабвенной роли,
во всеоружье красоты,
в победном светлом ореоле…
Но календарь явил число,
и я узнал тебя иною.
Пустынно холодом несло,
и ты стояла предо мною,
свою решимость затаив…
Пылала темнота страданья
в глазах разверзшихся твоих.
И было что-то стародавнее
в платке, сужающем лицо.
И ты прощалась, как мадонна,
со мной… Ловило деревцо
снег, нисходящий монотонно.
Навеки: твой прощальный лик.
Прощальный снег. Прощальный воздух.
И разнобойный переклик
гудков – прощальных – паровозных.
Навеки: я стою, скорбя,
сегодня, как вчера и завтра,
и только нахожу тебя,
тебя теряя безвозвратно.
Начало 1970-х
Песенка
Будь моею вещей птицей,
мне спасенье пропиши, —
за живой слетай водицей
в глубину своей души.
Отыщи мое спасенье,
где – доверчиво жива —
нашей радости весенней
загрустила синева.
Говорит устало птица,
издалека молвит мне:
синий сирин только снится,
синева – была во сне.
И как будто смотрит птица
за прозрачное стекло,
где безвыходно томится,
что прошло. И не прошло…
Слышишь, птица, слышишь, птица,
принеси мне синеву,
постарайся мне присниться
не во сне, а наяву!
Начало 1970-х
В доме у пристани
Мы еще в полуправдошнем, завтрашнем,
в просыпании медленно-радужном,
но объемом морского гуденья
оттесняются сновиденья.
Своевольная радость риска
тянет сладостным поднываньем:
что-то нынче должно сотвориться,
может, нынче – мы отплываем?
Может, нас ожидает лайнер,
как надежда многоэтажный.
Высотой сосущею ранен,
неизвестностью болен каждый.
Ах, куда поведет дорога?
Ох, куда уведет навечно?
Мы себя наставляем строго.
Мы внимаем себе беспечно.
Мы себя провожаем сами
озабоченными голосами.
И платочками весело машем
опасеньям родительским нашим.
И, как будто щурясь от солнца,
изнуряем друг друга вниманьем.
– Вы простите, что мы остаемся!
– Вы простите, что мы отплываем!
Наконец-то убраны сходни.
Обтекает нас облаками.
Всё случается только сегодня.
Мы вчера не так отплывали!
– Хорошо ли в вашей каюте?
– Превосходно! Под боком чайки!
– Вы уж там о нас не забудьте!
– Вы уж тут без нас не скучайте!
Начало 1970-х
Осеннее
Сегодня и вчера
все тот же говор, гомон,
промозглый шум двора
беспамятно-огромен.
Как раковина, двор
шумит, вздыхает ветер.
Не ветер – а простор!
И шум его всесветен.
И сеется с небес
дождь, возвещая осень.
Глаза закроешь – лес
звучит многоголосьем.
И я тебя зову,
а ты застряла где-то
в лесу… Кричу: ау!
Ау!.. И жду ответа.
И долетает он,
прорезываясь в шуме,
как из дали времен,
из глубины раздумья.
Ты рядом. Я с тобой.
Мы – эхо друг для друга.
Мы ниточкой тугой
повязаны упруго.
Но память тяжело
ложится нам на плечи, —
неужто всё прошло,
отхлынуло далече?
Цветения пора,
пыланье карнавала,
напор, азарт, игра…
Неужто миновало?
И те, что отошли
на десять лет, на двадцать,
они в такой дали,
зови – и не дозваться!
А позовем – так что ж,
ответа и не чаем…
И только этот дождь
осенний нескончаем,
как жизнь – еще одна! —
не знающая грани,
предела, меры, дна
в безмолвном океане.
Середина 1980-х
* * *
В суверенности смежных комнат
бьют часы почти унисон.
Но у каждого – собственный омут,
персональный у каждого сон.
И меж нами растет расстоянье,
и река моя дальше течет,
всё сегодняшнее
растворяя,
давний мне выставляя счет.
Я в суконной броне солдата.
В сорок третий меня отнесло.
Только звезды те же… Тогда-то
на твое уповаю письмо.
Может быть, долетит, ответит,
пробивая заслоны огня,
голубок – треугольный конвертик, —
мол, еще не забыла меня!
Потому что согнуло плечи
тяжкой выкладкой прожитых лет,
потому что, уйдя далече,
не узнаю,
что скажешь вслед.
Где там – в правом ли, в левом предсердье
тяжкий жар источает война?
Не предместье горит – предсмертье
управляет притчею сна.
И уже не дожить до счастья,
до письма, до глотка воды.
Через стену не достучаться —
сном своим подхвачена ты.
Только пыль встряхнется седая, —
не вздохнуть и не отползти.
Стены рушатся, оседая…
А письмо твое – всё в пути…
1987
* * *
Распахнем, завесим ли окно —
мы живем в экспрессе всё равно.
Ложечки в стакане легкий звон,
скорость, проходящая сквозь сон.
До костей, до клеток, до основ
тело пробирающий озноб.
Тишины, наставленной в упор,
вкрадчивый, неявный приговор.
И не выйти – мы попали в плен,
в нас пульсирует ацетилен,
шелестящим пламенем своим
разве что не превращая в дым…
Смутны, размываемы дождем,
гаснут встречи, празднества, наш дом.
Мимо – тополиный пух и снег,
смех сквозь слезы и – до плача! – смех.
Век затменья, обольщенья час, —
скорость, иссекающая нас.
Мир испепеляющий сверчок,
выдал очередь – и ждет, молчок…
1990
* * *
Мы – беженцы в собственном доме,
мы, пасынки, сироты, вдовы,
которые спать на соломе
в горящем Содоме готовы:
лет на сто хотя б утонуть
во сне! Отдышаться чуть-чуть…
Из нашего прошлого ноги
мы унесли еле-еле.
И словно бы возле дороги
на скарбе своем же присели.
И слепо глядим в полутьму —
не нужные никому.
Кофейник, тарелки, бутылки
из-под веселья былого
своей не скрывают ухмылки
и только не вымолвят слова,
что нас они переживут,
иной сотворяя уют.
Часов астматических вздохи…
Архаика – книжная полка…
И кошка – из прошлой эпохи —
как привиденье примолкла:
в аквариуме окна,
быть может, ей рыбка видна?
Мы беженцы – в собственном доме,
где те же дворовые стены
застыли в оконном проеме…
И крыши… И телеантенны…
Вот разве снежок молодой
летит, незнакомый с бедой…
1992
* * *
Если большего нам не дано —
было все-таки наше окно,
а за ним – листвы полумрак…
И могло – на какой-то миг —
показаться, что передряг
нет вокруг еще никаких…
С нами кот – один на двоих —
плыл – мурлыканьем – в тишине,
увиваясь у ног твоих,
тут же ластился и ко мне.
И к земле смиренно склоняясь,
с небом чувствовали связь,
сельдерей сажая, редис,
свой устраивая парадиз.
Но постой, не спеши, разгляди,
как туман тягуче-слоист,
как потом приходят дожди,
дождик Шурш, Кропотун и Хлобыст.
Словно крадучись, наугад —
отрешенным дареньем судьбы —
за счастливый наш недогляд
подбираются к дому грибы.
То ли как бы в укор и в упрек,
то ли были покруче дела,
не заглядывал рок на порог,
и блаженная правда – лгала.
Лишь намеком наше окно
выдавало двойное дно
загустевшей ночи… Да печь
заводила гневную речь…
1995
* * *
Как будто опять и опять
мы видим себя на вокзале,
и время прощенья искать,
а главного – мы не сказали…
Всё – перед отъездом давно:
капель – в трепетанье отвесном,
и стол, и тетрадь, и окно,
и улица – перед отъездом.
Как пристально смотрят цветы! —
Прощаемся, значит, и с ними…
Но горькой своей немоты
им так и не объяснили!
Всё то, что, быть может, огнем
пылало, – попало в проруху.
И так непомерен объем
невысказанного друг другу!
Но – времени принадлежим,
и чувствуем снова и снова,
что стрелки минутной нажим
мешает нам вымолвить слово.
Торопят, спешат поезда
к оставленной в детстве сторонке
всегдашнего мая – туда,
где нету ни спешки, ни гонки.
И там, в ипостаси иной,
чего бы хотела еще ты?
В проекции вневременной
какие меж нами расчеты?!
Здесь каждый прочтен и прощен,
вся жизнь – как в видеотеке.
Скорбеть? Пререкаться? – О чем?!
Мы вместе с тобою навеки!
1992
* * *
На берегу небытия,
вдали от передряг нервозных,
где нет желанней пития,
чем лиственно-небесный воздух.
На берегу небытия
природа отдана цветенью,
и жизни сонная ладья
оттачивается светотенью.
На берегу небытия,
где дрема тенькает лесная,
там, где присели ты и я,
готовы расцвести признанья…
Как соберу, как сберегу
все эти травы, эти ветви
(опять-таки на берегу!),
мир, онемевший в многоцветье?
И кажется, идет волна —
еще не там, уже не здесь я! —
но тайной зоркостью больна
немая хрупкость равновесья.
Я снова – малое дитя,
и всё, как и тогда, вначале.
На берегу небытия
уж не до слез,
не до печали…
1995
* * *
Какая, в чем еще проблема? —
Есть лес! Болото, где пасемся, —
От шума поезда – налево,
направо – от слепого солнца.
И нету ничего забытее
свободы нашей пенсионной,
зато даруются события
природой, лишь притворно сонной.
Густеет мгла над головою,
о нас печалится как будто.
И голубиной синевою
вдруг туча холодно набухла.
Дохнула дождевая свежесть,
и капли по листве защелкали.
Мы спрятались, неловко съежась,
на хвойном коврике, под елками.
Друг к другу привалясь плечами,
в убежище своем укромном,
прислушиваясь,
молчали…
О чем? – О том, что вместе помним.
А дождь – меланхоличный танец
отплясывал, ерошил прудик,
упрямо убедить пытаясь,
что так оно всегда и будет.
Всё сыпал, – не из решета ли? —
вгоняя чуть ли не в сонливость,
пока его пережидали —
уж он-то знал! – и счастье длилось…
1997
* * *
Душа моя элизиум теней…
Ф. Тютчев
Взгляну на стол, на книги, на посуду,
на окна гляну – и мой взгляд с твоим
опять пересечется… Ты – повсюду
присутствуешь
отсутствием своим.
Недоуменно-онемелый дом – элизиум
теней, живущих тихо, взаперти,
которым разрешения коллизиям
теперь уже вовеки не найти.
Как в умопомрачении глубоком,
хочу тебе излить беду свою.
Но ты не слышишь,
стоя перед Богом,
а я еще – перед тобой стою…
1999
* * *
Господи,
ты один у меня!
Потому ли, что дома вроде и нету —
ни в одном окне не горит огня,
не спешить
к ожидающему свету.
И встречаемый разве что котом,
тихо из тишины выходящим,
я не более чем пришелец, фантом
в настоящем этом – ненастоящем.
Потому ли, что мир свихнулся слегка
и лица не оказывается под маской,
а беспечное тиканье сверчка —
не иначе! – с машиной связано адской?
Потому ли, что всё летит под уклон —
в прорву хаоса, распада, склероза,
пьян беспамятством собственным циклон,
и береза – тоже едва ли твереза?..
Лишь Тебе доверяюсь – одному,
только Ты внимаешь мне,
потому что
в целом свете никому-никому
ни сомненье мое, ни смятенье – не нужно.
Ты прости, что утлую веру свою,
природнившийся к непогоде-невзгоде,
из отчаянья – не иначе! – крою…
Оттого и дышу еще, кажется, вроде…
1999
Разглядывая фотографию
Не то чтоб с миром не в ладу,
не то чтоб с похмела,
но будто – всё еще иду…
А ты – уже пришла.
В свой глянцевитый фоторай
пришла. И молвишь мне:
Глаза, сколь хочешь протирай, —
я счастлива вполне!
Свидетель – фотообъектив.
В невинной похвальбе
увидел, жадно ухватив,
что прятала в себе.
И ежели в себя глядишь,
то прозреваешь сквозь.
Прислушайся: за шумом – тишь,
всё в нас, что не сбылось…
Ты этой жизнью удручен
еще… А я – уже
не беспокоюсь ни о чем
на райском вираже.
И воспаряю, и лечу,
тебя перехитрив.
И мне паренье – по плечу,
по нраву – мой отрыв!
И мой прищур, и мой прицел,
мой пристальный восторг
улавливают, как присел
кузнечик на листок.
Трепещущий свой изумруд
качает стрекоза, —
что пожелаешь, изберут
дотошные глаза!
Поблизости – мои коты,
денек с грибным дождем.
Вот только припозднился ты,
да ладно – переждем!
При этом – я с тобой сижу
за общим за столом
и улыбаюсь… И стыжу
тебя…
И – поделом!..
1999
* * *
И ежели тем, что живу, виноват,
и жизни – виною – перечу,
ну как не уверовать в рай или в ад,
в ту – брезжущую! – встречу?!
Душа, ужавшаяся в узелок,
немеет, но теплится втайне,
поскольку немыслимой встречи залог —
и жар, и озноб ожиданья!
Пускай – навеки ни звука, ни зги
и, как из забвенья, из гроба
не встать – но и вечность превозмоги!
Чем горше – тем истинней проба.
И стоит ли думать, что дело – труба,
что, прах, – во прахе и канем,
когда уже забирает труба
тем самым надмирным дыханьем?
Еще не пускает земная беда
гнетущею стужей колодца.
Но, Господи, как не ослепнуть, когда
внезапно она оборвется?!
Еще непонятно, в каком я краю,
но здесь я – некуда деться.
И запах ладоней твоих узнаю,
дух солнечно-сонного детства.
И наше мгновенье горит и горит —
в слезах! – не сгорая, пылая.
И сладостным отзвуком в нем говорит
боль, пережитая, былая.
По вере – свершается волшебство.
В быль складывается небылица.
И встреча (пускай за ней ничего
не следует!) длится и длится…
1999
* * *
Забыть ничего невозможно. Ты уж прости.
Мне нашей памяти общей – не выкинуть и не снести.
В старой горчичнице вязну. В чашке – тону.
То, что двоим причиталось, —
вдруг одному!
Право же, большей пытки – и выдумать не могла.
Смотришь – и синькою неба, и мглою угла.
Видишь каждую мелочь. Слушаешь тишь.
Власть старшинства обретя (вишь!) —
за мною следишь.
Мол, если в доме и нет никого, ну так и что ж!
Тапками шаркать зачем?! – Спать не даешь!
1999
* * *
Право, мелочь – средь прочих бед —
то, что в доме вырублен свет.
Я к себе прокрадусь, как вор.
И скорее – дверь на запор!
Спотыкаюсь, ключи оброня…
На свое наступаю пальто…
Но никто не слышит меня,
и не видит меня никто.
Лишь дыханием пустоты
дверь в гостиную растворена.
Только Тьма озирает…
И ты
этой Тьмою растворена…
1999
Наши дачные прощания
Как в песне, как – на войну,
покой – моему непокою;
когда обернусь и взгляну,
увижу: ты машешь рукою!
Живет, не уходит из глаз,
о натиске лет не заботясь,
навеки и «здесь» и «сейчас» —
рождаемый памятью оттиск.
И ревностно чтя ритуал,
со мною идешь до калитки,
чтоб очень-то
не горевал,
печаль растворяешь в улыбке.
Чуть голову
наклоня,
дыханьем плечо мое грея,
навек провожаешь меня,
чтоб я возвращался скорее!
И мы – в целом свете – одни,
оттиснуты светом и тенью:
прощанье – прощенью сродни,
прощанье – сродни обретенью!
«Зачем уезжаешь всегда? —
Пускай на неделю! Пусть на день!
Не каркает разве беда?
Надсад непогоды не внятен?..»
Но – как заклинанье, обряд!
И с вечностью спорит какою! —
И стоит мне глянуть назад,
ты машешь и машешь рукою…
2000
* * *
«Как долго вы живете, дорогие…»
Н. С.
Нет-нет, не свысока
ты на меня глядишь.
Твое крыло (рука!)
и защищает лишь!
Твое, твое крыло,
опять оно, опять
прикрыло, помогло
привстать, глаза поднять…
Прозрения озноб —
сверкнула ты дождем.
(Чего ж не пуля в лоб?)
Дождинкой награжден!
Дождь – пересмешник слез,
чтоб улыбнулась грусть.
Везет меня – мой воз,
всей нашей жизни груз.
Осталось одному
свой выполнять урок,
наверно, потому
мне и добавлен срок…
Сиренью у виска —
не зов, а вздох души
(нет-нет, не свысока!):
«Не надо! Не спеши!»
И впрямь… От сих – до сих,
жара ли, снеговей —
что время дней моих? —
миг
вечности твоей!
2000
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































