Текст книги "In medias res"
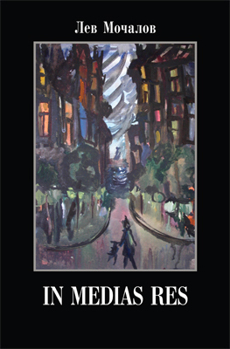
Автор книги: Лев Мочалов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
В поисках реальности
Ощущение реальности дается нам через наше самоощущение. И не иначе. Вроде бы, всё те же высыпали на майской зеленой траве желтые, солнечные одуванчики, а «прикосновения» к ним души – нет! Они уже – не твои! И вся весенняя, новорожденная природа будто заслонена от тебя прозрачной воздушной подушкой твоих забот, дел, обид. – Застеклена! И проносится перед тобой – в окнах поезда, как в кино. Да и сойдешь с поезда – удастся ли «осязать» ее всеми – этими самыми – фибрами, как когда-то?.. Только, может быть, вдруг острый тополиный запах уколет тебя на вздохе…
* * *
Каждый живет в своей реальности – реальности своих забот, обязанностей, знакомств, связей, наконец, своего дома, под защитной своей скорлупой… Эта реальность окружает человека особой сферой, пузырем, который может быть несовместим с другой реальностью – сферой другого человека. Каждый замкнут в своей икринке.
* * *
Не просто определение реальности… Разве реальность – это только тот предметный мир, который нас окружает и даже те предметы, на углы которых мы натыкаемся? Для писателя реальность – духовная жизнь, духовные свершения. Но это не значит, что перед ним одни лишь воспоминания и мечты, мир воображаемого, мир прошлого и возможного будущего. Нет, настоящее – тот узел, который связывает прошлое и будущее. Настоящее – вязко, терпко. Но оно тогда становится художественной реальностью, когда стереофонично. Когда в нем есть скорбный и просветленный отзвук прошлого и тревожно влекущий зов будущего.
* * *
Что, собственно, мы можем по-настоящему знать, как не ранившее нас по-настоящему?
* * *
Реальность – не в прикосновении, не в «точке». Реальность – в изгибе, сдвиге, повороте, перемене. В том, чего не стало, но что было. Реальность – в утрате. Или – в предощущении утраты. В сознании обреченности мига, а не самом миге…
* * *
Реальностью оказывается то, что мы утрачиваем. Не эта ли закономерность выражена в народной пословице, мудро уловившей печальный парадокс: «Что имеем, не храним; потерявши – плачем!» Реальность то, что стоит наших слез. И сегодняшний день станет для нас реальностью только завтра. Ибо реальность – это ценность. Всегда осознаваемая с опозданием, она приобретает в памяти свойство непреходящего. То, что прошло, становится вечным…
* * *
Как-то вдруг стало ясно, что прошлое у нас есть постольку, поскольку есть будущее. Хоть – капелька… Мы существуем лишь на грани прошлого и будущего, на острие данного мгновения. Оно и есть для нас непосредственная физическая (первичная) реальность. Но подлинная (глубинная) реальность – это не что иное, как сам переход из прошлого – в будущее. Их разрывание-связывание. Драма настоящего…
* * *
Реальность – мучительная стереофония прошлого и будущего в настоящем. И еще! – Она, наверное, – в оттенках, в переливах. Как уловить их? Попробуй ощутить запах скользящей тени от облачка! Постарайся установить постоянную слежку за самим собой! Относись к себе не иначе как с подозрением! И – протоколируй!
* * *
Так что же такое маячащая перед нами цель? – Не более, чем проекция на экран сознания – воображаемого будущего, наших потенций? Она – лишь идеальное оформление реальных возможностей. Пожалуй, не столь важно в жизни задаться какой-то целью, сколь верно оценить собственное призвание. И тут есть некий корректив. Когда-то, когда в тебе избыточно играла сила, естественной целью казалось, скажем, влезть на дерево! А теперь – сразу же возникает вопрос: зачем? Тогда – не возникало!..
* * *
У Андрея Тарковского в «Сталкере» – мимолетный кадр: у самой двери в «Неведомое» (исполняющее желания) – два скелета. – Обнявшиеся. Двое влюбленных, каждый из которых не может отдать любимого (любимую) кому-то, не может этого представить. И потому – желает его… смерти. Желание-то – сокровенное! Кадр, – из арсенала художественных приемов сюрреализма, мотивирован символическим подтекстом, – передаваемой этим кадром притчей. Притча – говорит о наших амбивалентных чувствах. Мы переживаем за судьбу своего ближнего, сострадаем ему. Но духовно ассимилируется нами только идеальная ипостась человека. Значит, необходимо идеальное отделить от реального. А это способна совершить лишь смерть. Смерть, за невольное желание которой мы испытываем чувство вины и жаждем раскаяния. Все обиды, наносимые нами нашим близким, порождены неосознаваемой и скрываемой от самих себя потребностью – потребностью взять от них идеальное…
* * *
Чем выше духовное развитие людей, тем менее они могут «договориться» в сфере этого высшего. Путь углубленного духовного развития – путь одиночества. И одиночество надо признать как естественную форму такого развития. Каждая ветвь имеет общность с другой ветвью лишь постольку, поскольку исходит из общего ствола. Но перед напором ветра – она сама по себе. Прогрессивное развитие – это усложнение, дифференциация. Оно создает эффект «взрыва» ветвей, расходящихся в разные стороны. Это и есть условие экспансии жизни, и, разумеется, человечества – в бесконечность Вселенной. Устойчивое единение людей возможно только на базе неких элементарных стандартов. Большинство творческих объединений распадается, как только их члены достигают зрелости. Их связывают разве что воспоминания о молодости – как о своего рода площадке молодняка. А впоследствии – получается по Маршаку:
И жить на свете будут врозь
Барсук и лев, медведь и лось…
* * *
Идеальное – в отличие от реального, (если говорить об ипостасях человека) – усваивается нами добровольно. И – в меру наших возможностей, нашего понимания. Книги некогда враждовавших между собой авторов не дерутся, стоя рядом на полке. Ведут себя тихо, благовоспитанно. И всегда есть возможность «снятия» противоречия, разрешения конфликта в ком-то третьем. Возможность какого-то нового синтеза в новой личности. Наверное, двое и не понимают друг друга – для третьего. Имея его в виду, уповая на него…
* * *
Возможно, нереализованное, отторгнутое, – всегда мстит за обиду «неизбранности», нанесенную ему. Мстит своеобразно: оно (отторгнутое) становится тем навязчивым идеалом, который казнит осуществленное – обретенную реальность. Реальность, упустившая столько возможностей, всегда подвергается критике со стороны идеала.
* * *
Почему наше раздражение направлено преимущественно на самого близкого, притом, чаще всего, любящего нас и потому беззащитного человека? Очевидно, эту направленность и следует объяснить любовью. Народная мудрость утешает: «бьет – значит, любит». Мотивом раздражения и становится неприятие реального – в идеальном. С другой стороны, из столкновений с близкими, как правило, ничего не проистекает. «В каждой избушке – свои игрушки», а жить все равно приходится вместе. Близкие – родные, и они остаются родными – по определению. Да и резервы доброты у них как бы постоянно возобновляются.
Ссора, обида, покаяние…
Да, люди, часто самые близкие, постоянно ссорятся. И вовсе не потому, что они что-то делят. Ссорятся и те, кто ничего не делит. Или начинают – за неимением причин – «делить» прошлое, обвиняя друг друга в каких-то давних грехах… Ссоры эти бессмысленны с точки зрения реальных интересов, – ими ничего не достигается. Казалось бы, участники ссор ведут себя неразумно. Но, видимо, их поведение не зависит от их осознанной воли. Ими владеет некая «высшая сила». Невольно возникает подозрение об ее особой миссии. Очевидно, утвержденный природой «институт ссоры», размолвки в чем-то целесообразен и необходим. Ссора – развилка, расхождение двух ветвей, то есть инструмент «разветвления» человеческой кроны. Или – иначе: ссора – инструмент самоопределения, самоутверждения личности.
Интересно, что со временем мы, как правило, забываем причины наших житейских ссор. Но в разгаре, в полыхании их эти очень скоро забываемые причины и кажутся нам самыми важными, самыми грандиозными и принципиальными. Они-то и выветриваются стремительно… Значит, коренные причины – не в этих, мнимых, занимающих, устраивающих в какой-то миг наше сознание. Коренные причины – во внутренней потребности стрессов, экзаменующих на выживаемость…
* * *
Нюра говорит о ком-то маме: «Она меня так обидела, так обидела, что я теперь даже не помню, что она сказала!..»
* * *
В чем причина семейного скандала? – Его неотвратимая логика, повторяющийся катастрофизм лавины, которая обрушивается от одного слова? Глупо! Никому не нужно! Тем не менее, каждый с каким-то упоением и сладострастием поддается на мельчайшую провокацию «оппонента», выполняя свою, словно предписанную роль и испытывая скрытую потребность в этом самоистязательном стрессе. В его явной неразумности заключен как будто бы некий тайный разум. Ибо стресс ускоряет ход жизни, отделяя жизнеспособное – от доживающего свой век, и тем самым изживая неразрешимые проблемы…
В скандале – таится протест против изнуряюще-тусклой обыденности, и в каком-то смысле функция его празднично-ритуальна. Он доводит ровно текущий процесс до критической точки, до перелома. Перелом – в возможности разрыва со старым и начале нового.
* * *
Жизненные нагрузки и перегрузки… Усталость… Они – почва раздражения. А раздражение – горючий материал для провокации. Зачем нужна провокация? Зачем нужно доводить человека, чтобы он сорвался?.. Срывая свой гнев на ближнем, ты разрядишься на мгновенье. Но даже если гнев праведен, он, чаще всего, несоразмерен. То-то и нужно! Нужно, чтобы ты потом каялся. Смысловая подоплека провокации: «Вспомнишь меня, когда меня не будет, пожалеешь». Это мольба о жалости. И обида, нанесенная тобой мне, залог твоей же обо мне памяти! Смешно сказать, но и семейный скандал служит тому, чтобы напоминать человеку о душевном родстве. О желании не уйти вовсе, но остаться запечатленным в сердцах оставшихся. Остаться – после своего ухода. «Оттуда» – ушедшим легче дождаться покаяния от своих самых «заклятых врагов» – близких, любимых…
* * *
Воистину: «Кого люблю – того и бью!» – игривая поговорка-пословица, вроде бы, даже с рифмочкой… А вдуматься – и верно: почему-то мы обижаем больше всего родных.
Обида – мольба, немой крик: «Помогите!» – Оттащите меня от моей немощи! Докажите мне, что я еще живу! А тот, кто обидел (чаще всего, более слабого) – пусть изопьет чувство вины, чтобы тогда, после, оно заставило вспомнить обо мне…
* * *
Чувство вины перед ушедшими – связует живых и мертвых. Те и другие между собой уже не ссорятся. Но ссора живущих – завязь их последующего – духовного – родства, мост между реально существующим и тем, что стало идеальным.
* * *
И опять вспоминаю об Асе… Ведь и добровольный уход из жизни – тоже, в сущности, мольба. Мольба о понимании, о жалости со стороны близких и любимых. Попытка – голосом уже «оттуда» тронуть их сердца, достучаться…
Но можно ли не видеть, что суицид – крайняя форма проявления дарованной человеку свободы воли? Религиозные запреты на самоубийство – разумный заслон против «ускоренного» попадания в «рай» всеобщей памяти.
* * *
Самоубийство – форма самоутверждения отчаявшихся. Сокровенный смысл самоубийства в отделении себя – реального от себя идеального, оставляемого для других, другим. Физическая слабость вовсе не толкает к самоубийству. Самоубийство – не акт слабости, примирения со смертью. Напротив, это всплеск бунтующей жизни!
* * *
Самоубийство – не что иное, как добровольная жертва, самозаклание. Человек убивает себя потому, что, очевидно, осознает конфликт между представлением о себе (идеальным) и реальными своими возможностями. Тот, кто лишен развитого самосознания, обостренного чувства несоответствия между своими духовными возможностями и физической реальностью, не станет себя убивать. – Дебилы живут преспокойно. И записка, как правило, оставляемая самоубийцей, – это последняя ниточка связи, надежда на то, что люди, всё же, примут и сохранят его образ, его идеальную ипостась, душу. Вберут ее в себя…
* * *
Лена Кумпан как-то призналась: «Мы с Глебом зверски спорили из-за стихов. И вы с Нонкой тоже, наверное, так?» – «Да – нет. Из-за стихов мы как-то не спорим. Во-первых, должно быть, потому, что есть какие-то общие камертоны. А во-вторых, у нас как бы разные «сферы влияния». На Петрове-Водкине только столкнулись. Она написала стихи про «Утренний натюрморт». Очень хорошие. Но я сделал какие-то замечания по самой интерпретации вещи: что-то мне как занудному искусствоведу показалось неточным, непопадающим… «Ну, не нравится – так возьми сам и напиши!» Я взял и написал. Вот, пожалуй, единственная история». Про себя я подумал, что слишком много, помимо стихов, было поводов для споров-раздоров. И опять же – это подтверждает мою догадку о том, что принимаемое нами за причину – лишь внешний повод. А причина – в нашей тайной, скрываемой даже от себя, потребности в ссоре…
* * *
Ссора, конфликт – желанны для нас втайне потому, что обнажают реальность нашего бытия, задевают за живое. А боль, особенно боль душевная, – свидетельство реальности.
* * *
Каждый из нас – от рождения – приговорен. Но не оповещен о дате исполнения приговора. Незнанием и спасается! – Неизвестность воспринимается почти как бесконечность; «когда-то», «некогда» – как «никогда». И это незнанье объединяет людей. Собственно, каждый и защищается незнанием.
* * *
Отчего мы так неохотно расходимся по домам, встречаясь с друзьями, или даже – участвуя в каких-либо общественных мероприятиях: собраниях, заседаниях, часто затягивающихся очень надолго? Да оттого, что, растворяясь в коллективе, мы как бы приобщаемся к его бессмертию. Ведь коллектив, род – бессмертны. Интересно, что все совместные действия коллектива – жизнеутверждающи: трапеза, хоровое пение, танец.
Даже поминки переходят нередко в праздник. У язычников проводы усопших «опровергались» вакханалиями… Растворение личности в коллективе, иллюзорное обретение ею бессмертия коллектива выразилось, между прочим, в известной поговорке: «На миру – и смерть красна!»
* * *
Чувство личностности неизбежно сопряжено с чувством собственной «предельности», смертности. И как следствие этого в человеке развиваются творческие потенции, стремление «продлить себя» за грань своего индивидуального бытия. Как у Пушкина, нет, дескать, «весь я не умру, душа в заветной лире»… Творчество личностно потому, что это личностная реакция на осознание собственной смертности. Примечательно, что жажда творчества зарождается еще в детстве, тогда, когда человек ощущает себя бессмертным. Творчество – и есть вызов смерти, приобщающий человека к бессмертию.
* * *
Наш голос начинает быть слышим – по-настоящему – лишь «оттуда». И наша жизнь, отраженная нашим небытием, вдруг приобретает терпкую ощутимость, становится реальностью и для других.
* * *
О Глебе Семенове, его последних днях… В его лице появилось нечто от обведенности у персонажей в этюдах Александра Иванова. Сине-лиловые тени. Обострение контрастов. Артикулированность черт…
Он сказал с придыханием: «Я не знал, что ты ко мне так относишься». – Наверное, в этих словах – был какой-то отголосок недовольства самим собой… Я промолчал. Про себя же подумал, что «отношусь к нему», прежде всего, – в его страдании. (Вспомнил Достоевского: «Страданию твоему поклонился»…) И мною руководит – как бы это сказать? – нечто похожее на чувство вины перед его страданием…
До этого он говорил: «Самое страшное – это ничего не мочь». Я пытался его утешить: «Вы же, все-таки, можете читать, думать, видеть…» То есть, – подразумевая возможность еще более тяжелого положения…
Один из последних образов: Г. С. после уколов (видимо, неосознанно вспоминая пастернаковского «Живаго»): «Я понимаю, что это эрзац существования, но, все-таки, какое счастье существовать! Хотя бы так, – по сравнению с тем, что было утром». (Приступы становились всё более мучительными).
И затем – обращаясь к Лене и ко мне: «Как я вас люблю!..»
Потребность в ритуалах
В столовой Дома творчества «Комарово» улавливаю обрывок фразы: снимают фильм об Ахматовой. – Говорится это кем-то из работников Телевидения под аккомпанемент позвякивающих ложек и вилок. Ловлю себя на чувстве неприязни к очередному ритуалу заклания выдающейся личности и ее запаздывающему обожествлению. Так было с Пушкиным, Лермонтовым, Маяковским, Мандельштамом, Цветаевой… Теперь – с Ахматовой. И ей довелось испить горькую чашу надругательств, претерпеть обряд травли. Неумеренно-восторженные посмертные восхваления, юбилейные торжества – таков наиболее примитивный способ реабилитации значительной личности перед обывателями. Сперва – убить, потом – проливать крокодиловы слезы…
* * *
Видимо, личность и человеческое сообщество роковым образом связаны. Вновь и вновь возвращаюсь к горькой мысли об этом. Как откупались от идола коллектива, принося в жертву своих товарищей и друзей, те деятели, которые сами уже были уготованы к закланию! Хотя этого они еще не знали. Лишь нюхом чуяли: то же самое может случиться и с ними; трудно прозревая, что каждый из них не только частица бессмертного коллектива, во имя которого он и совершал жертвоприношение (пусть лишь соучаствуя в нем), но и единица, какая-никакая личность, а, стало быть, и до него тоже дойдет очередь… Потому и старались! – Умилостивить, утолить идола другими…
* * *
Застойное общество не может не бояться инакомыслия. Инакомыслие способно поставить под сомнение правомерность его застоя. Отсюда – процессы против диссидентов. Ритуалы судилищ, поддерживающие тонус общественной дисциплины, вернее, видимость порядка, утверждающие единство – в молчании. Когда «народ безмолвствует» – не свидетельство ли это единства?
* * *
Наша недавняя история была нашим уникальнейшим университетом. Она открывала нам глаза… Ритуал жертвоприношения использовался как средство консолидации общества. Пусть хотя бы на время. И – приносили в жертву наиболее оригинальных, талантливых, выпадающих из ряда. Стрельба велась прежде всего по ним. Естественной движущей силой этой «охоты» была зависть. Коллектив сплачивался на основе уравнивания, унификации его членов. Но кроме того и, очевидно, главное то, что сам акт жертвоприношения уравнивал людей в страхе если не перед гибелью, то перед тяжкими испытаниями. Поэтому чувство самосохранения диктовало необходимость быть «как все». Не высовываться. Молчать. Молчание – пассивное приятие, подравнивание. Возможно, в скрытой (и – искаженной!) форме здесь действовал принцип равенства перед Богом – вернее, обожествленным коллективом.
* * *
Традиция жертвоприношений укоренена в глубокой (еще дохристианской) древности. В чем была их роль? Почему они обставлялись как торжественные ритуалы? Видимо, дело тут было не только в соображениях утилитарных, но и в определенном взаимодействии, диалоге предназначенных к закланию, уходящих в мир иной, и остающихся в живых. Последние – для чего-то! – должны были запомнить акт жертвоприношения, усвоить его сверхобыденный смысл. Не являлось ли оно формой своеобразного внушения, убеждающего людей в их единстве как членов коллектива, в единстве перед лицом Бога, который может и карать, и защищать. Бог был идеальным олицетворением надличностной власти и силы коллектива, племени. И грозный, и милостивый. Грозный – для непокорных, милостивый – для послушных и терпеливых. Сама торжественность кровавого обряда давала выход страстям человеческим: он покорял своей трагедийностью и в то же время дисциплинировал членов коллектива, заставляя их помышлять о чем-то высшем, потустороннем, куда отправился – за них, ради них – их же соплеменник или пленник. Акт жертвоприношения неотделим от понятия «во имя». А оно связано с представлением о Боге.
* * *
Но наряду с ритуалами жертвоприношения история знает подвиги добровольного принятия смерти, совершаемые «во имя». Во имя собственных убеждений, отстаиваемых идеалов. Этот путь указал нам Христос…
В своем предельном выражении нравственность и есть самопожертвование. Любые общественные устои предполагают ограничения для личности. Внутренние самоограничения – сфера нравственности. И они не сводятся только к соответствию ограничениям внешним. Не являются выражением страха перед законом.
Жертвенность – основа нравственности. Что такое бескорыстная забота? Помощь, участие в судьбе другого человека? В конечном счете – это трата времени, сил. Нервной энергии. Расход своей жизни. А значит, самопожертвование.
* * *
Институт жертвоприношения-самопожертвования стал возможным в человеческом роде благодаря осознанию дуализма плоти и духа, единичного и общего, реального индивида и его идеального образа. Для рода оказывается перспективным пожертвовать реальным индивидом, дабы ассимилировать его дух, его идеальный образ. У животных такой потребности не возникает. Их стереотипы поведения инстинктивны и передаются по наследству, генетически.
Наличие в человеческом роде не только эндогенного (природно-наследственного) кода, но и экзогенного (культурного), выражаемого и закрепляемого в знаковых системах, и делает целесообразным механизм жертвоприношения (и, следовательно, самопожертвования) в человеческом обществе. Человек, умирая, оставляет (способен оставить!) нечто после себя. – «Нет, весь не умру…»
* * *
Универсализм общества держится специализацией индивидов. В силу меняющихся условий бытия он требует постоянного повышения своего уровня. Чтобы он не упал, род человеческий оказывается вынужденным создавать свою культуру. Гармония или устойчивое равновесие целостности зиждится на множестве вариаций, которые реализуются индивидами. Ветви древа расходятся в разные стороны, образуя крону.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































