Текст книги "In medias res"
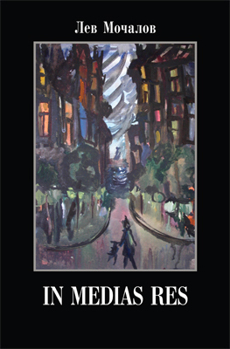
Автор книги: Лев Мочалов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
* * *
«С часиками – своя история. Они пропали. У Сашки была девушка. Красивая татарка – Фатима. Жила без матери и отца, с маленькой сестренкой на руках. И вот, как и следовало ожидать, она забеременила. Приходила с заплаканными глазами. Денег ни у нее, ни у Сашки, конечно, не было. И часики мои вместе с колечком, в которое вставлен был камушек, исчезли…»
* * *
«Белые – мамонтовцы – щли с Заворонской стороны. Кто – на конях, по четыре в ряд; кто – пешие. А потом опять – конные… Через два дома от нас жила Машка Харитонова. Ее отец, крупный здоровый мужчина, сапожничал. Целыми днями сидел, согнувшись. Стучал молотком. Так вот. Он только вышел на крыльцо посмотреть, когда шли мамонтовцы. Да, видно, не так посмотрел. Его тут же убили. – Ни за что! Искали евреев. И тоже убивали. Один старик-еврей, чтобы не попасть в руки мамонтовцам, спрятавшись где-то в подвале, покончил с собой…
Это был самый настоящий бандитский сброд. С серьгами в ушах кое-кто. На базаре они посбивали замки с лавок – всё пошло на разграбление. В городском саду каждую ночь играл духовой оркестр. Ловили всех проходящих женщин и тут же, на скамейках, использовали. Вломились и в наш дом. Человек пять-шесть. Всё перерыли. Отобрали отрез сукна, купленный то ли Косте, то ли Сашке на пальто; у папы сняли наручные часы. Мама ворчала. А папа говорил: «Ну, Маша, – пусть их!..» То, что было поценнее, заранее завернули в клеенку и опустили в уборную. – Потом отец доставал черпаком.
А у меня в комнате на туалетном столике стоял флакончик одеколона – его тут же выпили. Со мной в комнате спала Саша – горбатенькая. У нее была единственная, должно быть, ценность – высокие сапожки до колен, со шнуровкой. Тогда так модно было. Вот она и легла, не снимая их, – в постель. Однако ни ее, ни меня не тронули. Пронесло… А жутко было. Бесчинствовали они неделю, а потом ушли. Вернее, спешно бежали. Наверное, это было в 18-ом году… Я ничего не понимала в политике…»
* * *
Коснулись маминой семьи и другие события тех лет.
Сашка был арестован. Кто-то, вероятно, донес на него. Он работал на кирпичном заводе. Принес как-то – по мальчишеской резвости – пистолет. Его закопали под порогом в погребе. Когда пришли красные, арестованных перевели в теплушки на станции. Мама пошла разыскивать Сашку. Заговорила с охранником. Сказала, что ищет брата, принесла ему поесть. Дала охраннику половину каравая. Увидала Сашку… По ночам то одних, то других уводили на расстрел… Потом арестованных перевезли в Тамбов, в Губчека. Маме, видно, кто-то подсказал, как действовать. Она собрала подписи рабочих на кирпичном заводе, где работал Сашка. Бумага удостоверяла, что он все дни находился там, что не пил и т. д. Была и печать. Эту замызганную от прикосновений многих рук бумагу повезла в Тамбов. Там ее спокойно выслушали. Сказали: «Разберемся!»… Через несколько дней Сашка вернулся домой.
* * *
«В Саратове Всеволод заболел холерой. Иван Васильевич положил его в приемный покой. Выходил горячими и холодными ваннами. Такая тогда метода была. А в Козлове холерой заболела мама – М. Ф. – Ухаживала за нижними жильцами… Я обкладывала ее горячими бутылками. Узнав об этом, доктор Маршанский сказал: «Молодец!» М. Ф. поправилась…»
* * *
Мама получила извещение – из Саратовского университета – о том, что на Медицинский никого не принимают: перепроизводство врачей. Но зачисляют на Биологический. Решила ехать. «Маманя, дай мне материи на рубашки». – «На, возьми. Только не всё – сколько положено». – Пришлось сказать, что уезжает. «Отец! Верья-то, ишь, что удумала! Ни отца, ни матри у нее нет!» – «Маша, пущай едет. Верушка – девочка хорошая». – «Какая-такая хорошая, кругом таких полно. Да еще и непокорная!»
В день отьезда отец ушел в лавку – попрощались… Мать из-под юбки вынула три рубля. Провожала Маруська Прохорова. На извозчике, за 20 копеек, до вокзала…
В Саратове Иван Васильевич встретил очень радушно: «Ну, теперь мы коллеги». Он тоже учился, – на Медицинском. Был до этого только фельдшером и хотел получить диплом врача. Валентина Алексеевна тоже была очень приветлива. На столе – и это поразило маму по тогдашним временам – лежал пышный каравай белого хлеба, чуть ли не в половину стола. «Валя, а что-нибудь сладкое у нас есть?» – «Да, нет, Иван…» Тогда мама говорит: «Так ведь у меня есть гостинец!» – И достает баночку меда, добавляя простодушно: «Только он не споркий!» (По Далю, «спорый, споркий» – выгодный, прибыльный) – «Как ты сказала?» – переспрашивает Иван Васильевич. – «Ну, очень быстро уничтожается». Все хохочут. Мама краснеет. Но тут Иван Васильевич разрежает обстановку: «Вот мы ему и не дадим залежаться!»
* * *
«У Ивана Васильевича была подруга, очевидно, товарищ по каким-то кружкам, – Екатерина Николаевна Пушкарева, – Пушкариха. Некрасивая, но милая и боевая. А главное – сердечная. И любила меня… Значит, приехала она в Саратов. А я – больная. Только что аборт сделала. И можно сказать, Бог помог.
…Вышла я как-то, в полной безнадежности, пройтись. Села на скамейку в сквере. Бабушка какая-то, с тремя ребятишками, обратила на меня внимание: что, мол, такая грустная. Ну, постепенно я и открылась. А она мне – как в сказке: «Не горюй, у меня дочка акушерка. Приходи тогда-то, туда-то». Целая квартира была… А цена? – Ну. – месячная стипендия Всеволода. Как-то наскребли… Операцию делал врач. А уйти надо было до восьми вечера. Город на военном положении. И Всеволода всё нет. Приходит – уже восемь. И надо идти, а вдруг – милиция? Аборты запрещены. Не помню уж, как – добрались. Вошла в комнату – и тут же упала. Обморок… За всё время, пока была в Саратове, три аборта…
Так вот, приезжает Пушкариха. Я лежу. «Ну, что у тебя?» Я чего-то начинаю плести. А она врач опытный, в медпункте работала на железной дороге. И сразу учуяла, в чем дело. «От тебя кровью пахнет». Побежала в аптеку за лекарством. Подправилась я кое-как… А ведь и Ивану Васильевичу ничего не говорила…»
* * *
Приехали – мама и отец – из Саратова в Козлов. После начавшейся холеры и голода. (В память врезались картинки: на улице, на глазах у прохожих, мать прижимает к себе мертвого ребенка или – мать мертвая, а младенец пытается сосать ее грудь). В Козлове было полегче… Встречались со знакомыми. И однажды отец, когда его спросили, куда он едет учиться, в присутствии посторонних ответил: «Я еду в Петроград». О маме ни полслова, хотя они в Саратове, в доме Ивана Васильевича и его жены Валентины Алексеевны, жили как супруги. Мама была очень обижена. Шла домой сама не своя. Потом как-то зашел разговор с подружками – куда они едут? – «В Москву!» – «А можно и я с вами?» – «Давай!» И вот отец едет в Петроград, мама – в Москву. У нее там – ни души. Недели три пытается спать на вокзале. Ее примечают и начинают гонять, – на всякий случай: «Мало ли какие тут ходят…» Потом подружка Катя разыскала своего дальнего родственника. Он работал в каком-то военкомате, на Лубянке, где был перевалочный пункт новобранцев. Там нашлась комнатенка, – окна с выбитыми стеклами забиты фанерой, чем-то затянуты. Спать приходилось в валенках, в пальто, закутавшись в платки. Уборной не было. Главное же, проход в эту комнату шел через другую, огромную, где и располагались табором новобранцы, которые постоянно сменялись, – волна за волной. В этой комнате денно и нощно горела буржуйка. И когда мама и Катя проходили, стараясь быть не замеченными, солдаты – простые деревенские парни – говорили: «Девушки, не хотите ли кипяточку?..» А девушки – с благодарностью несли кипяток к себе в комнату, чтобы… вымыть, когда он немножко остынет, руки и лицо. Ни разу ни один из новобранцев не полез с приставаниями, не отпустил пошлой шутки… Комната, где ночевали мама и ее подруга, не запиралась…
* * *
Затем удалось устроиться на работу – машинисткой. Печатала одним-двумя пальцами. Надо было приходить вечером, чтобы поупражняться на машинке. Спасибо помогал Макс, платонически влюбленный в маму, маленький добрый еврей. Он получал посылки из Америки: «Феечка, (так он обращался к маме), я это не ем» и отдавал ей – то одно, то другое (в том числе, и какао, и курагу). Как-то Макс раздобыл разрешение на мешок картошки – тоже для мамы. И она пошла за картошкой, получила ее, а потом везла мешок на санках. Было тяжело. Подошел незнакомый военный, весь в орденах. «Девушка, давайте Вам помогу!» И тащил санки чуть не через всю Москву… И тоже – никаких приставаний, чего, конечно, можно было ожидать. Мама была красива…
* * *
«В Москве около месяца ночевала на вокзалах. Все уборные вокруг Павелецкого обследовала. Иногда пускали знакомые девчонки. Но так, чтобы хозяйка не слышала – сиди, притаившись. Только ночью прокрадешься в уборную… Потом приютилась в крохотной комнатушке. Там помещалась одна кровать. Спали с подружкой вместе. Еще оставался узенький проход. На стене висел мешок с сухарями, привезенный из дома. Брала сверху. Вдруг смотрю – сухарей всё меньше и меньше, как-то быстро оседают. Пришел Гераська, студент медик. Сунул руку в мешок с задней стороны и вытащил оттуда мышь. Целое мышиное гнездо там было! Тут же начал препарировать мышей, накалывая их на дощечке. Так мы учились… С огромным трудом добились, чтобы выделили руководителя и дали возможность работать в анатомическом театре. Труп мы достали сами. Старался один – на всю девичью компанию – парень, студент; ему еще помогала одна боевая девица. Покойницу мы окрестили Анисьей. Ассистент взрезал ей живот ножом. И для нас это было, как праздник. Настроение было такое приподнятое, что даже запаха не замечалось».
* * *
«Очень выручал Макс Вениаминович, бухгалтер. Он разрешал приходить вечером, учиться печатать. Давали какие-то бумаги Розановы, работавшие в отделе здравоохранения. Печатала… Макс говорил: «Феечка, – вот у меня селедка, а ее терпеть не могу, возьмите себе, пожалуйста!» Это было богатство! Селедку продавали на рынке, подружка всем заправляла, вытаскивала по штуке из-за пазухи. Я ничего не умела… Всё шло в общий котел…»
* * *
«Иногда Макс приглашал в театр. Ходила в подшитых валенках и в кофте, которую сама связала летом в Козлове и покрасила луковой кожурой. Да к тому же еще прожгла…»
* * *
На одном курсе с мамой занималась Муська (ее еще Микрой или Микрочкой звали – маленькой была и пухленькой). К ней приехал жених. Она, выходя замуж за своего Ивана, впоследствии крупного математика, и привела маму на свое бывшее место работы – в Реквизиционный отдел. Он помещался недалеко от Большого театра. Начальником его был Владимир Николаевич Розанов, человек образованный; очевидно, «из бывших». Он спросил: «Что Вы умеете делать?» – «Ничего… Немного училась печатать на машинке, самостоятельно». – «Ну, попробуйте перепечатать кусочек текста». Двумя пальцами мама перепечатала. – «Ну, что ж, хорошо. Только очень медленно. Но это поправимо. Будете тренироваться. Сможете оставаться на час-другой после работы?» – «Да, конечно!» И вот В. Н. давал маме перепечатывать какие-то тексты. По-видимому, как теперь она понимает, мемуары о своей революционной деятельности. «Разобраться тогда я не могла. Помню только одну деталь: «На окне – как сигнал – будет стоять зеленая лампа». О том, что я перепечатывала, В. Н. просил никому не рассказывать. Там же, в качестве управделами, работала его сестра, Наталья Николаевна. Она расспрашивала маму, где и как она живет… А жить приходилось в бывшей уборной, в которой шумела фановая труба. Иногда ночью, прямо по телу, пробегала крыса. «Сперва боялась, а потом – смахнешь рукой – и ничего!..» А непосредственным начальником был уже упомянутый бухгалтер Макс Вениаминович. Человек маленького роста, с лысиной. Относился к маме очень предупредительно. Однажды он сказал: «Какие красивые у Вас руки!» (Мама печатала). Она сразу отдернула их, спрятав под стол. По сути на этом его ухаживания и закончились. Он как-то обронил фразу: «Я же не могу рассчитывать…» Правда, однажды он вновь не удержался: «У Вас такие косы!.. Хотите, я принесу таз с водой – помыться?» – Он жил в том же доме, но выше этажом или несколькими. – «Ой, нет! Что Вы!..» Отказывалась мама и от предложений поехать на воскресенье в лагерь отдыха за город. – «Не могу оставить своих подруг, у нас всё вместе…»
Мама догадывалась, что Макс как-то связан с Розановым, и практически всегда, когда она печатала, он тоже задерживался, находя и себе какое-нибудь дело. К весне она почувствовала, что надо заниматься, надвигаются экзамены. И ушла с работы.
* * *
«Всеволод, когда были с ним год в разлуке, писал письма, присылал стихи: «Ты, как сосна гордая…» И дальше – больше: слал в Москву телеграмму за телеграммой: «Приезжай, не могу без тебя!..» А провожали в Ленинград 12 девок и один парень – Николай Николаевич Богомолов. Потом стал большим ученым. Тоже влюблен был…»
* * *
«Наконец, я приехала. В руках – две корзинки и почему-то, – наверное, чтобы не тратить денег, – пустая керосиновая фляга: всё имущество. Тачку брать не пришлось. «Пошли пешком?» – «Пошли!» По Лиговке, на Обводный, где Всеволод снимал комнатушку. Утром – стирка, у него накопился ворох белья. Кроме рубашек, и брюки перемазанные, – приходилось работать в порту, разгружать рыбу. Спросила у хозяйки корыто. «Пожалуйста» – ответ сквозь зубы. Начала стирать. Приходит Всеволод и говорит: «Собирайся, пошли!» – «Куда – пошли?» – «В Исполком – расписаться». – «А зачем?» – «Нужно для прописки. Хозяйка беспокоится». Сняла передник и – в чем была – пошла. Исполком – напротив. Смотрю – ЗАГС. Спрашивают: «Какую фамилию хотите?» – «Свою, свою!» Не хотела расставаться с собственной фамилией. Из ЗАГСа вышли мужем и женой. И – опять к корыту!..»
* * *
Отец написал маме в Москву, что ее перевели в Петроград, на медицинский. Она приехала и вот в огромном коридоре Университета ищет себя в списках… Встретились с Клавдией Николаевной Маториной из Маршанска – земляки! – и тут же подружились, хотя та была на 10 лет старше. Когда они, наконец, нашли свой список, мама и узнала, что ее перевели не на медицинский, а на биологический. (На медицинский – мест не было). Рядом с ними оказался студент, – он уже заканчивал Университет по Биофаку. Занимался ихтиологией. Но у него еще были «хвосты» чуть ли не с первого курса. Тогда это не возбранялось. «Маленький хвостик» – как говорил он, – по экологии, книжка тонкая. И еще – по политэкономии. Всё это быстро выяснилось. Разговорились сразу. Потом встречались в Университете, обменивались вопросами. Настало время сдавать экзамен по политэкономии. Книжки нет. Сказала об этом знакомому студенту, звали его Михин, Виктор Сергеевич. Он ответил, что книжка у него есть. – «Приходи, будем вместе заниматься. Мне тоже сдавать». «Провожал меня, – рассказывает мама, – Гришка Левин, маленький такой, тоже за мной ухаживал… А мне это было безразлично. Шли на Коломенскую, где жил Михин. Гришка остался ждать внизу. Я поднялась. «Ну, давай заниматься! Я, – говорит он, – буду читать. А ты слушай!» Потом спрашивает: «Ну, понимаешь что-нибудь?» – «Нет, ничего не понимаю! Давай лучше я буду читать!» Читаю я, тоже долго. Потом спрашиваю: «Понимаешь?» – «Нет, не понимаю!..» Так мы и промлели друг против друга… И ничего-то красивого в нем не было, а вот притяжение какое-то внутреннее… Вдруг спохватилась: «Ведь меня ждут!» «Прозанимались» так больше двух часов… Выхожу – Гришка действительно ждет! – «Чего же ты не ушел?» – «Да ведь поздно. Кто же тебя проводит?..»
…Потом уже – это было ранней весной 28 года. Скоро ты должен был родиться. Продавали фиалки. Да. Фиалки, – у антикварного магазина, на углу Невского и Гоголя. Ехала с работы на «восьмерке» и сощла. Покупаю фиалки. И вдруг вижу – Михин! Он посмотрел на меня – всё понял. Постояли. Поговорили. Я спросила: «Куда ты уезжаешь?» – «В Астрахань». Он крепко пожал мне руку и пожелал счастья…
…И еще была встреча. Наверное, через год мы с Николаем Николаевичем Богдановым-Хотьковым поехали на экскурсию в Крым. По приезде разместились кое-как в небольшом низком домике. И тут налетел шквал. И началось землетрясение! Первый удар! Богданов-Хотьков приказал всем держаться вместе, не расходиться. Затем – во время затишья – стали выбрасывать из окон свои вещи. С кутелями, узелками расположились на дворе. Конечно, не спали. В три часа ночи – опять толчок. Земля ходуном пошла. Держимся за руки, а нас качает из стороны в сторону. Животные разбежались, голосят. Образовались огромные трещины, провалы, – не перешагнуть! Да и пройти-то не везде можно. В шесть утра – еще удар. Богданов-Хотьков распорядился, – чтобы собираться к отъезду… Вдруг слышу – откуда-то издали кричат: «Николай Николаевич!» – Идут двое мужчин. От нас их отделяет провал. Кое-как перебираются через него. А один из мужчин, еще, видно, не перейдя трещину, спрашивает: «Скажите, Николай Николаевич, Киреева у Вас в группе?» – «Да, она здесь!» Мужчина приближается. Это и был Михин…
Надо было уезжать. Наши две арбы погрузились.
Такая история… А ведь и не поцеловались даже…
* * *
«Помню, однажды, – мы уже жили на Измайловском, – брат Всеволода, Лев, – он преподавал гимнастику на улице Красных курсантов, – принес огромный каравай хлеба. «Я перебьюсь, у товарищей корки остаются». Мы существовали на стипендию Всеволода, было голодно…
Человеческие отношения измерялись тогда – то буханкой хлеба, то – кроватями… Их доставил нам Евгений Николаевич Турчанинов, (должно быть, списанные, со склада). В революцию отца его буквально растерзали. Евгению Николаевичу пришлось бежать из Киева в Рогачев. Там у них тоже дом был. Он книгу своей родословной показывал, – из дворян. А встретились так. Было как раз наводнение. 24 год. Вдруг звонок. Открываю. «Можно?» – «Пожалуйста, заходите!» – «А что же Вы не боитесь?» – «А чего мне бояться? – У меня нет ничего». (Снимали комнату у Матильды, и она, когда изменили систему оплаты и стали платить в жакт, всю мебель из комнаты забрала). Спали на полу, на одном одеяле, накрывались – другим. Хозяйка – Матильда – презрительно звала нас «мухоброды»…
Ну, Евгений Николаевич идет со мной в комнату, осматривается: «А где же вы спите?» – «Вот, на полу». – «Так, так… Будем жить вместе. Нас сюда поселяют» Наверное, потому поселяли, что у Лины Владимировны, жены Евгения Николаевича, мать была знакома с хозяйкой. Должно быть, разговор зашел о ней. У меня вырвалось: «Уж больно она злая!» – «А нам наплевать на нее», – успокоил Евгений Николаевич.
Лина – немка. Недели две-три со мной не здоровалась, а потом всё хорошо было. И Норка, и Вовка, их дети, постоянно ходили к нам. Норка ваксы наелась у меня под кроватью. Я – в ужасе!.. А Евгений Николаевич смеется: «Не волнуйтесь, ничего не будет!»
* * *
Рассказывая, мама отдавала мне свое последнее, что еще оставалось у нее. И, может быть, самое дорогое, сокровенное. Больше у нее ничего не было. Никаких вещественных ценностей за всю жизнь не накопилось…
Я никогда не расспрашивал ее специально. Рассказы завязывались сами собой. И для меня эти крохи воспоминаний – как прощальный подарок.
Наши отношения с мамой не знали и тени – модного нынче между родителями и детьми – панибратства. Но и дистанции меж нами не было. Мама мне всегда доверяла. И вот, в последние месяцы и дни своей жизни как бы совсем открылась, выказывая высшую степень доверия. А что может быть дороже?..
Она не была верующей, религиозное ханжество ее отвращало. Но была – человеком служения, для которого нечто святое представляют сами человеческие отношения, бытие человека. Мне кажется, что в последние свои дни мама испытывала потребность в исповеди. Причем, – передо мной, сыном. Это и удивительно, и понятно. Она искала – естественного для каждого человека – оправдания своей жизни. Возможно, – подсознательно – хотела «закрепиться» во мне…
* * *
Как раскрутился этот разговор, (когда Нюра ушла что-то готовить на кухню – при ней мама, наверное, не стала бы говорить), я уже не могу восстановить в памяти. В этом не было ничего нарочитого. Всё именно раскрутилось, само собой, непроизвольно, лишь потянулась какая-то ниточка… Какая – так ли уж важно. Но ясно было, что маме хотелось сделать это признание. Оно было после очень глубокого приступа и имело смысл и последнего слова, и покаяния. Мама говорила о своем единственном «грехе» и, может быть, своей единственной любви…
Они работали вместе у Артура Артуровича Ячевского. Летом выезжали куда-нибудь для сбора материала. Ячевский руководил лабораторией по фитопатологии. «Одним из его учеников был Всеволод (тоже Всеволод!) Сергеевич Зеленецкий. Очень пунктуальный, въедливый, напористый. Вероятно, – в задатках своих – настоящий ученый. Родом из Калуги. Отец занимал какую-то важную судейскую должность, – как это называется – адвокат, судья? Нет, не так. Ну, не важно. Важно, что из культурной семьи.
Ячевский всё время как бы поощрял наше общение. Приедем куда-нибудь в деревню, а он дает задание: «Воля и Вера, возьмите ведро и пойдите, разыщите молока!» И когда я заболела, Ячевский его прислал: «Навестите Веру». И он пришел. Я испуганно смотрю на него – мол, как же ты посмел?! А он говорит: «Мне Артур Артурович поручил». Помнишь фотографии, где я в постели сижу, ты у меня на руках. Так это он фотографировал. Он был очень душевный. Совсем не такой, как твой отец, – между нами настоящей душевной общности не было, и жизнь прошла тусклая… А с Всеволодом Сергеевичем всё было по другому. Он хотел узаконить наши отношения: «Поедем к моим родителям. Они очень хорошие». – «Да как же я приду к твоей матери с ребенком не твоим, а чужим?» Он задумался, как видно, представляя себе сцену… Но всё равно не отказался от своей мысли. «Я уверен, что и отец меня поймет, и мать. Вот только разве что старшая сестра…» К ней он относился как-то настороженно. А брат его приехал в Ленинград, – тогда трудно было с работой. Он устроился кассиром в зоологический сад. Меня с ним Всеволод Сергеевич познакомил. Но потом – мне неудобно было признаваться… (Я не мог не подумать: ведь почти каждый день мы с мамой ходили в парк и нередко заглядывали в зоосад!) Никто ничего не знал. Даже – Нюра. А ты уже подрастал. Как я тебе объясню? И имею ли я право отнимать у тебя отца? Я так Всеволоду Сергеевичу и сказала, когда он предложил…» – «Ты просто не хочешь порывать с мужем…» – «Нет, я не могу лишать ребенка – отца». – «Ну, почему – лишать? Он как был, так и будет…» Но мне казалось иначе…
И вот Всеволода Сергеевича послали в дальнюю командировку, куда-то под Владивосток. А я заболела, меня мучили почки. Приходит Лёнечка Барышников, приятель твоего отца, в меня влюбленный. Трогательно спрашивает: «Вера, чего бы Вы хотели?» А я ему говорю, чтобы только отвязаться: «Варенья». Смотрю, на другой день, и правда, приносит банку варенья. И где только он ее достал?.. А однажды пригласил нас со Всеволодом, твоим отцом, в Петергоф. Я в Петергофе, стыдно сказать, до этого не была. Отец твой, конечно, отказался перед самой поездкой, – дела, мол, какие-то. И мы поехали вдвоем. И, конечно, Лёнечка благоговел передо мной, объяснялся в любви, предлагал ехать куда-то на его родину, на Северный Кавказ. Но меня ни Кавказ, ни Лёнечка не волновали. Я постаралась, чтобы наша поездка была экскурсией и только…»
– Так как же сложилась судьба Всеволода Сергеевича? – спросил я.
– «Он поехал в командировку на Дальний Восток. А я больна…
Однажды приходит в больницу твой отец, приносит плитку шоколада: «на-ка, вот тебе, ешь!» – «Спасибо»… Раскрывает и потихонечку всю ее и уничтожает. Я ни кусочка так и не попробовала… Да, о чем же я?.. Как сложилась судьба Всеволода Сергеевича?.. Пишу ему письмо: «Прости меня и прощай. Не поминай лихом. Мы не должны больше встречаться. Я не могу…» – Всего несколько слов. Потом Галина, подруга моя, рассказывала, что ее знакомый, который был вместе со Всеволодом Сергеевичем в командировке, видел, как тот получил письмо. Прочитал и прямо окаменел… Но он вернулся. И снимал комнату на Васильевском. Крохотную. И если занавеска была задернута, – значит, его нет дома. А если окно оставалось полуоткрытым, значит, он здесь. И я к нему приходила, но редко. А он высматривал меня из окна… Однажды сказал: «У меня билеты в театр». И зашел за мной. Тогда мама гостила у нас, Мария Федоровна. У меня было темное платье с высоким воротником, единственное платье за всю жизнь… У него сзади – крючки. Я маму прошу застегнуть, а у нее никак не получается: «У меня пальцы корявые»… Тогда он говорит: «Разрешите мне!» И застегивает. Вот такие детали… Зачем говорю? – Не вылетело из памяти… А он отошел, посмотрел: «Вера, тебе так идет это платье!» – Единственное за всю жизнь…
А потом он уехал. И я написала ему письмо. Очень короткое. «Прощай и прости. Не могу…» Прошло время какое-то. Он как ученый идет в рост. Галина говорит, что собирается симпозиум. А я уже не работала в лаборатории у Ячевского. Артур Артурович заболел. Приехал какой-то очень резкий человек. Стал всех вызывать по одному. «А где Ваш брат?» Я сказала, что в Москве. Учился, а теперь работает. Вроде, и весь разговор. Но стало страшно… Ты подрастал… Ну, и пришла я на симпозиум. Поздоровались с Всеволодом Сергеевичем – при всех, в общем ряду. Он делал доклад. Я немного послушала и потихоньку ушла. Было очень горько… Ты прости мне мою исповедь. Всё, как подруге, рассказала… Не презираешь меня?..»
– Выходит, я был тем зайцем, который перебежал тебе дорогу. Из-за меня скомкалась твоя жизнь?
И мама ответила как-то очень просто и спокойно: «А кто знает, может быть, если бы всё и получилось так, как хотелось, тогда бы и света такого не было? В реальности всё не так получается…
Письма и фотографии я все уничтожила…»
* * *
После болезни мама, (захватив с собой меня, – в первый раз мне было три года, а во второй – четыре, так что я кое-что смутно помню), поехала в Даниловку, деревню под Москвой, километрах в шести от станции Белые столбы. Блаженное место, которое видится мне светлым раем детства. Там – и сад с яблонями, сливами, вишнями; и ажурный березовый лес со стоящими повсюду грибами; своими красными шляпками – в зеленой траве – они одаривали настроением праздника. Была и конюшня, с крепким запахом дегтя, и сеновал, с другим – легким, солнечным – запахом, где мы с мамой спали и куда ранним утром приносили парное молоко. Однажды хозяин сказал маме: «А тебе не страшно на сеновале?» – «А чего бояться?» – «Да ты ведь еще совсем молодая! Посмотри на себя в зеркало!» Мама посмотрела и засмеялась: зеркало было сплошь засижено мухами. Но о них я уже не помню…
* * *
И еще воспоминание о жизни в Даниловке. Анька, (Анна Николаевна), жена маминого брата Сашки, была в расстроенных чувствах и решила пойти в лес. Но тут надвинулась темная туча. Назрела и разразилась гроза. Мама побежала в лес, стала звать Анну Николаевну. Та откликнулась. Выходит навстречу и крестится: «Господи. Помилуй! Господи, помилуй!» – На бегу, под дождем. Споткнется, поднимется и опять крестится. Наконец, дома! Переоделись… Мама подтрунивала: «Что же ты, коммунистка, Господа вспоминаешь?»
Это было в самом начале тридцатых, 31-ый или 32-ой год. Время безоглядного и безбожного энтузиазма…
* * *
«Помню, – ты еще маленький был, – приходит ко мне какая-то женщина: «Я такая-то, здравствуйте!» – «Здравствуйте!»… Вся подтянутая, завитая. – «Хотела с Вами поговорить, познакомиться». – «Ну, проходите»… И стала всё осматривать. И одну комнату, и другую. «Как вы тут живете со Всеволодом Ивановичем?» – «Как? Хорошо». – «Ну, а бывает, что он поздно приходит?» – А к этому времени у него уже был роман с Соловьевой, матерью Инги. Она архитектором была. И они с друзьями собирались вместе, компанией. В темноте голые танцевали. Не знаю уж, только одни женщины или и мужчины?.. Всеволод потом рассказывал… Сам-то он вообще не танцевал. (Впрочем, и я тоже). Так вот, эта женщина – с работы Всеволода – всё оглядывает, выспрашивает. Поздно ли приходит, ночует ли дома? Я говорю: «Ну, бывает, задерживается на работе, когда срочные дела. А так – всё хорошо». Пыталась и в интимные отношения залезть. Тут уж я дала ей понять, что это дело двоих… Когда Всеволод пришел, я ему всё передала. И он сказал: «Молодец, что так держалась». Конечно, в наших отношениях уже тогда была трещина…
А потом отца вызвали в Большой дом. И он ушел днем, а вернулся только на следующий день часов в 12. Допрашивали. Задавали вопросы. Он что-то скажет, а ему говорят: «Вы выйдите, подумайте» И час ждет в коридоре. И так – весь день и всю ночь. Когда пришел домой, лица на нем не было. Какие уж тут личные отношения? До них ли?..»
* * *
Вера Яковлевна явилась однажды с черного хода. Мама возилась на кухне у плиты, жарила котлеты. «Хочу с Вами познакомиться…» – «А я не хочу! – У меня котлеты горят!» И закрыла перед ней дверь. Потом пришла телеграмма на имя отца: «Уезжаю, буду мучительно ждать». Отец-таки отправился на вокзал. А мама пошла к Галине (подруге) и они, переодевшись, устроили этакий маскарад, поехали следом, к поезду. (Номер вагона был известен). Тут, на вокзале и произошла сцена!.. Вера Яковлевна уехала. Вернувшись домой (с Галиной), пили чай…
А в Саранске, в эвакуации, мама и Вера Яковлевна стояли рядом на барахолке, продавали какие-то тряпки. «Вы замечательная женщина!» – говорила маме ее соперница.
Роман отца с Верой Яковлевной был длительным, многолетним. И если его – как специалиста-строителя – отозвали с фронта, то уж, видно, не без ее стараний.
* * *
Когда (после эвакуации) приехала Инга, – а мама и отец были уже в ссоре, – отец сказал: «Ты дай мне что-нибудь – накрыться, мы (с Ингой) ляжем на диване, она – к стенке, а я с краю» (Лишних кроватей не было) – «Нет, – возразила мама, – кому какое дело, что мы не спим вместе. Инга ляжет отдельно. Она не виновата». Отец плакал на груди у мамы: «Какая у тебя душа!..» Мама удочерила Ингу. Но характер у нее оказался нелегким, она не ладила с отцом. И довольно скоро уехала в Москву, к дяде.
* * *
Последней каплей, переполнившей терпенье мамы, стала ерунда. Нужно было на всех приготовить какой-то и из чего-то (шли в ход и крапива, и лебеда) обед, – на буржуйке. Мама пыталась колоть дрова на щепки, это у нее не получалось. Отец сидел за столом над чертежами. Мама не выдержала: «Неужели ты не понимаешь, что мне трудно?!» – «Ты хочешь с одного вола содрать две шкуры?..» Тогда и была закрыта дверь из одной комнаты в другую. Иногда отец просил кипяточку. Иногда пытался придти ночью. Мама была непреклонна. (Только ли из-за того, что отец ей однажды не помог?..)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































