Текст книги "Полное собрание сочинений. Тома 18-19"
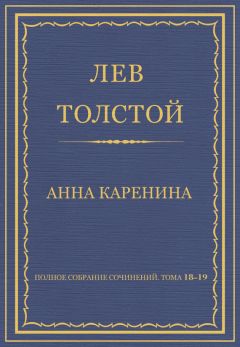
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 43 (всего у книги 84 страниц)
Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике, посещающей их, с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этою самою претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние; и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая современно железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы – произвели на Левиных после их молодой жизни самое тяжелое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их.
Как всегда, оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно нумер, ни одного хорошего нумера не было: один хороший нумер был занят ревизором железной дороги, другой – адвокатом из Москвы, третий – княгинею Астафьевой из деревни. Оставался один грязный нумер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену зa то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им нумер.
– Иди, иди! – сказала она, робким, виноватым взглядом глядя на него.
Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какою он видел ее в Москве; то же шерстяное платье и голые руки и шея и то же добродушно-тупое, несколько пополневшее, рябое лицо.
– Ну, что? Как он? что?
– Очень плохо. Не встают. Они всё ждали вас. Они… Вы… с супругой.
Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему.
– Я уйду, я на кухню пойду, – выговорила она. – Они рады будут. Они слышали, и их знают и помнят за границей.
Левин понял, что она разумела его жену, и не знал, что ответить.
– Пойдемте, пойдемте! – сказал он.
Но только что он двинулся, дверь его нумера отворилась, и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение; но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать.
Первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину; но это продолжалось только одно мгновение.
– Ну что же? Что же он? – обратилась она к мужу и потом к ней.
– Да нельзя же в коридоре разговаривать! – сказал Левин, с досадой оглядываясь на господина, который, подрагивая ногами, как будто по своему делу шел в это время по коридору.
– Ну так войдите, – сказала Кити, обращаясь к оправившейся Марье Николаевне; но заметив испуганное лицо мужа, – или идите, идите и пришлите за мной, – сказала она и вернулась в нумер. Левин пошел к брату.
Он никак не ожидал того, что он увидал и почувствовал у брата. Он ожидал найти то же состояние самообманыванья, которое, он слыхал, так часто бывает у чахоточных и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, бòльшую слабость, бòльшую худобу, но всё-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертию, которое он испытал тогда, но только в большей степени. И он готовился на это; но нашел совсем другое.
В маленьком грязном нумере, заплеванном по раскрашенным пано стен, за тонкою перегородкой которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до средины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб.
«Не может быть, чтоб это страшное тело был брат Николай», подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стòило взглянуть в эти живые поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат.
Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье.
Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось.
– Ты не ожидал меня найти таким, – с трудом выговорил он.
– Да… нет, – говорил Левин, путаясь в словах. – Как же ты не дал знать прежде, то есть во время еще моей свадьбы? Я наводил справки везде.
Надо было говорить, чтобы не молчать, а он не знал, что говорить, тем более, что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он всё еще надеялся.
Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет приведет жену.
– Ну, хорошо, а я велю подчистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша! убери здесь, – с трудом сказал больной. – Да как уберешь, сама уйди, – прибавил он, вопросительно глядя на брата.
Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену, но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтоб она не ходила к больному. «За что ей мучаться, как я?» подумал он.
– Ну, что? как? – с испуганным лицом спросила Кити.
– Ах, это ужасно, ужасно! Зачем ты приехала? – сказал Левин.
Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа; потом подошла и обеими руками взялась за его локоть.
– Костя! сведи меня к нему, нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, сведи меня, пожалуйста, и уйди, – заговорила она. – Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь! —умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого.
Левин должен был согласиться, и, оправившись и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату.
Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтоб ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той, только женщинам свойственною, неоскорбляющею и сочувствующею тихою оживленностью начала говорить с ним.
– Мы встречались, но не были знакомы, в Содене, – сказала она. – Вы не думали, что я буду ваша сестра.
– Вы бы не узнали меня? – сказал он с просиявшею при ее входе улыбкой.
– Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать! Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился.
Но оживление больного продолжалось недолго.
Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое укоризненное выражение зависти умирающего к живому.
– Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо, – сказала она отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. – Надо будет спросить у хозяина другую комнату, – сказала она мужу, – и потом чтобы нам ближе быть.
XVIII.Левин не мог спокойно смотреть на брата, не мог быть сам естествен и спокоем в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок, и мучительное положение и стоны и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там, под одеялом, это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострецы, спина и нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможною, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно, не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним.
Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и гадливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание. Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марью Николаевну месть, стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала под одеяло. Что-то по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой нумер, не обращая внимания на проходивших ей навстречу господ, доставала и приносила простыни, наволочки, полотенцы, рубашки.
Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз с сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнить ее приказания, так как она с такою ласковою настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего; он не верил, чтоб из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился, вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными, выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен, и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону; но больной застонал, и она быстро направилась к нему.
– Скорее же, – сказала она.
– Да не ходите, – проговорил сердито больной, – я сам…
– Что говорите? – переспросила Марья Николаевна.
Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней.
– Я не смотрю, не смотрю! – сказала она, поправляя руку. – Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте, – прибавила она.
– Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке сткляночку, – обратилась она к мужу, – знаешь, в боковом карманчике, принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем.
Вернувшись со стклянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно, под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стклянки, графин, и сложено было нужное белье и работа broderie anglaise Кити. На другом столе у кровати больного было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи и с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити.
Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарство и с особенною подробностью объяснил сначала, как принимать лекарство, потом – какую соблюдать диэту. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату; но Левин расслышал только последние слова: «твоя Катя», по взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее.
– Мне гораздо уж лучше, – сказал он. – Вот с вами я бы давно выздоровел. Как хорошо! – Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее.
– Теперь переложите меня на левую сторону и идите спать, – проговорил он.
Никто не расслышал того, что он сказал, одна Кити поняла. Она понимала, потому что не переставая следила мыслью за тем, что ему нужно было.
– На другую сторону, – сказала она мужу, – он спит всегда на той. Переложи его, неприятно звать слуг. Я не могу. А вы не можете? – обратилась она к Марье Николаевне.
– Я боюсь, – отвечала Марья Николаевна.
Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странною тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею обнятою огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса, опять прилипшие на виске.
Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты.
XIX.«Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным». Так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер.
Левин думал о евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как ни различны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать.
Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным, нельзя; говорить о смерти, о мрачном – тоже нельзя. Молчать – тоже нельзя. «Смотреть – он подумает, что я изучаю его, боюсь; не смотреть – он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках – он будет недоволен; на всю ногу – совестно». Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе; она думала о нем, потому что знала что-то, и всё выходило хорошо. Она и про себя рассказывала и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и всё выходило хорошо; стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что, кроме физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава Богу, причастили, соборовали, дай Бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться.
Вернувшись от больного на ночь в свои два нумера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женою не мог: ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что всё прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам.
Всё дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что нумер стал похож на дом, на ее комнаты: постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы.
Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала всё это так, что ничего в этом оскорбительного не было.
Есть однако они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать.
– Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться, – говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. – Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении.
– Неужели ты думаешь, что он может выздороветь? – сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки.
– Я спрашивала доктора: он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве они могут знать? Я всё-таки очень рада, что уговорила его, – сказала она, косясь на мужа из-за волос. – Всё может быть, – прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии.
После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверения в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что всё то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про broderie anglaise: будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и т. п.
– Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого, – сказал Левин. – И… должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что… – Он взял ее руку и не поцеловал (целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным), а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза.
– Тебе бы так мучительно было одному, – сказала она и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. – Нет, – продолжала она, – она не знала… Я, к счастию, научилась многому в Содене.
– Неужели там такие же были больные?
– Хуже.
– Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым… Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда.
– Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны были с ним, – сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза.
– Да, были бы, – сказал он грустно. – Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира.
– Однако нам много предстоит дней, надо ложиться, – оказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































