Текст книги "Полное собрание сочинений. Тома 18-19"
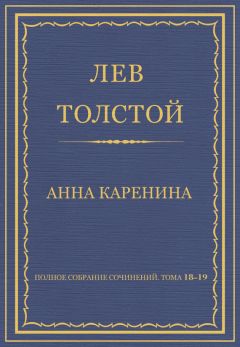
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 70 (всего у книги 84 страниц)
Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям (он не мог еще разобрать их), сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному.
Слова, сказанные мужиком, произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его и в то время, когда он говорил об отдаче земли.
Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое.
«Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? И что можно сказать бессмысленнее того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд, то есть что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто ни понять, ни определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными?».
«Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны».
«Федор говорит, что Кириллов дворник живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я с намека понимаю его! И я и миллионы людей, живших века тому назад и живущих теперь, мужики, нищие духом и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие то же, – мы все согласны в этом одном: для чего надо жить и что хорошо. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом – оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий».
«Если добро имеет причину, оно уже не добро; если оно имеет последствие – награду, оно тоже не добро. Стало быть, добро вне цепи причин и следствий».
«И его-то я знаю, и все мы знаем».
«А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня. А вот оно чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его!»
«Какое же может быть чудо больше этого?»
«Неужели я нашел разрешение всего, неужели кончены теперь мои страдания?» думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнення и, не в силах итти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву. Он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку, на сочную, лопушистую лесную траву.
«Да, надо опомниться и обдумать, – думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки. – Всё сначала, – говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. – Что радует меня? Что я открыл?»
«Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы и этой букашки (вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела) совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами, и с облаками, и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? во что? Бесконечное развитие и борьба?.. Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном! И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение мысли по этому пути, мне всё-таки не открывается смысл жизни, смысл моих побуждений и стремлений. А смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем, и я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его: жить для Бога, для души».
«Я ничего не открыл. Я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина».
И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние два года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого безнадежно больного брата.
В первый раз тогда поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить, что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться.
Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать и даже в это самое время женился и испытал много радостей и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни.
Что ж это значило? Это значило, что он жил хорошо, но думал дурно.
Он жил (не сознавая этого) теми духовными истинами, которые он всосал с молоком, а думал не только не признавая этих истин, но старательно обходя их.
Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан.
«Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если б не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня». И, делая самые большие усилия воображения, он всё-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил.
«Я искал ответа на мой вопрос. А ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль, – она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь, в моем знании того, что хорошо и что дурно. А знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано потому, что я ни откуда не мог взять его».
«Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум. Разум открыл борьбу за существование и закон, требующий того, чтобы душить всех, мешающих удовлетворению моих желаний. Это вывод разума. А любить другого не мог открыть разум, потому что это неразумно».
«Да, гордость», сказал он себе, переваливаясь на живот и начиная завязывать узлом стебли трав, стараясь не сломать их.
«И не только гордость ума, а глупость ума. А главное – плутовство, именно плутовство ума. Именно мошенничество ума», повторил он.
XIII.И Левину вспомнилась недавняя сцена с Долли и ее детьми. Дети, оставшись одни, стали жарить малину на свечах и лить молоко фонтаном в рот. Мать, застав их на деле, при Левине стала внушать им, какого труда стоит большим то, что они разрушают, и то, что труд этот делается для них, что если они будут бить чашки, то им не из чего будет пить чай, а если будут разливать молоко, то им нечего будет есть, и они умрут с голоду.
И Левина поразило то спокойное, унылое недоверие, с которым дети слушали эти слова матери. Они только были огорчены тем, что прекращена их занимательная игра, и не верили ни слову из того, что говорила мать. Они и не могли верить, потому что не могли себе представить всего объема того, чем они пользуются, и потому не могли представить себе, что то, что они разрушают, есть то самое, чем они живут.
«Это всё само собой, – думали они, – и интересного и важного в этом ничего нет, потому что это всегда было и будет. И всегда всё одно и то же. Об этом нам думать нечего, это готово; а нам хочется выдумать что-нибудь свое и новенькое. Вот мы выдумали в чашку положить малину и жарить ее на свечке, а молоко лить фонтаном прямо в рот друг другу. Это весело и ново, и ничего не хуже, чем пить из чашек».
«Разве не то же самое делаем мы, делал я, разумом отыскивая значение сил природы и смысл жизни человека?» продолжал он думать.
«И разве не то же делают все теории философские, путем мысли странным, несвойственным человеку, приводя его к знанию того, что он давно знает и так верно знает, что без того и жить бы не мог? Разве не видно ясно в развитии теории каждого философа, что он вперед знает так же несомненно, как и мужик Федор, и ничуть не яснее его главный смысл жизни и только сомнительным умственным путем хочет вернуться к тому, что всем известно?»
«Ну-ка, пустить одних детей, чтоб они сами приобрели, сделали посуду, подоили молоко и т. д. Стали бы они шалить? Они бы с голоду померли. Ну-ка, пустите нас с нашими страстями, мыслями, без понятия о едином Боге и Творце! Или без понятия того, что есть добро, без объяснения зла нравственного».
«Ну-ка, без этих понятий постройте что-нибудь!»
«Мы только разрушаем, потому что мы духовно сыты. Именно дети!»
«Откуда у меня радостное, общее с мужиком знание, которое одно дает мне спокойствие души? Откуда взял я это?
«Я, воспитанный в понятии Бога, христианином, наполнив всю свою жизнь теми духовными благами, которые дало мне христианство, преисполненный весь и живущий этими благами, я, как дети, не понимая их, разрушаю, то есть хочу разрушить то, чем я живу. А как только наступает важная минута жизни, как дети, когда им холодно и голодно, я иду к Нему, и еще менее, чем дети, которых мать бранит за их детские шалости, я чувствую, что мои детские попытки с жиру беситься не зачитываются мне».
– «Да, то, что я знаю, я знаю не разумом, а это дано мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верою в то главное, что исповедует церковь».
«Церковь? Церковь!» повторил Левин, перелег на другую сторону и, облокотившись на руку, стал глядеть вдаль, на сходившее с той стороны к реке стадо.
«Но могу ли я верить во всё, что исповедует церковь?» думал он, испытывая себя и придумывая всё то, что могло разрушить его теперешнее спокойствие. Он нарочно стал вспоминать те учения церкви, которые более всего всегда казались ему странными и соблазняли его. «Творение? А я чем же объяснял существование? Существованием? Ничем? – Дьявол и грех? – А чем я объясняю зло?.. Искупитель?..
«Но я ничего, ничего не знаю и не могу знать, как только то, что мне сказано вместе со всеми».
И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное, – веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека.
Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы совершалось то главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков – со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим.
Лежа на спине, он смотрел теперь на высокое, безоблачное небо. «Разве я не знаю, что это – бесконечное пространство, и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я несомненно прав, когда я вижу твердый голубой свод, я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его».
Левин перестал уже думать и только как бы прислушивался к таинственным голосам, о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой.
«Неужели это вера? – подумал он, боясь верить своему счастью. – Боже мой, благодарю Тебя»! – проговорил он, проглатывая поднимавшиеся рыданья и вытирая обеими руками слезы, которыми полны были его глаза.
XIV.Левин смотрел перед собой и видел стадо, потом увидал свою тележку, запряженную Вороным, и кучера, который, подъехав к стаду, поговорил что-то с пастухом; потом он уже вблизи от себя услыхал звук колес и фырканье сытой лошади; но он так был поглощен своими мыслями, что он и не подумал о том, зачем едет к нему кучер.
Он вспомнил это только тогда, когда кучер, уже совсем подъехав к нему, окликнул его.
– Барыня послали. Приехали братец и еще какой-то барин.
Левин сел в тележку и взял вожжи.
Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться. Он оглядывал сытую лошадь, взмылившуюся между ляжками и на шее, где терлись поводки, оглядывал Ивана кучера, сидевшего подле него, и вспоминал о том, что он ждал брата, что жена, вероятно, беспокоится его долгим отсутствием, и старался догадаться, кто был гость, приехавший с братом. И брат, и жена, и неизвестный гость представлялись ему теперь иначе, чем прежде. Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие.
«С братом теперь не будет той отчужденности, которая всегда была между нами, – споров не будет; с Кити никогда не будет ссор, с гостем, кто бы он ни был, буду ласков и добр, с людьми, с Иваном – всё будет другое».
Сдерживая на тугих вожжах фыркающую от нетерпения и просящую хода добрую лошадь, Левин оглядывался на сидевшего подле себя Ивана, не знавшего, что делать своими оставшимися без работы руками, и беспрестанно прижимавшего свою рубашку, и искал предлога для начала разговора с ним. Он хотел сказать, что напрасно Иван высоко подтянул чересседельню, но это было похоже на упрек, а ему хотелось любовного разговора. Другого же ничего ему не приходило в голову.
– Вы извольте вправо взять, а то пень, – сказал кучер, поправляя за вожжу Левина.
– Пожалуйста, не трогай и не учи меня! – сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, вмешательство привело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью.
Не доезжая с четверть версты от дома, Левин увидал бегущих ему навстречу Гришу и Таню.
– Дядя Костя! И мама идет, и дедушка, и Сергей Иваныч и еще кто-то, – говорили они, влезая на тележку.
– Да кто?
– Ужасно страшный! И вот так руками делает, – сказала Таня, поднимаясь в тележке и передразнивая Катавасова.
– Да старый или молодой? – смеясь спрашивал Левин, которому представление Тани напоминало кого-то.
«Ах, только бы не неприятный человек!» подумал Левин.
Только загнув за поворот дороги и увидав шедших навстречу, Левин узнал Катавасова в соломенной шляпе, шедшего точно так размахивая руками, как представляла Таня.
Катавасов очень любил говорить о философии, имея о ней понятие от естественников, никогда не занимавшихся философией; и в Москве Левин в последнее время много спорил с ним.
И один из таких разговоров, в котором Катавасов, очевидно, думал, что он одержал верх, было первое, что вспомнил Левин, узнав его.
«Нет, уж спорить и легкомысленно высказывать свои мысли ни за что не буду», подумал он.
Выйдя из тележки и поздоровавшись с братом и Катавасовым, Левин спросил про жену.
– Она перенесла Митю в Колок (это был лес около дома). Хотела устроить его там, а то в доме жарко, – сказала Долли.
Левин всегда отсоветовал жене носить ребенка в лес, находя это опасным, и известие это было ему неприятно.
– Носится с ним из места в место, – улыбаясь сказал князь. – Я ей советовал попробовать снести его на ледник.
– Она хотела прийти на пчельник. Она думала, что ты там. Мы туда идем, – сказала Долли.
– Ну, что ты делаешь? – сказал Сергей Иванович, отставая от других и ровняясь с братом.
– Да ничего особенного. Как всегда, занимаюсь хозяйством, – отвечал Левин. – Что же ты, надолго? Мы так давно ждали.
– Недельки на две. Очень много дела в Москве.
При этих словах глаза братьев встретились, и Левин, несмотря на всегдашнее и теперь особенно сильное в нем желание быть в дружеских и, главное, простых отношениях с братом, почувствовал, что ему неловко смотреть на него. Он опустил глаза и не знал, что сказать.
Перебирая предметы разговора такие, какие были бы приятны Сергею Ивановичу и отвлекли бы его от разговора о Сербской войне и Славянского вопроса, о котором он намекал упоминанием о занятиях в Москве, Левин заговорил о книге Сергея Ивановича.
– Ну что, были рецензии о твоей книге? – спросил он.
Сергей Иванович улыбнулся на умышленность вопроса.
– Никто не занят этим, и я менее других, – сказал он. – Посмотрите, Дарья Александровна, будет дождик, – прибавил он, указывая зонтиком на показавшиеся над макушами осин белые тучки.
И довольно было этих слов, чтобы то не враждебное, но холодное отношение друг к другу, которого Левин так хотел избежать, опять установилось между братьями.
Левин подошел к Катавасову.
– Как хорошо вы сделали, что вздумали приехать, – сказал он ему.
– Давно собирался. Теперь побеседуем, посмотрим. Спенсера прочли?
– Нет, не дочел, – сказал Левин. – Впрочем, мне он не нужен теперь.
– Как так? Это интересно. Отчего?
– То есть я окончательно убедился, что разрешения занимающих меня вопросов я не найду в нем и ему подобных. Теперь…
Но спокойное и веселое выражение лица Катавасова вдруг поразило его, и ему так стало жалко своего настроения, которое он, очевидно, нарушал этим разговором, что он, вспомнив свое намерение, остановился.
– Впрочем, после поговорим, – прибавил он. – Если на пчельник, то сюда, по этой тропинке, – обратился он ко всем.
Дойдя по узкой тропинке до нескошенной полянки, покрытой с одной стороны сплошной яркой Иван-да-Марьей, среди которой часто разрослись темнозеленые, высокие кусты чемерицы, Левин поместил своих гостей в густой свежей тени молодых осинок, на скамейке и обрубках, нарочно приготовленных для посетителей пчельника, боящихся пчел, а сам пошел на осек, чтобы принести детям и большим хлеба, огурцов и свежего меда.
Стараясь делать как можно меньше быстрых движений и прислушиваясь к пролетавшим всё чаще и чаще мимо него пчелам, он дошел по тропинке до избы. У самых сеней одна пчела завизжала, запутавшись ему в бороду, но он осторожно выпростал ее. Войдя в тенистые сени, он снял со стены повешенную на колышке свою сетку и, надев ее и засунув руки в карманы, вышел на огороженный пчельник, в котором правильными рядами, привязанные к кольям лычками, стояли среди выкошенного места все знакомые ему, каждый с своей историей, старые ульи, а по стенкам плетня молодые, посаженные в нынешнем году. Перед лётками ульев рябили в глазах кружащиеся и толкущиеся на одном месте, играющие пчелы и трутни, и среди их, всё в одном направлении, туда в лес на цветущую липу и назад к ульям, пролетали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой.
В ушах не переставая отзывались разнообразные звуки то занятой делом, быстро пролетающей рабочей пчелы, то трубящего, празднующего трутня, то встревоженных, оберегающих от врага свое достояние, сбирающихся жалить пчел-караульщиц. На той стороне ограды старик строгал обруч и не видал Левина. Левин, не окликая его, остановился на середине пчельника.
Он рад был случаю побыть одному, чтобы опомниться от действительности, которая уже успела так принизить его настроение.
Он вспомнил, что уже успел рассердиться на Ивана, выказать холодность брату и легкомысленно поговорить с Катавасовым.
«Неужели это было только минутное настроение, и оно пройдет, не оставив следа?» подумал он.
Но в ту же минуту, вернувшись к своему настроению, он с радостью почувствовал, что что-то новое и важное произошло в нем. Действительность только на время застилала то душевное спокойствие, которое он нашел; но оно было цело в нем.
Точно так же, как пчелы, теперь вившиеся вокруг него, угрожавшие ему и развлекавшие его, лишали его полного физического спокойствия, заставляли его сжиматься, избегая их, так точно заботы, обступив его с той минуты, как он сел в тележку, лишали его свободы душевной; но это продолжалось только до тех пор, пока он был среди них. Как, несмотря на пчел, телесная сила была вся цела в нем, так и цела была вновь сознанная им его духовная сила.
XV.– А ты знаешь, Костя, с кем Сергей Иванович ехал сюда? – сказала Долли, оделив детей огурцами и медом. – С Вронским! Он едет в Сербию.
– Да еще не один, а эскадрон ведет на свой счет! – сказал Катавасов.
– Это ему идет, – сказал Левин. – А разве всё едут еще добровольцы? – прибавил он, взглянув на Сергея Ивановича.
Сергей Иванович, не отвечая, осторожно вынимал ножом– тупиком из чашки, в которой лежал углом белый сот меду, влипшую в подтекший мед живую еще пчелу.
– Да еще как! Вы бы видели, что вчера было на станции! – сказал Катавасов, звонко перекусывая огурец.
– Ну, это-то как понять? Ради Христа, объясните мне, Сергей Иванович, куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют? – спросил старый князь, очевидно продолжая разговор, начавшийся еще без Левина.
– С Турками, – спокойно улыбаясь, отвечал Сергей Иванович, выпроставши беспомощно двигавшую ножками, почерневшую от меда пчелу и ссаживая ее с ножа на крепкий осиновый листок.
– Да кто же объявил войну Туркам? Иван Иваныч Рагозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?
– Никто не объявлял войны, а люди сочувствуют страданиям ближних и желают помочь им, – сказал Сергей Иванович.
– Но князь говорит не о помощи, – сказал Левин, заступаясь за тестя, – а об войне. Князь говорит, что частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства.
– Костя, смотри, это пчела! Право, нас искусают! – сказала Долли, отмахиваясь от осы.
– Да это и не пчела, это оса, – сказал Левин.
– Ну-с, ну-с, какая ваша теория? – сказал с улыбкой Катавасов Левину, очевидно вызывая его на спор. – Почему частные люди не имеют права?
– Да моя теория та: война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле воины, граждане отрекаются от своей личной воли.
Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно время.
– В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, – сказал Катавасов.
Но Сергей Иванович, очевидно, не одобрял этого возражения. Он нахмурился на слова Катавасова и сказал другое.
– Напрасно ты так ставишь вопрос. Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, а ты бы бросился на него защитил бы обижаемого.
– Но не убил бы, – сказал Левин.
– Нет, ты бы убил.
– Я не знаю. Если бы я увидал это, я бы отдался своему чувству непосредственному; но вперед сказать я не могу. И такого непосредственного чувства к угнетению Славян нет и не может быть.
– Может быть, для тебя нет. Но для других оно есть, – недовольно хмурясь, сказал Сергей Иванович. – В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых Агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил.
– Может быть, – уклончиво сказал Левин, – но я не вижу; я сам народ, я и не чувствую этого.
– Вот и я, —сказал князь. – Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до Болгарских ужасов никак не понимал, почему все Русские так вдруг полюбили братьев Славян, а я никакой к ним любви не чувствую? Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, я вижу, что и кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями Славянами. Вот и Константин.
– Личные мнения тут ничего не значат, – сказал Сергей Иваныч, – нет дела до личных мнений, когда вся Россия – народ выразил свою волю.
– Да извините меня. Я этого не вижу. Народ и знать не знает, – сказал князь.
– Нет, папа… как же нет? А в воскресенье в церкви? – сказала Долли, прислушиваясь к разговору. – Дай, пожалуйста, полотенце, – сказала она старику, с улыбкой смотревшему на детей. – Уж не может быть, чтобы все…
– Да что же в воскресенье в церкви? Священнику велели прочесть. Он прочел. Они ничего не поняли, вздыхали, как при всякой проповеди, – продолжал князь. – Потом им сказали, что вот собирают на душеспасительное дело в церкви, ну они вынули по копейке и дали. А на что – они сами не знают.
– Народ не может не знать: сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему, – утвердительно сказал Сергей Иванович, взглядывая на старика-пчельника.
Красивый старик с черной с проседью бородой и густыми серебряными волосами неподвижно стоял, держа чашку с медом, ласково и спокойно с высоты своего роста глядя на господ, очевидно ничего не понимая и не желая понимать.
– Это так точно, – значительно покачивая головой, сказал он на слова Сергея Ивановича.
– Да вот спросите у него. Он ничего не знает и не думает, – сказал Левин. – Ты слышал, Михайлыч, об войне? – обратился он к нему. – Вот что в церкви читали? Ты что же думаешь? Надо нам воевать за христиан?
– Что ж нам думать? Александр Николаевич Император нас обдумал, он нас и обдумает во всех делах. Ему видней. Хлебушка не принесть ли еще? Парнишке еще дать? – обратился он к Дарье Александровне, указывая на Гришу, который доедал корку.
– Мне не нужно спрашивать, – сказал Сергеи Иванович, – мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают всё, чтобы послужить правому делу, приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит?
– Значит, по-моему, – сказал начинавший горячиться Левин, – что в восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы – в шапку Пугачева, в Хиву, в Сербию…
– Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа! – сказал Сергей Иваныч с таким раздражением, как будто он защищал последнее свое достояние. – А пожертвования? Тут уж прямо весь народ выражает свою волю.
– Это слово «народ» так неопределенно, – сказал Левин. – Писаря волостные, учителя и из мужиков один на тысячу, может быть, знают, о чем идет дело. Остальные же 80 миллионов, как Михайлыч, не только не выражают своей воли, но не имеют ни малейшего понятия, о чем им надо бы выражать свою волю. Какое же мы имеем право говорить, что это воля народа?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































