Текст книги "Полное собрание сочинений. Тома 18-19"
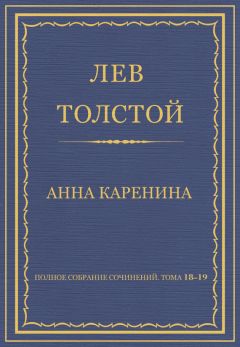
Автор книги: Лев Толстой
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 84 страниц)
Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе. Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу.
– Вставай, будет спать, – сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого.
Петрицкий вдруг вскочил на коленки и оглянулся.
– Твой брат был здесь, – сказал он Вронскому. – Разбудил меня, чорт его возьми, сказал, что придет опять. – И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. – Да оставь же, Яшвин, – говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. – Оставь! – Он повернулся и открыл глаза. – Ты лучше скажи, что выпить; такая гадость во рту, что…
– Водки лучше всего, – пробасил Яшвин. – Терещенко! водки барину и огурцов, – крикнул он, видимо любя слушать свой голос.
– Водки, ты думаешь? А? – спросил Петрицкий, морщась и протирая глава: – А ты выпьешь? Вместе, так выпьем! Вронский, выпьешь? – сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло.
Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по– французски: «Был король в Ту-у-ле». – Вронский, выпьешь?
– Убирайся, – сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук.
– Это куда? – спросил его Яшвин. – Вот и тройка, – прибавил он, увидев подъезжавшую коляску.
– В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, – сказал Вронский.
Вронский действительно обещал быть у Брянского, в десяти верстах от Петергофа, и привезти ему за лошадей деньги; и он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет.
Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: знаем, какой это Брянский.
– Смотри не опоздай – сказал только Яшвин, и, чтобы переменить разговор: – Что мой саврасый, служит хорошо? – спросил он, глядя в окно, про коренного, которого он продал.
– Стой! – закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. – Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?
Вронский остановился.
– Ну, где же они?
– Где они? Вот в чем вопрос! – проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем.
– Да говори же, это глупо! – улыбаясь сказал Вронский.
– Камина я не топил. Здесь где-нибудь.
– Ну, полно врать! Где же письмо?
– Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылки на брата, ты бы забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас вспомню!
Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать.
– Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да… Вот оно! – и Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его.
Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, – письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это всё о том же. «Что им за делo!» подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка.
Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров.
– Куда?
– Нужно, в Петергоф.
– А лошадь пришла из Царского?
– Пришла, да я не видал еще.
– Говорят, Махотина Гладиатор захромал.
– Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? – сказал другой.
– Вот мои спасители! – закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и соленым огурцом на подносе. – Вот Яшвин велит пить, чтоб освежиться.
– Ну, уж вы нам задали вчера, – сказал один из пришедших, – всю ночь не давали спать.
– Нет, каково мы окончили! – рассказывал Петрицкий. – Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю: давай музыку, погребальный марш! Он так и заснул на крыше под погребальный марш.
– Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, – говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство, – а потом уж шампанского немножечко, – так, бутылочку.
– Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем.
– Нет, прощайте, господа, нынче я не пью.
– Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимона.
– Вронский! – закричал кто-то, когда он уж выходил в сени.
– Что?
– Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине.
Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.
– В конюшню! – сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. – «Потом»!…
XXI.Временная конюшня, балаган из досок, была построена подле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. Он еще не видал ее. В эти последние дни он сам не ездил на проездку, а поручил тренеру и теперь решительно не знал, в каком состоянии пришла и была его лошадь. Едва он вышел из коляски, как конюх его (грум), так называемый мальчик, узнав еще издалека его коляску, вызвал тренера. Сухой Англичанин в высоких сапогах и в короткой жакетке, с клочком волос, оставленным только под подбородком, неумелою походкой жокеев, растопыривая локти и раскачиваясь, вышел навстречу.
– Ну что Фру-Фру? – спросил Вронский по-английски.
– All right, sir – все исправно, сударь, – где-то внутри горла проговорил голос Англичанина. – Лучше не ходите, – прибавил он, поднимая шляпу. – Я надел намордник, и лошадь возбуждена. Лучше не ходить, это тревожит лошадь.
– Нет, уж я войду. Мне хочется взглянуть.
– Пойдем, – всё так же не открывая рта, нахмурившись сказал Англичанин и, размахивая локтями, пошел вперед своею развинченною походкой.
Они вошли в дворик пред бараком. Дежурный, в чистой куртке, нарядный, молодцоватый мальчик, с метлой в руке, встретил входивших и пошел за ними. В бараке стояло пять лошадей по денникам, и Вронский знал, что тут же нынче должен быть приведен и стоит его главный соперник, рыжий, пятивершковый Гладиатор Махотина. Еще более, чем свою лошадь, Вронскому хотелось видеть Гладиатора, которого он не видал; но Вронский знал, что, по законам приличия конской охоты, не только нельзя видеть его, но неприлично и расспрашивать про него. В то время когда он шел по коридору, мальчик отворил дверь во второй денник налево, и Вронский увидел рыжую крупную лошадь и белые ноги. Он знал, что это был Гладиатор, но с чувством человека, отворачивающегося от чужого раскрытого письма, он отвернулся и подошел к деннику Фру-Фру.
– Здесь лошадь Ma-к… Мак… никогда не могу выговорить это имя, – сказал Англичанин через плечо, указывая большим, с грязным ногтем пальцем на денник Гладиатора.
– Махотина? Да, это мой один серьезный соперник, – сказал Вронский.
– Если бы вы ехали на нем, – сказал Англичанин, – я бы зa вас держал.
– Фру-Фру нервнее, он сильнее, – сказал Вронский, улыбаясь от похвалы своей езде.
– С препятствиями всё дело в езде и в pluck, – сказал Англичанин.
Pluck, то есть энергии и смелости, Вронский не только чувствовал в себе достаточно, но, что гораздо важнее, он был твердо убежден, что ни у кого в мире не могло быть этого pluck больше, чем у него.
– А вы верно знаете, что не нужно было большего потнения?
– Не нужно, – отвечал Англичанин. – Пожалуйста, не говорите громко. Лошадь волнуется, – прибавил он, кивая головою на запертый денник, пред которым они стояли и где слышалась перестановка ног по соломе.
Он отворил дверь, и Вронский вошел в слабо освещенный из одного маленького окошечка денник. В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с намордником. Оглядевшись в полусвете денника, Вронский опять невольно обнял одним общим взглядом все стати своей любимой лошади. Фру-Фру была среднего роста лошадь и по статям небезукоризненная. Она была вся узка костью; хотя ее грудина и сильно выдавалась вперед, грудь была узка. Зад был немного свислый и в ногах передних, и особенно задних, была значительная косолапина. Мышцы задних и передних ног не были особенно крупны; но зато в подпруге лошадь была необыкновенно широкая, что особенно поражало теперь, при ее выдержке и поджаром животе. Кости ее ног ниже колен казались не толще пальца, глядя спереди, но зa то были необыкновенно широки, глядя с боку. Она вся, кроме ребер, как будто была сдавлена с боков и вытянута в глубину. Но у ней в высшей степени было качество, заставляющее забывать все недостатки; это качество была кровь, та кровь, которая сказывается, по английскому выражению. Резко выступающие мышцы из-под сетки жил, растянутой в тонкой, подвижной и гладкой, как атлас, коже, казались столь же крепкими, как кость. Сухая голова ее с выпуклыми, блестящими, веселыми глазами, расширялась у храпа в выдающиеся ноздри с налитою внутри кровью перепонкой. Во всей фигуре и в особенности в голове ее было определенное, энергическое и вместе нежное выражение. Она была одно из тех животных, которые, кажется, не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого.
Вронскому по крайней мере показалось, что она поняла всё, что он теперь, глядя на нее, чувствовал.
Как только Вронский вошел к ней, она глубоко втянула в себя воздух и, скашивая свой выпуклый глаз так, что белок налился кровью, с противуположной стороны глядела на вошедших, потряхивая намордником и упруго переступая с ноги на ногу.
– Ну, вот видите, как она взволнована, – сказал Англичанин.
– О, милая! О! – говорил Вронский, подходя к лошади и уговаривая ее.
Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к её голове, она вдруг затихла, и мускулы её затряслись под тонкою, нежною шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом к её растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу ко Вронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другою свои точеные ножки.
– Успокойся, милая, успокойся! – сказал он, погладив ее еще рукой по заду, и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии, вышел из денника.
Волнение лошади сообщилось и Вронскому; он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться; было и страшно и весело.
– Ну, так я на вас надеюсь, – сказал он Англичанину, – в шесть с половиной на месте.
– Всё исправно, – сказал Англичанин. – А вы куда едете, милорд? – спросил он неожиданно, употребив это название my-Lord, которого он почти никогда не употреблял.
Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть, не в глаза, а на лоб Англичанина, удивляясь смелости его вопроса. Но поняв, что Англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жокея, ответил ему:
– Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома.
«Который раз мне делают нынче этот вопрос!» сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. И, как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил:
– Первое дело быть спокойным пред ездой, – сказал он, – не будьте не в духе и ничем не расстраивайтесь.
– All right, – улыбаясь отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф.
Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем, надвинулась, и хлынул ливень.
«Плохо! – подумал Вронский, поднимая коляску. – И то грязно было, а теперь совсем болото будет». Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их.
Да, всё это было то же и то же. Все, его мать, его брат, все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу – чувство, которое он редко испытывал. «Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И отчего они пристают ко мне? Оттого, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять. Если б это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка, эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно и потому досадно им. Какая ни есть и ни будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся,—говорил он, в слове мы соединяя себя с Анною. – Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье, они не знают, что без этой любви для нас ни счастья, ни несчастья – нет жизни», думал он.
Он сердился на всех зa вмешательство именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и её положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать; и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали оба всем другом, кроме своей любви.
Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре; вспомнил особенно живо не paз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство, со времени его связи с Анною иногда находившее на него. Это было чувство омерзения к чему-то: к Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, – он не знал хорошенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей.
«Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна; а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить», решил он сам с собою.
И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить всё ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», сказал он себе.
XXII.Ливень был непродолжительный, и, когда Вронский подъезжал на всей рыси коренного, вытягивавшего скакавших уже без вожжей по грязи пристяжных, солнце опять выглянуло, и крыши дач, старые липы садов по обеим сторонам главной улицы блестели мокрым блеском, и с ветвей весело капала, а с крыш бежала вода. Он не думал уже о том, как этот ливень испортит гипподром, но теперь радовался тому, что, благодаря этому дождю, наверное застанет ее дома и одну, так как он знал, что Алексей Александрович, недавно вернувшийся с вод, не переезжал из Петербурга.
Надеясь застать ее одну, Вронский, как он и всегда делал это, чтобы меньше обратить на себя внимание, слез, не переезжая мостика, и пошел пешком. Он не пошел на крыльцо с улицы, но вошел во двор.
– Барин приехал? – спросил он у садовника.
– Никак нет. Барыня дома. Да вы с крыльца пожалуйте; там люди есть, отопрут, – отвечал садовник.
– Нет, я из сада пройду.
И убедившись, что она одна, и желая застать ее врасплох, так как он не обещался быть нынче и она, верно, не думала, что он приедет пред скачками, он пошел, придерживая саблю и осторожно шагая по песку дорожки, обсаженной цветами, к террасе, выходившей в сад. Вронский теперь забыл всё, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в действительности. Он уже входил, ступая во всю ногу, чтобы не шуметь, по отлогим ступеням террасы, когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону его отношений к ней, – ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом.
Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой как знакомые. Но, несмотря на эту осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть какое-то важное отношение, значения которого он понять не может.
Действительно, мальчик чувствовал, что он не может понять этого отношения, и силился и не мог уяснить себе то чувство, которое он должен иметь к этому человеку. С чуткостью ребенка к проявлению чувства он ясно видел, что отец, гувернантка, няня – все не только не любили, но с отвращением и страхом смотрели на Вронского, хотя и ничего не говорили про него, а что мать смотрела на него как на лучшего друга.
«Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я глупый или дурной мальчик», думал ребенок; и от этого происходило его испытующее, вопросительное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Вронского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство беспричинного омерзения, которое он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу, что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его больше и больше от должного направления и что признаться себе в отступлении – всё равно, что признаться в погибели.
Ребенок этот с своим наивным взглядом на жизнь был компас, который показывал им степень их отклонения от того, что они знали, но не хотели знать.
На этот раз Сережи не было дома, и она была совершенно одна и сидела на террасе, ожидая возвращения сына, ушедшего гулять и застигнутого дождем. Она послала человека и девушку искать его и сидела ожидая. Одетая в белое с широким шитьем платье, она сидела в углу террасы за цветами и не слыхала его. Склонив свою чернокурчавую голову, она прижала лоб к холодной лейке, стоявшей на перилах, и обеими своими прекрасными руками, со столь знакомыми ему кольцами, придерживала лейку. Красота всей ее фигуры, головы, шеи, рук каждый раз, как неожиданностью, поражала Вронского. Он остановился, с восхищением глядя на нее. Но только что он хотел ступить шаг, чтобы приблизиться к ней, она уже почувствовала его приближение, оттолкнула лейку и повернула к нему свое разгоряченное лицо.
– Что с вами? Вы нездоровы? – сказал он по-французски, подходя к ней. Он хотел подбежать к ней; но, вспомнив, что могли быть посторонние, оглянулся на балконную дверь и покраснел, как он всякий раз краснел, чувствуя, что должен бояться и оглядываться.
– Нет, я здорова, – сказала она, вставая и крепко пожимая его протянутую руку. – Я не ждала… тебя.
– Боже мой! какие холодные руки! – сказал он.
– Ты испугал меня, – сказала она. – Я одна и жду Сережу, он пошел гулять; они отсюда придут.
Но, несмотря на то, что она старалась быть спокойна, губы ее тряслись.
– Простите меня, что я приехал, но я не мог провести дня, не видав вас, – продолжал он по-французски, как он всегда говорил, избегая невозможно-холодного между ними вы и опасного ты по-русски.
– За что ж простить? Я так рада!
– Но вы нездоровы или огорчены, – продолжал он, не выпуская ее руки и нагибаясь над нею. – О чем вы думали?
– Всё об одном, – сказала она с улыбкой.
Она говорила правду. Когда бы, в какую минуту ни спросили бы ее, о чем она думала, она без ошибки могла ответить: об одном, о своем счастьи и о своем несчастьи. Она думала теперь именно, когда он застал ее, вот о чем: она думала, почему для других, для Бетси, например (она знала ее скрытую для света связь с Тушкевичем), всё это было легко, а для нее так мучительно? Нынче эта мысль, по некоторым соображениям, особенно мучала ее. Она спросила его о скачках. Он отвечал ей и, видя, что она взволнована, стараясь развлечь ее, стал рассказывать ей самым простым тоном подробности приготовлений к скачкам.
«Сказать или не сказать? – думала она, глядя в его спокойные ласковые глаза. – Он так счастлив, так занят своими скачками, что не поймет этого как надо, не поймет всего значения для нас этого события».
– Но вы не сказали, о чем вы думали, когда я вошел, – сказал он, перервав свой рассказ, – пожалуйста, скажите!
Она не отвечала и, склонив немного голову, смотрела на него из-подлобья вопросительно своими блестящими из-за длинных ресниц глазами. Рука ее, игравшая сорванным листом, дрожала. Он видел это, и лицо его выразило ту покорность, рабскую преданность, которая так подкупала ее.
– Я вижу, что случилось что-то. Разве я могу быть минуту спокоен, зная, что у вас есть горе, которого я не разделяю? Скажите ради Бога! – умоляюще повторил он.
«Да, я не прощу ему, если он не поймет всего значения этого. Лучше не говорить, зачем испытывать?» думала она, всё так же глядя на него и чувствуя, что рука ее с листком всё больше и больше трясется.
– Ради Бога! – повторил он, взяв ее руку.
– Сказать?
– Да, да, да…
– Я беременна, – сказала она тихо и медленно.
Листок в ее руке задрожал еще сильнее, но она не спускала с него глаз, чтобы видеть, как он примет это. Он побледнел, хотел что-то сказать, но остановился, выпустил ее руку и опустил голову. «Да, он понял всё значение этого события», подумала она и благодарно пожала ему руку.
Но она ошибалась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренною силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа, и необходимо так или иначе paзорвать скорее это неестественное положение. Но, кроме того, ее волнение физически сообщалось ему. Он взглянул на нее умиленным, покорным взглядом, поцеловал ее руку, встал и молча прошелся по террасе.
– Да, – сказал он, решительно подходя к ней. – Ни я, ни вы не смотрели на наши отношения как на игрушку, а теперь наша судьба решена. Необходимо кончить, – сказал он оглядываясь, – ту ложь, в которой мы живем.
– Кончить? Как же кончить, Алексей? – сказала она тихо.
Она успокоилась теперь, и лицо ее сияло нежною улыбкой.
– Оставить мужа и соединить нашу жизнь.
– Она соединена и так, – чуть-слышно отвечала она.
– Да, но совсем, совсем.
– Но как, Алексей, научи меня, как? – сказала она с грустною насмешкой над безвыходностью своего положения. – Разве есть выход из такого положения? Разве я не жена своего мужа?
– Из всякого положения есть выход. Нужно решиться, – сказал он. – Всё лучше, чем то положение, в котором ты живешь. Я ведь вижу, как ты мучаешься всем, и светом, и сыном, и мужем.
– Ах, только не мужем, с простою усмешкой сказала она. – Я не знаю, я не думаю о нем. Его нет.
– Ты говоришь неискренно. Я знаю тебя. Ты мучаешься и о нем.
– Да он и не знает,– сказала она, и вдруг яркая краска стала выступать на ее лицо; щеки, лоб, шея ее покраснели, и слезы стыда выступили ей на глаза. – Да и не будем говорить об нем.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































