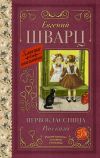Текст книги "Люда Власовская"

Автор книги: Лидия Чарская
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
Глава XII. Роковые булавки. – Суд и расправа. – Отверженная
Это случилось ровно через три дня после «заговора».
Историк Козелло – смуглый, красивый брюнет небольшого роста, которого я обожала взапуски с Кирой и Милкой, – закончил рассказ о распаде римского государства, четко расписался в классном журнале и, кивнув нам своей крупной головой, не торопясь вышел из класса.
Фрейлейн Геринг, дежурившая в этот день, собственноручно открыла форточку, чтобы проветрить класс, и поторопила нас выйти в коридор, как это требовалось после каждого урока.
Маруся была особенно возбуждена в этот день. Она поминутно смеялась без причины, заглядывала мне в глаза и то напевала, то декламировала отрывки своих стихов. Ровно за минуту до начала урока она кликнула Киру и Белку, и они втроем незаметно пробрались в класс и присели под кафедрой, так что их не было видно. Я не знала, что они там делали, но, когда мы все вошли в класс после короткой перемены, все три девочки как ни в чем не бывало сидели на своих местах и усердно повторяли уроки.
С первым же звуком колокольчика в класс вошел Терпимов.
Я не видела его после случая с Кирой, и теперь он показался мне еще более противным и отталкивающим, чем когда-либо. Мне показалось даже, что при входе в класс он как-то особенно злорадно взглянул на бедного Персика, присмиревшего на своем месте. Я посмотрела на Марусю. Она вся была олицетворенное ожидание. Лицо ее побледнело. Губы дрожали, а искрящиеся, обычно прекрасные, но сейчас злобные глаза так и впились в ненавистное лицо учителя.
– Маруся! Маруся! – прошептала я в отчаянии. – Что ты наделала?.. Я по тебе вижу, что ты…
Я не докончила.
Легкий вскрик Терпимова прервал меня…
Учитель держался одной рукой за кафедру, другая была вся в крови, и он быстро-быстро махал ею в воздухе. Лицо его, искаженное страданием, бессмысленно смотрело на нас.
– Это ничего… это отлично!.. – шептала Маруся, охваченная какой-то бешеной радостью. – Так ему и надо… Противный, скверный Гадюка!.. Око за око, зуб за зуб! Да… да… так и надо!
– Маруся, – снова прошептала я, замирая от страха, – что ты наделала?..
– Не я одна… Успокойся, Людочка! Не я, а все мы, слышишь, все… Мы воткнули под сиденье стула Гадюки три французских булавки!
«Боже мой! Что теперь будет, – вихрем пронеслось в моей голове, – что-то будет теперь, Господи?»
Терпимов все еще стоял на кафедре, тряся рукой, с которой медленно, капля за каплей, скатывались тоненькие струйки крови. Его глаза смотрели на нас с гневом, смешанным со стыдом. Это длилось с минуту. Потом он словно очнулся от сна, внезапно поняв проделку девочек. Вынув здоровой рукой платок из кармана и зажав им больную руку, он обвел весь класс долгим вопрошающим взглядом и, не говоря ни слова, поспешно сошел с кафедры и скрылся за дверью.
– Ну, теперь будет потеха! – прошептала насмерть испуганная всем произошедшим Миля Корбина.
Фрейлейн Геринг тоже сразу поняла суть дела. Она взошла на кафедру, наклонилась к стулу, и через пару секунд три большие, длинные булавки с бисерными головками лежали на столе возле чернильницы.
Фрейлейн Геринг была взволнована не менее нас самих.
– Дети, – начала она по-русски (в трудные минуты жизни добрая Кис-Кис всегда говорила по-русски), – мне очень, очень грустно, что я ошиблась в вас… До сих пор я считала моих девочек кроткими, сердечными созданиями, а теперь вижу, что у вас черствые, звериные сердца. Можно простить шалость, непослушание, но злую проделку, умышленно нанесенный кому-то вред я не прощу никогда!.. Никогда!..
Только она успела сказать это, как в класс вошла начальница в сопровождении инспектрисы, инспектора классов – толстенького, добродушного человечка – и злополучного Терпимова с обернутой окровавленным платком рукой.
– Люди вы или звери? – без всякого предисловия произнесла Maman, и ее голова в белой наколке затряслась от гнева. – Барышни вы или уличные мальчишки? Это уже не шалость, не детская выходка! Это злой, отвратительный поступок, которому нет названия, нет прощения! Мне стыдно за вас, стыдно, что под моим начальством находятся девочки со зверскими наклонностями, с полным отсутствием сердечности и любви к ближнему! Я должна извиниться перед вашим учителем за невозможный, отвратительный поступок – и кого же? – вверенных моему попечению взрослых девиц! За что вы так гадко поступили с месье Терпимовым? Что он вам сделал? Ну? Отвечайте, что же вы молчите?
Но мы поняли, что отвечать – значило бы признать себя виновными, выдать друг друга с головой, и потому виновато молчали, уставившись потупленными глазами в пол.
Молчала и инспектриса, мадемуазель Еленина – худая, злющая старуха с выцветшими глазами. Молчал, укоризненно покачивая головой, инспектор, молчал и сам Терпимов – виновник происшествия, бегая взглядом по низко склоненным головкам юных преступниц.
Это была мучительная пауза, показавшаяся нам вечностью.
Это было затишье перед грозой, которая неминуемо должна была разразиться.
И она разразилась.
– Mesdemoiselles[14]14
Девушки (франц.).
[Закрыть]! – строго сказала начальница (только в минуты сильного раздражения она называла нас так, а не «детьми», как обычно). – Mesdemoiselles! Ваш бессердечный поступок поражает и возмущает меня до глубины души… Я не могу поверить, чтобы весь класс мог сообща совершить эту гнусность, и поэтому требую, чтобы виновные немедленно назвали себя.
«Вот она, настоящая-то расправа!» – промелькнуло в моей низко склоненной голове.
– Ну, mesdemoiselles, я жду! Даю вам пять минут на размышление, – и с этими словами Maman торжественно опустилась в кресло у бокового столика, за которым всегда помещалась классная дама.
Мы молчали. Выдать виновных никому и в голову не могло прийти. Мы строго придерживались правила «товарищества», по которому выдать виновную – значило бы навлечь на себя непримиримую вражду всего класса.
Maman по-прежнему сидела молча, как грозная богиня правосудия. Мы же стояли как приговоренные к смерти… В классе была такая тишина, что слышно было, казалось, биение сорока встревоженных сердечек провинившихся девочек.
Минута, другая, третья, еще две последние минуты – томительнее первых, и… Maman встала.
– Так как вы не желаете исполнить моего требования, mesdames, и виновная не отыскивается, то, значит, все вы признаете себя виноватыми… А всякий нераскаянный проступок требует наказания. И вы все будете строго наказаны. С сегодняшнего дня целый месяц класс будет стоять в столовой во время обедов и завтраков. Затем вы все останетесь без рождественских каникул… И в выпускном аттестате ни одна из вас не получит 12 за поведение!
Это было уже слишком!
Нас могли оставлять без передников, могли выставлять на позор всему институту и не пускать домой на святки, но «пачкать» наши аттестаты – о! это было чересчур жестоко! Многие из нас должны были поступить в гувернантки после выхода из института, а иметь 11 за поведение при двенадцатибалльной системе значило быть плохо аттестованной со стороны начальства. Этого мы боялись больше всего.
– Maman, будьте добры простить нас! Простите нас! Сжальтесь над нами! – послышались тут и там плаксивые голоса парфеток.
– Нет, mesdemoiselles! Нет, я вас не прощаю! – резко ответила, точно отрезала княгиня и, поднявшись со своего места, величественно направилась к двери.
На пороге она обернулась к нам и сурово добавила:
– Класс будет прощен, если виновная назовется, – после чего она снова взялась за ручку двери, собираясь выйти, но тут внезапная суматоха в классе остановила ее.
Произошло легкое движение между партами, и бледная как смерть, но спокойная, как всегда, Нора Трахтенберг в одну минуту очутилась перед начальством.
– Княгиня, – произнесла она твердым голосом, – из-за одной провинившейся не должен страдать весь класс. Поэтому я не считаю возможным покрывать ее: это сделала Запольская.
В классе снова на минуту воцарилась пауза, после которой лицо Maman стало мрачнее тучи, и она произнесла, отчеканивая слова:
– Запольская! Подойди ко мне!
На Марусе, как говорится, лица не было. Ее плотно сжатые губы побелели, как у мертвой. Глаза разом потускнели, и что-то жесткое, недоброе засветилось в их глубине.
Твердой поступью она вышла на середину класса и остановилась в двух шагах от начальницы.
– Бранить тебя я не стану! – сказала княгиня. – Выговоры могут действовать на добрые, а не на бессердечные, глубоко зачерствевшие натуры… Твой поступок доказал твое бессердечие. Ты будешь исключена.
Весь класс тихо ахнул, как один человек. Ожидали всего, только не этого… Наказание было слишком сурово, слишком жестоко. У многих из глаз брызнули слезы. Кира Дергунова, считавшая себя виновной почти наравне с Краснушкой, упала головой на свой пюпитр и глухо зарыдала.
– Прошу без истерик! – строго прикрикнула Maman. – Пощадите мои нервы. – И, бросив на нас молниеносный взгляд, закончила уже спокойнее: – Все остальные прощены, – и вышла из класса.
В один миг мы окружили Краснушку. Она все еще стояла на прежнем месте, но теперь ее потухшие было глаза сверкали злобным воодушевлением. Рот улыбался странной улыбкой, горькой и торжествующей в одно и то же время.
– Маруся! Несчастная Краснушечка! Бедняжечка, родная! – лепетали мы наперебой, обнимая и целуя ее.
– Стойте, mesdames! – слегка оттолкнув нас, произнесла Маруся внезапно окрепшим и неестественно звонким голосом. – Я не несчастная и не бедняжка… Напротив, я рада, я рада… что страдаю за правое дело… Я права!.. Мое сердце подсказывает мне это… Он сделал подлость, и я ему отплатила… С этой стороны все отлично, и я нисколько не раскаиваюсь в моем поступке и ни о чем не жалею! Скверно, отвратительно и мерзко только одно: в нашем классе есть предательница, изменница. Пусть меня гонят, пусть лишают диплома, пусть! Но и ей не место рядом с нами, потому что она «продала» нас! Она – шпионка!
Маруся стояла лицом к лицу с Норой и, вся дрожа и сверкая глазами, выкрикивала свои обвинения. Мы столпились тесным кругом вокруг обеих девушек, и сердца наши тревожно бились.
Чувство любви и жалости к Краснушке, жгучей, до слез, жалости, травившей наши души, и, с другой стороны, нескрываемая ненависть к Скандинавской деве, дерзко нарушившей наши самые священные традиции, – вот что переполняло сердца взволнованных девочек. А холодная и невозмутимая Нора по-прежнему спокойно стояла перед нами, готовыми уничтожить ее потоками брани и упреков. И вдруг она заговорила.
– Я не шпионка, ни в каком случае, – звенел ее голос, – слышите ли, не шпионка! Потому что не потихоньку, не из-за угла донесла на Запольскую. Нет, я открыто выдала зачинщицу и считаю себя правой. Пусть лучше страдает она одна, нежели сорок девушек выйдут из института с испорченным дурной отметкой аттестатом. Как будут смотреть на гувернантку, которая возьмется учить детей благонравию, когда сама не способна на это? Да не только тем из нас, кто посвятит себя педагогической деятельности, но и всем нам одинаково неприятно получить плохую отметку в выпускном листе.
– Чушь! Глупости! Вздор все это! – внезапно прервала ее, рыдая навзрыд, Кира. – Не слушайте ее, ради Бога, медамочки! Не говорите с ней… Пусть она будет отвержена как предательница и шпионка!..
– Да-да, предательница! Предательница! – неслось отовсюду, и девочки с гневом смотрели в красивое, бледное лицо Норы.
– Mesdames! Пусть класс знает раз и навсегда, что та, кто заговорит с нею, – взволнованно кричала Кира, – та идет против класса и будет считаться нашим общим врагом!
– Да-да! – хором поддержали ее готовые на отчаянные решения подруги. – Та будет чужой нам… Хорошо, правильно!
– Милка! Тебя это больше всех касается! – крикнула Бельская притихшей Корбиной. – Ты ведь ее обожаешь!
– Что вы, медамочки, – возмутилась та, – за кого вы меня принимаете?.. Я готова трижды побожиться на церковной паперти (самая сильная клятва в институте!), что отступаюсь от нее и ненавижу ее не меньше вашего. Даю вам честное слово!
Я взглянула на Нору.
Мне показалось, что на ее губах играла тонкая, презрительная улыбка…

Глава XIII. Старенький папка. – Убеждения Норы. – Горькая весть
Деревья обнажились. С последней аллеи доносился запах тления от сметенных в кучи и гниющих там листьев. С оглушительным карканьем метались между деревьями голодные вороны.
Мы с Марусей ходили, взявшись под руку, по крытой веранде, где институткам полагалось гулять в сырое и дождливое время.
Маруся была бледна и печальна… Начальница написала ее отцу, бедному школьному учителю, об исключении дочери, и бедная девочка невыносимо страдала.
Она знала, что это известие больно ранит отца, обожавшего дочь и возлагавшего на нее все свои надежды. Но просить прощения, считая себя правой, гордая Маруся не могла.
– Пусть выключают! Все равно! Проживу и без их хваленого аттестата! Не умру с голоду! – поминутно твердила она, но глаза ее против воли наполнялись слезами. – Только тебя жаль, Галочка, жаль фрейлейн и всех наших… – как бы оправдывая свои слезы, добавляла она и отворачивалась от меня, чтобы незаметно смахнуть их.
Мне было бесконечно жаль моего друга, но я была бессильна помочь ей. Единственный совет о принесении повинной, который я неоднократно давала ей, она не желала принять и даже строго-настрого запретила классу идти ходатайствовать за нее. Поэтому я только могла успокаивать Марусю своими ласками да еще немилосердно бранить Нору и Терпимова – злейших виновников нашего несчастья.
А Нора, казалось, вовсе не замечала нашего отношения к ней: она преспокойно читала свои английские книги, регулярно доставляемые ей из серого дома, и, казалось, нимало не грустила в своем положении «отверженной».
Что же касается Терпимова, то он после истории с роковыми булавками уже около недели не показывался к нам. И это было к лучшему, потому что озлобленные на него за Марусю девочки собирались устроить новый скандал Гадюке.
День исключения Маруси приближался. Срок ее пребывания в институте с каждым часом все уменьшался и уменьшался…
Этот роковой час был уже совсем близко, и мы с Краснушкой нестерпимо мучились при мысли о нем.
– Ты, Люда, пиши мне, обо всех пиши, только не об Арношке и не о Гадюке, я их ненавижу!.. – просила она меня, силясь удержать слезы.
– Мы будем просить, Маруся, чтобы Гадюку от нас убрали! Мы не будем учиться у него после твоего…
Я запнулась, не желая произносить слово, способное задеть ее больное самолюбие. Но Маруся только горько улыбнулась в ответ.
– Не стесняйся, Люда, – проговорила она, – ну да, после моего исключения, надо же называть вещи своими именами! Ах, Люда, Люда моя, – заключила она со стоном, – как мне жаль моего папку, моего бедного, старенького папку! Его убьет эта моя история, Люда!..
– Бог милостив, Маруся, что ты! – утешала я ее.
– Ведь он у меня совсем старенький, Люда, – продолжала она с жаром, – а какой умный, какой добрый! Все село его боготворит, все крестьяне, а о детях и говорить нечего! Если б ты только знала, как он отпускал меня в Петербург! «На тебя, говорит, Маша, вся моя надежда! В тебе вся радость моя!» А хороша надежда-то, Люда! Хороша радость! «Выключка» с волчьим паспортом! То-то радость, то-то счастье! – желчно рассмеялась она и, сжав маленький кулачок, погрозила им в пространство, со злостью прошептав: – Противные! Мучители! Ненавижу!..
– Маруся, – едва сдерживая слезы, прошептала я, – попроси прощения, Маруся! Maman добрая, она простит…
– Никогда! Слышишь, Люда, никогда! Запольская – беднота, дочь нищего сельского учителя, но у Запольской есть самолюбие, есть гордость, попирать которую она не позволит никому и никогда!
Ее охватил уже знакомый мне порыв бешенства, который делал неузнаваемой мою милую, добрую Краснушку. Я ничего не ответила, только молча поцеловала ее побледневшую щечку… Такая молчаливая ласка лучше всего действовала на Марусю. Она посмотрела на меня своими яркими глазами и заговорила снова уже тише и спокойнее:
– Ах, Людочка, как бы мне хотелось, чтобы ты побывала у нас… Село у нас хоть и маленькое, но чистенькое, славное… Ребятишки в школе сытые, здоровые и так любят папку, что и сказать нельзя! Одно нехорошо… Бедны мы очень… Папка из сил бьется, а все-таки иной раз на самое необходимое не хватает… Ведь на двадцать пять рублей не проживешь, Галочка… Вот я и надумала: по соседству есть деревня Шепталовка. Там школу устраивают, нужна учительница… Хорошо было бы мне там – с папкой по соседству… Да что тут мечтать!.. Все пропало, все погибло, Люда! Эх!..
И снова оживившееся было на минуту личико Краснушки мгновенно побледнело, глаза потухли, а рот искривился жалкой улыбкой.
Я не могла без слез слушать ее. По-моему, Маруся была права. Больше того, я готова была признать ее героиней, безвинно пострадавшей. И ненависть к Норе все сильнее и сильнее поднималась в моей груди.
В тот же день вечером я случайно столкнулась с Трахтенберг в верхнем дортуарном коридоре, где она часто уединялась со своим неизменным другом – книгой. Мои щеки пылали как в огне, когда я остановила ее:
– Трахтенберг! На два слова…
– А вы не боитесь, Власовская, говорить с «отверженной»? – иронически усмехнулась она.
– Бросьте ваши насмешки, Трахтенберг, они неуместны, – остановила я ее, – лучше помогите мне.
– В чем же? – вскинула она на меня свои большие удивленные глаза.
– Вы погубили Запольскую, – горячо начала я, – ее исключают из-за вас…
– Вы ошибаетесь, Власовская, – холодно поправила меня Нора, – ее исключают только из-за ее собственной грубости и пошлости!
– Ложь, ложь и ложь! Вы не знаете Марусю! – вскричала я, и обычная сдержанность вдруг покинула меня.
– Послушайте, Власовская, не будьте ребенком, не горячитесь, – и она положила мне на плечо свою изящную аристократическую руку, – признайте: Запольская поступила пошло и глупо! Месть – скажете вы… Прекрасно… Я понимаю – месть, понимаю и признаю древний закон «око за око»… Но пусть эта месть будет достойна и благородна! А тут… Натыкать булавок в стул учителя! Бог знает что такое! То же убийство из-за угла! Унизительно и мерзко!
Я хотела возразить ей – и не могла… Я понимала, что Нора была по-своему права.
– Но послушайте, – начала я снова, правда, уже далеко не прежним убедительным тоном, – послушайте, Нора… Пусть Краснушка провинилась, пусть… Но за что же такое наказание? У нее старик-отец, бедный учитель… Это убьет его! Послушайте… Вы должны исправить это дело. Пойдите к Maman и попросите ее не исключать Марусю.
– Никогда! – холодно оборвала меня Нора и, помолчав секунду, продолжала: – Запольская не ребенок. В семнадцать лет надо уметь рассуждать. Она знала, на что шла, затевая эту историю, и должна или чистосердечно покаяться, или понести должное наказание.
– Но вы можете спасти ее, Нора! – уже молила я, чуть не плача. – Княгиня послушает вас, если вы попросите за Краснушку…
– Глупо вы рассуждаете, Власовская. Поймите же одно: я выше всего в мире ставлю свои убеждения. И они запрещают мне поступить так, как вы просите. И я не сделаю по-вашему. Вам, конечно, не понять меня! И это грустно…
Действительно, я не могла понять ее, эту великолепную Нору – с ее убеждениями, идеалами и бессердечием, возмущавшими мою душу.
Печально поникнув головой, я направилась в класс.
Еще у двери я заметила там необычайное оживление. Девочек не было на местах, все они сгрудились у кафедры, на которой стояла фрейлейн Геринг.
– А-a, Люда! – кивнула она мне. – Хорошо, что ты пришла! Я должна сообщить классу очень печальную новость.
Я подошла к кафедре в тревожном ожидании.
– Дети, – сказала Кис-Кис, – мне очень жаль, но эта история с булавками может закончиться очень, очень печально…
– Как? Что такое? Что случилось? – послышались тревожные голоса девочек.
– Месье Терпимов серьезно болен. Булавка попала ему в сухожилие и вызвала местное воспаление. Он может остаться калекой на всю жизнь: если болезнь усилится – придется отнять руку…
Тяжкий вздох ужаса прозвучал в ответ. Все сорок девочек побледнели, как полотно. Но их волнение было ничто по сравнению с состоянием Запольской. Маруся закрыла лицо руками и глухо зарыдала…

Глава XIV. Черные дни. – Неожиданная выходка. – Прощение
Это были беспросветные дни сплошных мучений, тоски, ожидания… Мы почти не ели, и казенные обеды уносили нетронутыми со столов старшеклассниц. Мы чувствовали себя чуть ли не убийцами злополучного Терпимова, и никакие шутки, никакое веселье не шли нам на ум. На Марусю страшно было смотреть. Глаза девочки ввалились и горели лихорадочным огнем, губы подергивались судорогой. Искорки в глубине ее зрачков по-прежнему сверкали, но теперь тревожно… Ежедневно утром и вечером мы бегали в швейцарскую и, вызвав величественного на вид швейцара Петра, спрашивали его шепотом:
– Лучше господину Терпимову? Узнайте в учительской, ради Бога, Петр, лучше ли ему?
Петр узнавал и приносил один и тот же ответ: господин Терпимов болен и находится все в том же положении.
– Господи, – после каждого такого ответа в исступленном отчаянии шептала Маруся. – Господи, не допусти! Смилуйся надо мной, Господи!
Она давала обет за обетом: и вышить пелену в институтскую церковь, и поехать на богомолье по прибытии в свое село, и отслужить молебен целителю-угоднику, и множество других. Сам факт ее исключения, казалось, перестал быть важным для нее.
– Пусть исключают, – говорила она, – лишь бы он не умер и не остался бы калекой!
В классе говорили шепотом, словно больной лежал тут же. Поминутно девочки отпрашивались у классных дам «пойти помолиться», и постоянно можно было видеть две-три коленопреклоненные фигуры на церковной паперти, молившиеся о здравии раба Божия Александра.
И Господь, казалось, внял нехитрым молитвам бедных девочек. Однажды вечером в класс вошел швейцар Петр и принес радостную весть:
– Господину Терпимову лучше. Он встал с постели.
Трудно было описать ту бурю восторга, которая охватила нас. Мы как безумные кружились по классу, бросались в объятия друг друга и целовались так, как, наверное, не целовались в дни Светлой Христовой Пасхи.
– Ему лучше! Он выздоровеет! Мы не будем преступницами! – восклицали мы, смеясь и плача.
Классная дама была не в силах остановить нас и хоть сколько-нибудь умерить нашу бурную радость.
Шум и крики продолжались до тех пор, пока не прибежала насмерть перепуганная Еленина, решившая, что первоклассницы снова бунтуют, и не оставила всех нас поголовно без шнурка в следующее воскресенье. Наказание несколько отрезвило нас, и мы успокоились. Но ненадолго.
Дней через пять Терпимов должен был давать свой первый урок в старшем классе.
Это событие совпадало с кануном того дня, когда бедная Маруся Запольская должна была покинуть институт. Но и она думала об этом первом уроке выздоровевшего Терпимова не меньше других и, казалось, вовсе забыла о том, что назавтра ее ждала новая жизнь, полная забот и лишений…
Мы шумели, не умолкая, все утро. Уроки батюшки, любимого историка Козелло и физика Русе прошли без малейшего нашего внимания. Отвечали невпопад, из рук вон плохо… Все томительно ждали завтрака и большой перемены, после которой был назначен урок Терпимова.
За завтраком никто даже не прикоснулся к еде.
Наконец большая перемена, полная тревожного волнения, кончилась, и долгожданный звонок возвестил начало урока русской словесности.
Мы притихли. Сердца наши забили тревогу. Все взгляды обратились на дверь…
Она отворилась, и Терпимов, исхудавший и побледневший до неузнаваемости, с забинтованной рукой на черной перевязи, вошел в класс.
Горькое чувство жалости защемило мне сердце. Непрошеные слезы обожгли глаза. Никогда еще это длинное, носатое лицо не казалось мне таким милым и симпатичным…
Я оглянулась на Марусю. Она сидела на своем месте ни жива ни мертва. Ее лицо подергивалось нервной судорогой…
– Я не могу! Не могу! – вдруг вырвалось из ее груди, и, прежде чем кто-нибудь успел сообразить, опомниться и удержать ее, она стрелой кинулась к кафедре, упала на колени перед учителем, схватила обеими руками его здоровую руку и со слезами покрыла ее поцелуями.
– Бедный месье Терпимов! – лепетала она сквозь рыдания. – Никогда… никогда… больше… ничего подобного!.. Простите меня… злую… недобрую… Христа ради, простите… Пусть меня выключают… Только вы-то простите… Снимите камень с души, пожалуйста… Ведь мне покоя не будет, если…
Она задыхалась… Рыдания, не успевшие вырваться наружу, клокотали в горле, мешая ей говорить.
Терпимов был тронут порывом девочки до глубины души. Его обычная робость мгновенно исчезла. Он положил здоровую руку на склоненную перед ним золотисто-рыжую головку и произнес ласково, почти по-отечески нежно:
– Полно, госпожа Запольская, успокойтесь. Что было, то прошло… А кто старое помянет, тому глаз вон… Я очень рад, что успел уговорить княгиню простить вас. Вы останетесь с подругами и еще вдоволь порадуете меня вашими успехами! Простите и вы, если можете. Я был во многом не прав… – смущенно обратился он ко всему классу.
– Бог простит! – послышались в ответ сочувственные голоса. Из карманов потянулись платки, послышались всхлипывания…
Маруся все еще стояла у кафедры. Но теперь ее лицо алело румянцем, глаза сияли таким светом, что на нее было радостно смотреть.
– Смотрите, медамочки, смотрите, – зашептала со своего места восторженная Милка, – Краснушка теперь точно святая! Смотрите!
– Это искупление! – торжественно произнесла Танюша Петровская и почему-то осенила себя крестным знамением.
С последней скамьи неожиданно поднялась Нора и подошла к Марусе.
– Запольская, – произнесла она отчетливо и громко, – позвольте мне пожать вашу руку. Вы поступили благородно!
Класс замер от ожидания, глядя на обеих девочек, еще недавно непримиримых врагов.
Вот-вот, казалось нам, лицо Краснушки побледнеет от гнева, и гордая Нора останется с носом!
Но нет, ничего подобного не случилось. Напротив! На глазах всего класса Запольская положила в бледную, изящную руку Норы свои, не утратившие еще обычной для подростков красноты, пальчики и произнесла восторженно и пылко:
– Охотно, Трахтенберг, я даю вам свою руку, потому что, признаюсь, вы во многом были правы!.. – и, к всеобщему удивлению, девушки обнялись и поцеловались тут же перед учительской кафедрой.
Это был удивительный, совершенно особенный урок русской словесности. Вряд ли такой когда-либо давался в институтских стенах. Многие из нас долго не забудут его… И учитель, и ученицы, словно желая вознаградить себя за долгие дни вражды, теперь старались отличиться, кто как мог. Даже самые слабые выучили урок и отвечали без запинки. Терпимов, воодушевленный и обласканный добрым отношением девочек, с неподражаемым искусством прочел лермонтовского «Мцыри», вызвав у нас настоящую бурю восторга.
Счастливые и примиренные, разошлись мы в этот вечер по своим постелям.
Перед самым спуском газа за Краснушкой пришла девушка – звать к «ее сиятельству княгине».
Я долго ворочалась с боку на бок, поджидая возвращения подруги. Она, неслышно ступая, проскользнула в дортуар, когда многие уже спали крепким, здоровым сном, и, бросившись ко мне, восторженно зашептала:
– Людочка моя!.. Maman простила… Давно простила… Терпимов упросил ее… И папка ничего не знает, ему ничего и не писали… Ах, как хорошо, как хорошо жить на свете, Люда, и как добры все люди!..
Смеясь и плача, она целовала меня, и ее лицо было омыто блаженными и чистыми слезами раскаяния и радости.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.