Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"
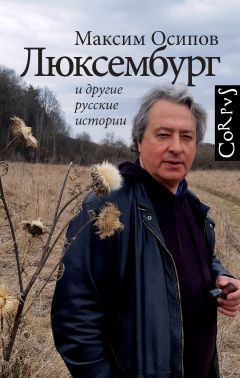
Автор книги: Максим Осипов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Он лежит у себя в комнате и думает: не хватает спонтанности. Никогда не хватало. Вот сейчас – подойти бы к Марине, утешить ее, все что угодно – хоть поплакать с ней вместе. Ответ на любое несчастье происходит в нем с некоторой задержкой – на любое чужое несчастье, так ведь – и на свое, но другим-то не объяснишь.
Вдруг вспоминает: куда-то их в школе классе в девятом возили всех вместе за город из автоматов стрелять. Стрельба не запомнилась, а запомнилось вот что: по дороге назад на пустой подмосковной улице его одноклассники стали швырять снежки в стеклянную телефонную будку, в ней не было никого, и он тоже зачем-то взял льдышку, швырнул и попал и разбил стекло. Ребята убежали вперед, а он задержался, и прохожий, пожилой человек, остановился и долго, укоризненно на него смотрел. Он не помнит, сколько лет было тому человеку, может быть – пятьдесят или семьдесят, и даже не уверен, мужчина ли это был. А взгляд помнит. Зато, думает, комсомольцем так и не стал. Другие вступили, весь класс, хотя ни во что такое, конечно, уже не верили. От воспоминания про комсомол ненадолго улучшается настроение. Но все равно нехорошо ему, физически нехорошо.
Разумеется, неудачник. Вот его первый приход: известный всей Москве храм, куда направили его взамен священника, знаменитого смелыми взглядами. Тут встречались женщины, которые говорили одна другой: «Отойдите, вы мне загородили просцениум». Отца Сергия они не приняли. Он помнит первое свое и единственное Рождество в том храме: три священника стоят с чашами, и он, разумеется, один из троих, только к остальным – очередь из причастников, а к нему – никого. Постоянные прихожане предпочитали ему других батюшек. Хор там был очень хороший, да. Тут-то стало заметно неумение отца Сергия петь. Так, из доброты кое-кто исповедовался у него. «Смотрелась в икону, как в зеркало», – сказала однажды дама, которая солею называла «просцениум».
С другой стороны, в том приходе было много детей. Отцу Сергию нравилось разговаривать с ними. Обнаружилось, например, что они часто рвут, жгут, уничтожают деньги – проверяют границы своих возможностей. Одной девочке он рассказал историю про телефонную будку. Кажется, напугал ее.
Однажды, заходя в трапезную, услышал: «Рассматривайте его как продукт не до конца преодоленного аутизма», – говорил один из его собратьев-священников, о нем говорил. «Нельзя никого записывать в аутсайдеры, – отвечал другой. – И последние будут первыми». Отец Сергий, поколебавшись, вошел, попробовал улыбнуться. «Мы обсуждали нового главу государства», – нашелся собрат, тоже попробовал улыбнуться. Дело было в двухтысячном.
Потом был еще один храм, совсем новый, где он стал уже настоятелем, прихожан тут почти что не было, но храм считался богатым, поскольку располагался рядом с районным судом. Здесь было много случайных, нецерковных людей, каждый день разных. В ожидании решения своих гражданских и уголовных дел они щедро жертвовали на храм, и отец Сергий отвозил значительные суммы архиерею. Глядеть на того было всякий раз неловко, а посоветоваться стало не с кем – любимый его отец Лев умер, и вместе с собором священников, многие из которых приходились умершему родственниками, отец Сергий читал на отпевании Евангелие и пел «Волною морскою», оглядывался на Марину, жалел, что не может с ней рядом погоревать.
Очень тогда эти денежные вопросы волновали Марину, смущали ее. Но, между прочим, архиерей не был плохим человеком, просто слишком много занимался строительством, да и разнообразных искушений у епископов больше, чем у простых священников и мирян. Не они, не епископы, мешали отцу Сергию стать хорошим священником – только он сам. Дважды в год отец Сергий делился с официальным исповедником своими сомнениями – посильный ли взял себе крест. Про Марину молчал, хоть и мысли не возникало, что исповедник может проговориться кому-нибудь про его семейные неурядицы.
Теперь он служил в маленькой церковке в центре Москвы с приходом, как говорили, «в полторы старушки», один, с левым хором, то есть любительским, никуда оттуда не рвался. Спрашивали, конечно: что с матушкой? В смысле: почему в храме не появляется? – Недомогает. Потом и спрашивать перестали, и как-то сплетен вокруг этого не было. За десять лет приход не вырос, но эти самые «полторы старушки» отца Сергия, кажется, уважали. Вот если бы отношения с Мариной не пришли в такую негодность… Он знал, чем она сейчас занимается: рассматривает фотографии Моны в своем телефоне или компьютере.
* * *
Целый день он не ел ничего, да и еды в доме не было, но голода не ощущал. Болело внутри, глубоко – не то в груди, не то в животе, где-то между, под ложечкой. Откуда-то отец Сергий усвоил, что первый признак инфаркта – страх. Но страха он как раз не испытывал.
Со смертью, с чужой, отец Сергий сталкивался постоянно, а о собственной думал нечасто, поскольку вообще-то мало размышлял о себе. Но если все-таки думал, то довольно светло – никогда как о прекращении житейских тягот, скорее – как об избавлении от страха и от неведения в отношении посмертной судьбы.
Болело, однако, сильней и сильней. Внушить себе, что вот – боль отдельно, а он, отец Сергий, – отдельно, не получалось. Выпил чаю безо всего, один, уже в сумерках. Боль не прошла. И к ней добавилась тошнота.
Отец Сергий, как все священники, опасался рвоты. И потому решил, что пришло время действовать. Позвонил ноль-три, объяснил, где болит, выслушал их советы. Наконец, узнал, что машина в больнице одна, и она на вызове, заказал такси. Отец Сергий надеялся уйти тихо: он стеснялся своего нездоровья, но Марина услышала, выскочила, стала беспорядочно его собирать.
Нет, подрясник не нужен, он не хочет производить впечатление.
Откуда-то отец Сергий знал – так и будет: Марина его отвезет в больницу, они попрощаются. Рановато, ему еще нет пятидесяти… Какая-то часть его, конечно же, испугалась. Ощущение, что собираешься погрузиться в холодную реку. Надлежит надеяться на обретение нового тела, после того как душа разлучится с тем, которое есть. Господь ему даст иную форму существования. Может быть, прямо сегодня и даст.
* * *
Больница, приехали. Освещены лишь окна верхнего, третьего этажа, без них пустой двор был бы совершенно темным. У входа несколько мрачных мужчин.
Внутри его усаживают на коляску, словно он не пришел к ним только что сам, и какая-то полная женщина начинает безо всякого дела перемещать его в полутьме из одного кабинета в другой. Отец Сергий себе не вполне уже принадлежит.
Он лежал в больнице всего лишь раз в жизни – в семнадцать лет, по направлению военкомата. Лежал с двумя мужиками, которые звали его дезертиром и посылали за водкой. По ночам мужики храпели так громко, что казалось, они не храпят, а ревут, как какие-нибудь саблезубые тигры. Ничего медицинского от той госпитализации не запомнилось.
Все идет, как должно идти. Марина звонит приятельнице, которая знает тут все: главное, утверждает она, поскорее попасть наверх, на третий этаж – там происходит вся медицинская деятельность. Майя Павловна сейчас спустится. Майя Павловна – заведующая отделением, дежурит сегодня, приятельница говорит, что им повезло.
Вновь ожидание: Майя Павловна занята, сами идите к ней. По дороге наверх, в царство света, происходит маленькое происшествие.
– Поднимайте! Чего ждете? – кричит на теток Марина.
Лифт не работает. Как так? Он же ездил минуту назад!
Марина умеет воздействовать на людей. Медсестры, санитарки или – кто они? – фельдшера́ испуганы: сейчас мужики подойдут. Помогут, подымут. Своими ногами нельзя: Майя Павловна их убьет. Любая боль выше пупка требует регистрации кардиограммы.
– Вот и делайте!
Пусть Марина молчит, думает отец Сергий, а лучше всего – домой едет. Конечно, она переживает, на свой манер, но ясно же: ничего у них не работает.
Он говорит:
– Я вполне в состоянии подняться по лестнице. Не настолько я плох.
– Настолько, настолько, – Марина не дает ему слова сказать. – Он никогда ни на что не жаловался, – это уже окружающим.
Что с их проклятым лифтом такое? Выясняется, в нем – покойница. Раньше чем через два часа после смерти отправлять покойников в морг не положено, вот они и завозят их в лифт.
Не хватало еще мертвецов бояться. Отец Сергий встает, берет у Марины сумку, приоткрывает железную дверь:
– Тебе нельзя! – даже не поцеловал ее на прощание.
Захлопнул дверь, нажал третью кнопку. Действительно, в лифте тело, завернутое в простыню.
* * *
Происхождение покойницы выяснится для отца Сергия чуть позднее. Старушку девяноста девяти лет заморозили ее дети и внуки, с их женами и мужьями: не придали значения круглой дате, не стали ждать, пока их родственница доживет до ста. Положили ее на клеенку, раздели, в последние годы старушка была совершенно беспомощной, открыли окно, ночи в мае холодные, дождались, пока перестанет дышать, вызвали «скорую» – приезжайте и констатируйте. – Окна с какой целью открыты? – Для проветривания, а что? – И батареи в комнате были выключены. В общем, приехали и констатировали, но не смерть – сильное переохлаждение. До двадцати восьми градусов. Пульс у нее еще был. Сообщили в милицию, теперь родственников старушки ждут следствие и суд. Прожила она несколько лишних часов благодаря гуманной медицине, скажет отцу Сергию сосед-писатель, – чего только не предпринимала Майя Павловна, чтобы ее согреть.
Эти подробности ему еще предстоит услышать, а пока он стоит в коридоре у двери лифта, напротив палаты реанимации (маленькой, на две койки), и ждет, что санитарка застелет ему постель. Из-за ширмы не видно, но кто-то там на другой койке шевелится.
В нескольких шагах от отца Сергия – ординаторская, возле нее Майя Павловна в окружении троих мужчин – тех, кого они встретили, когда высаживались из такси. Майя Павловна – невысокая темноволосая женщина примерно того же возраста, что и он.
– Все свои мысли, – говорит Майя Павловна, – вы изложите следователю. О причинах переохлаждения мы не высказываемся. Можем лишь утверждать, что ваша родственница погибла именно от него.
Майя Павловна подходит к двери на лестницу, толкает ее. Дверь заперта.
– Как вы попали сюда?
Один из мужчин показывает в другой конец коридора: оттуда вошли, через пищеблок. Он самый старший и выглядит удрученным. Сын или зять. Когда поднимает руку, то на внутренней ее стороне обнажается надпись: «нет в жизни счастья». Отец Сергий думает: лестница заперта, Марине сюда не попасть. Будем надеяться, она уже подъезжает к дому.
– Ей было девяносто девять лет! – взрывается самый молодой, поворачивается спиной к врачу, делает нелепые телодвижения. – Зачем вообще ее было сюда привозить?
– В нормальных странах есть такая вещь – эвтаназия, – произносит мужчина, средний по возрасту и, видимо, самый грамотный из троих.
Майя Павловна глядит на него безнадежно:
– Все вопросы будете решать со следователем.
– Послушайте, уважаемая! – молодой зачем-то хлопает себя по бокам. – Девяносто девять! Доходит до вас?
Это уже не речь, а какой-то звериный вой. Так, очевидно, он и провоет весь лагерный срок за убийство родной бабушки.
– Немедленно уходите. Милицию вызову. – Майя Павловна закрывает за собой ординаторскую, поворачивает замок.
Отчего, думает отец Сергий, сам он не умеет так же твердо поговорить с теми, кто находится в ситуации явного, тяжкого, повторяющегося греха?
– Милок, ложись, – обращается к нему пожилая женщина, ее тут все называют ласково бабой Машей или же санитарочкой.
* * *
Ему снимают кардиограмму. Следя за действиями медсестры, отец Сергий разглядывает свою голую грудь с редкими светлыми волосами – как чужую. Так осматривают свой дом, когда в него приходят малознакомые гости. Сделайте тело свое храмом духа… Медсестра капает холодным гелем, ставит резиновые присоски – груши. Все чужое вокруг, и тело тоже, как не свое. Светло и чисто, синие груши, ритмичный писк мониторов: не поймешь, где сердце соседа, а где – твое собственное, холодок на груди и внутри нее. Боли уже не осталось, одна только пустота, да и то – если очень прислушиваться. В таком состоянии, как сейчас, он бы не обратился за помощью.
– Есть инфаркт?
Ответ известен: должна посмотреть Майя Павловна.
А что медсестра ему вводит? Она не вводит, наоборот – берет кровь.
Из-за ширмы слышится шум.
– О Господи, Господи, – стонет сосед.
Что-то переворачивается, падает, по полу растекается желтая жидкость.
– Баба Маша, подойди ты к нему! – кричит медсестра.
– Что ты наделал, а? – санитарочка укладывает соседа в постель. – Чего трясешься-то весь?
– У меня поджилки дрожат, – отвечает тот.
Поджилки, ого!
– Я тебе покажу как буянить, – никакой угрозы в голосе бабы Маши, однако, нет.
Кое-как за ширмой все успокаивается, пол вытерли, снова оба их монитора пищат. Медсестра с бабой Машей ушли. Отец Сергий соображает, что забыл захватить книгу, у него с собой только вечная его тетрадочка, куда он записывает всякую всячину. Что же, он полежит, подумает. Но из-за ширмы опять раздаются вздохи:
– Господи, Господи!
– Вам нехорошо? – спрашивает отец Сергий.
– Уже лучше, – отвечает сосед. – Как все же пуста, незначительна, неглубока действительность!
Вот отчего он охает. Сразу видно: интеллигент.
– Вы здесь давно?
Соседу кажется – со вчерашнего вечера. Точно не помнит, очень плохо было, он чуть не помер, чуть не испортил им тут статистику, неплохой эвфемизм для «помереть», а? Сказали, отек легких, чушь! Что они понимают? У него бронхи слабые – в Москве определили, в литфондовской поликлинике. – Тоже дачник? – Нет, он случайно здесь. В смысле – по случаю. Дочка его живет в этом городе. Со своей мамашей. И с молодым человеком. Взрослая уже, да, двадцать два. А теперь вот – жена примчалась. Которая младше, чем дочь. Ходила в его семинар. Если он потеряет ее, то не сможет жить. Тому, кто не оказывался в его положении…
– У вас-то, наверное, ничего подобного в жизни не было? – спрашивает сосед.
Нет, отвечает отец Сергий, у него одна любовь – на всю жизнь, и понимает, что не то что лжет, а – неполно описывает ситуацию.
А какой семинар ведет сосед его?
Тот оказывается писателем.
– А вы по профессии кто?
«А я, – хочется сказать отцу Сергию, – плохой священник». Но он говорит:
– Геолог.
– А-а… – сосед откликается безо всякого интереса.
Итак, он писатель.
– Но фамилия моя ничего вам не скажет. Пурыженский. – Делает паузу.
Если выберемся отсюда, обещает сосед, он подарит свою книгу, последнюю. Надо будет ее разыскать. Авторские экземпляры закончились.
– Знаете, как тяжело спрашивать свои опусы в магазине? «У вас нет… Пурыженского?» Как презервативы покупать. Помните, в юности? – сосед немножко развеселился. – «Изделие номер два», помните?
Отец Сергий предпочел бы не отвечать.
Опять Пурыженским овладевает покаянное настроение. Он и надписать-то книжку не может, такой у него стал почерк поганый. И вообще – уже несколько лет не сочиняет нового, только обслуживает написанное: вторые редакции, инсценировки, киносценарии.
– Знаете, что сказали про мой последний роман? Что он несет на себе отпечаток неравной борьбы автора с алкоголем. Вы представляете?!
А лучшее, в смысле – самое лестное, чего он дождался от критиков, это что Пурыженский – небольшой, разумеется, но приятный писатель.
Да уж. И все-таки отец Сергий не хочет составлять мнения о творчестве своего соседа, пока не прочтет.
Прошлой зимой к нему в храм повадился ходить один сумасшедший: он утверждал, что может воскрешать мертвых. Однажды отец Сергий, выгоняя его на улицу, подумал: если бы этот псих и вправду мог воскресить умершего, то, лишив его такой возможности, он совершил бы хулу на Духа Святого. Риск, понятное дело, был там равен нулю, да и здесь минимальный, а все же нельзя, не читая, отказывать Пурыженскому в таланте.
Писатель возвращается к своей запутанной жизненной ситуации. Оля беременна. – Оля – дочь? – Жена. То есть он с первой женой не развелся еще. Но с ней у него – только штамп в паспорте. Если Оля уйдет… – С чего бы ей уходить? – А с чего оставаться? Иметь на руках ребенка и такую развалину… У него ни здоровья, ни денег нет. А Оля сама почти что ребенок. – Писатель всхлипывает.
– Что вы? Вылечат ваши бронхи.
Свет становится ярче. В палату заходит врач Майя Павловна. Обращается к отцу Сергию:
– Сразу вас успокою – инфаркта нет. Сергей…
– Петрович, – подсказывает священник.
– Когда, скажите, возникла боль?
Вдруг ему делается тепло. Всегда спрашивают: когда началось? «И спросил он отца его: как давно это сделалось с ним?» После всех сегодняшних событий – вот, Майя Павловна, симпатичнейший человек, принесла известие, что он еще поживет, что инфаркта нет. Все становится просто и хорошо.
– Почему вы расстраиваетесь? – она неверно поняла его настроение. – Когда все-таки появилась боль?
– Днем сегодня. Я повздорил с женой. – Он вспоминает: который был час? – Я… виноват перед ней.
– Сергей Петрович, есть что-то, о чем мне следует знать как врачу? – Правильно, он не на исповеди. – Вы кем работаете?
Не хочется ее обманывать, но куда денешься?
– Я геолог.
Она его смотрит, слушает. Ничего примечательного. Правая рука у него дрожит, она часто дрожит у священников, ею чашу держат. Как теперь объяснишь?
– Сергей Петрович, вы тут? – чуть-чуть, одними глазами, она ему улыбается.
План такой: он останется до утра, они кое-что проверят, а там – решим. Провода пускай будут прицеплены, а если надо встать по нужде, то его отцепит сестра. Несколько таблеток он должен принять. И укол в живот.
– Нет, – смеется она, – не от бешенства.
Пока что следует расценивать его состояние как нестабильное, хотя, скорее всего, ничего нет. Здоровый человек тоже может скверно себя почувствовать.
Перешла к соседу. Все слышно: какие могут быть тайны в реанимации?
– Нельзя вынимать эту штуку из носа!
– Из нее ж ничего не идет!
– Кислород идет. И плаксивый тон свой оставьте, пожалуйста.
Разговор продолжается в том духе, что если он, Пурыженский, прекратит лечиться, то дела его плохи, и даже если не прекратит, то тоже – нехороши. Что насос, через который вводят лекарства, работает, и если писатель не замечает движения поршня, то это не значит, что поршень стоит: не видим же мы, как меняют свое положение часовая и минутная стрелки, не правда ли?
В ответ на какие-то соображения Пурыженского про литфондовскую поликлинику Майя Павловна заявляет, что не знает никакой Сюзанны Юрьевны, и Жанны Юрьевны тоже, и что очень мило со стороны этой самой Жанны-Сюзанны, что та послушала легкие, но если бы она иногда еще сердце слушала, то не пропустила бы, вероятно, какой-то там недостаточности, которая и стала причиной того, что он здесь. Завтра она попробует договориться с хирургами – нет, московскими, – но дотянуть до операции можно лишь при условии, что Пурыженский даст себя полечить.
На какое-то время кажется, что сопротивление больного сломлено, но потом тот заявляет, что больница ведь – не тюрьма, и что он, Пурыженский, требует его немедленно выписать, отпустить. И Майя Павловна несмотря на третий час ночи повторяет все свои доводы в пользу того, чтоб продолжить лечение, и они договариваются, что Пурыженский немного подумает, но, когда она выходит из палаты, он сразу говорит, что уйдет.
– Простите, что вмешиваюсь, – обращается к нему отец Сергий. – Вы делаете ошибку.
– Вам легко рассуждать, – отвечает Пурыженский. – У вас все иначе, чем у меня.
У тебя нет инфаркта, вот что хочет сказать сосед. И друг другу мы все – другие. Да, так и есть. Особенно он, священник, всем и всегда – другой.
– Человеку необходим весь диапазон чувств, – продолжает Пурыженский. – Не могу я жить в свете одной лишь печальной необходимости.
Отец Сергий наконец-то собрался с мыслями:
– По-видимому, Майя Павловна – совершенно исключительный врач.
– Не думаю. Слишком красивая.
Пурыженский жмет на кнопку. Медсестра, очевидно, спала, но приходит на вызов быстро и за дело берется с большой готовностью: этот больной сильно здесь надоел.
Монитор Пурыженского затих, трубки из писателя вынуты, брошены на пол – баб Маш, убирай! Силой не держим, пиши отказ и всё, до свидания, по месту жительства.
– Что писать? Ах ты, кончилась ручка! – Пурыженский в полном отчаянии.
Отец Сергий встает с кровати, чтобы протянуть писателю свою ручку, отодвигает ширму и видит его.
Полуголый, рано состарившийся мужчина: короткая толстая шея, свалявшиеся патлы, толстые губы, груди, живот, много седой растительности на теле. Бинты на обеих руках. Щетина. Язык от старания высунул.
– Я, такой-то такой-то, – диктует сестра, – отказываюсь от лечения в стационаре, о возможных последствиях предупрежден, претензий к персоналу не имею. Если имеете, укажите, какие. Подпись, число.
Пурыженский едва поспевает за ней.
– Да какие претензии… – машет свободной рукой.
Священник смотрит на этого некрасивого, путаного человека и внезапно думает: а ведь это я сам. Не брат мой, не ближний, не «другое я» философов и писателей, а просто – я. Иные обстоятельства и биографии разные, и тем не менее – я, я и есть. Босой, почти голый, сидит на койке, чего-то ждет. Смотрит расфокусированным взглядом в пространство.
– Одевайтесь, – говорит медсестра, – и на выход. Выписка, больничный – всё завтра. Ну, чего ждем?
– И куда я пойду? – спрашивает вдруг Пурыженский, все так же не глядя ни на кого.
– А вы не идите, останьтесь тут, – отец Сергий не замечает знаков, которые подает ему медсестра. – Оставайтесь. Майя Павловна вас простит.
* * *
Снова неяркий свет, вразнобой работают мониторы: на два удара сердца священника приходится три-четыре писательских. Оба прислушиваются к звукам, про себя отмечая моменты их совпадения.
– Об этом обо всем написать. – Пурыженский и правда дышит нехорошо.
– И напишете.
– Уже нет. Думаете, не понимаю? – Молчит, дышит. – Видели бы вы, как она старушку отогревала!
Плохи, говорит, дела его, безнадежны. Ничего-то он не напишет.
– А ненаписанного – не существует. Его как бы нет. Ясно вам?
Отцу Сергию это ясно вполне: он сам всем другим занятиям предпочитает чтение.
– Вот оно что, – равнодушно отзывается писатель. – А я представлял – то-другое, туристическая компания, песни… Стихов не сочиняете?
– С моей фамилией только стихи сочинять.
– А какая у вас фамилия?
– Тютчев.
Оба тихо смеются, впервые за эту ночь.
– Знаете, я давным-давно написал что-то вроде стихотворения… Когда расстался с одной компанией. Как раз туристической. Точнее, она рассталась со мной. – Отец Сергий лезет в тумбочку за тетрадкой, ждет, что Пурыженский попросит его почитать. – Я никому не показывал. – Еще ждет. – Почему вы молчите?
– Жду.
Надо читать, делать нечего.
По дому ходили босиком,
Были детьми своего времени,
Были сентиментальны,
Любили про солнышко лесное,
Сочувствовали однобоко,
Были хороши в несчастии, плохи в радости,
Много умели практического,
Знали, что такое фаза, умели собрать
Байдарку, палатку, крепко, надежно,
В Бога поначалу не верили,
Многое раздражало:
Про Исаака и Авраама,
Позолота в церкви,
Потом вдруг поверили,
Зажили почти праведно
Или же эмоций убавилось.
К чему я это рассказываю?
Рюкзаки еще были алюминиевые,
Дюралевые или, не знаю, титановые,
Легкие, очень удобные,
Переехать, перевезти тяжести,
Умели носить вещи, коробки, тяжести,
Помочь с переездом, с похоронами,
Съездить за справками, отстоять очередь,
Помогали до известной степени,
В той мере, которую считали правильной.
Доброта их была априорной,
Сама собой разумеющейся,
Но о людях они отзывались дурно,
Были детьми своего времени,
Любили Александра Грина,
Фильм «Сталкер», песни Высоцкого,
«Детей Арбата», передачу «Куклы»,
«Разговоры с Иосифом Бродским»,
Сейчас им ничего особо не нравится.
Какие из этого выводы?
Не пленяться объективными достоинствами,
Бояться сентиментальности,
Верить первоначальному впечатлению.
– Всё? – спрашивает Пурыженский после паузы. – В конце не хватает чего-то.
Священник берет ручку, добавляет к написанному:
Помнить: никто не имеет права
На любовь ближнего.
Вслух две последние строчки читать не стал.
* * *
Спал он недолго, но, видимо, крепко. Потому что, проснувшись и сообразив, где находится, замечает большие перемены – и в обстановке, и в освещении. Наступило утро, и верхний свет потушили. Кроме того, ширма придвинута вплотную к его кровати, и сквозь нее просвечивает агрегат, с шумом качающий воздух. Самое же плохое состоит в том, что у соседа изо рта торчат трубки, и он без сознания.
Входит Майя Павловна:
– Боли не повторялись? Забирайте вещи и во второй кабинет.
– Майя Павловна… – он хочет спросить про Пурыженского.
– Всё потом.
В кабинете она прикрепляет к груди отца Сергия провода с липкими наклейками на концах, нажимает на кнопки огромной машины, которая стоит посреди всего – беговой дорожки, по ней ему предстоит ходить. Не хватает медицинских сестер, что-то еще она сообщает, что ответа не требует. К утру Майя Павловна делается более похожа на врачих – на тех замученных женщин-врачей, которых отец Сергий встречал прежде.
Поехали. Сначала будет легко, потом – трудней и трудней.
У соседа его не очень все хорошо, говорит Майя Павловна. Пусть Сергей Петрович сосредоточится на ходьбе, не отвлекается, иначе собьет дыхание.
Дорожка под ним идет чуть быстрей, он продолжает шагать. Пока что справляется.
– Майя Павловна, срочно в реанимацию!
Та срывается с места и то ли рассчитывает быстро вернуться, то ли забывает остановить дорожку. Отец Сергий теперь продолжает свой путь в одиночестве. Угол наклона делается круче, и дорожка бежит быстрей. Каждые несколько минут манжетка у него на руке надувается и сдувается, из аппарата вылезает кардиограмма, он продолжает идти.
Отец Сергий вспотел, особенно голова, приходится уже не идти – бежать. Ноги болят – ничего, отдохнут, хочется больше воздуха, и сердце стучит с огромной силой и частотой, и пот на дорожку капает – жарко, как в печи огненной, но – надо работать, работать, вперед, еще! Можно дернуть за какой-нибудь проводок, и тогда, наверное, все остановится, но, пока есть возможность, он будет терпеть. Так надо, так для чего-то надо.
– Все, стоп! – она здесь.
Пульс сто семьдесят.
– Более чем достаточно, – говорит Майя Павловна.
Отличные новости: Сергей Петрович здоров, совершенно здоров. Пускай умывается, приводит себя в порядок. Он большой молодец: восемнадцать минут продержался – рекорд кабинета, почти.
А Пурыженский? – Все плохо. Не надо туда.
Она протягивает на прощанье руку. Ему всегда нравилось, когда женщины здороваются и прощаются за руку, это редкость теперь.
* * *
Он на улице, вновь предоставлен самому себе.
Марине надо бы сообщить, что он цел, но она еще не проснулась, наверное. Хочется шевелиться, не прекращать движения, и он решает пойти пешком. Хорошо, когда поверхность под тобой неподвижна, и ты сам властен двигаться медленней или быстрей.
Ему часто приходится рано вставать, он любит ощущение ответственности за целый мир, которое появляется, когда идешь через сонный город. Но сейчас он мыслями еще там, в больнице, и не замечает, как оказывается возле дома. Перед ним забор – старый, подгнил кое-где, зато не ломает, не нарушает пространства, дает смотреть далеко кругом. Калитка веревкой завязана: Марина следит, чтобы она закрывалась хоть как-нибудь.
Весна в этом году наступила поздно, и цветы распустились сразу на всех деревьях, многие из которых вроде бы не должны одновременно цвести. Названий большинства из них он не знает. С белыми маленькими цветочками – это что? Дерево или куст? Вот вишни, вот яблоня – одичавшая, каждый август она плодоносит мелкими зелеными яблочками, несъедобными. Перед крыльцом сирень – жаль, скоро кончится. И даже на елке, под которой он вчера похоронил Мону, обнаруживается подобие цветов. Желтое на зеленом, только сейчас заметил. Елки тоже цветут.
Он еще некоторое время оглядывается, потом открывает дверь. На столе начатая бутылка вина и пепельница, в ней много окурков, – Марина теперь почти что не курит, но вчера был такой день.
Тихо, чтобы не разбудить ее, он проходит к Марине в комнату, садится к ней на кровать, дотрагивается до ее плеча бородой.
– О Господи, – Марина смотрит на него удивленно. Кажется, рада ему. – Подожди, я оденусь.
– Нет, – говорит он, – зачем?
* * *
– Тебе хорошо? Слушай, они не ошиблись? – спрашивает Марина, когда он издает какой-то звук, не поймешь – смех или стон.
Нет-нет, никакой ошибки. Он совершенно здоров.
– А почему ты дрожишь?
Теперь он уж точно смеется, не перепутаешь:
– Поджилки дрожат.
Чудеса, говорит Марина, он совсем не пахнет больницей. Теперь, наверное, ему следовало бы поспать?
И вот он идет к себе, осматривает свою комнату, думает: хорошо бы так было всегда, до глубокой старости. Эти книжки на тесных полках, этот темно-оранжевый плед, протертый уже местами, который он использует как покрывало. Греческая иконка у изголовья – тоже в красно-желтых тонах. Так бы до старости. Хорошо, что есть еще время. «Бог и баба» – вспоминает он отца Льва. Хорошо быть живым. Закрывает глаза, думает про соседа-писателя: ненаписанного как бы нет.
С чего начать? У священника была собака…
октябрь 2012 г.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































