Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"
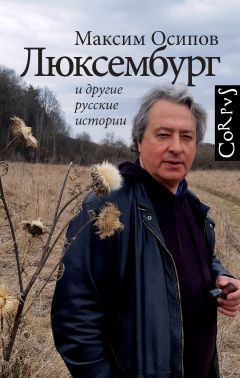
Автор книги: Максим Осипов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Один–один
– Анатолий Владимирович! – Я не сразу понял, кто мне звонит, а уж по отчеству меня называли лет двадцать назад, и то в основном менты.
Говорит: Матвей. Путанно объясняет, откуда у него мой номер. – Ах, вы сын… – Да-да, сын.
Растерянный молодой человек: в чем-то мы, видно, уже не оправдали его ожиданий. Когда уезжаешь, теряешь не родину – заграницу: между прочим, собственное мое наблюдение. Спрашиваю Матвея, как там отец? – Ничего, говорит, пока жив.
Я позвал его, он пришел.
* * *
Мы сидим в моей съемной квартирке-студии на Стэньян-стрит, возле парка. Вдоль стены – коробки. Мы очень мобильны тут. Американцы – мобильная нация.
У меня недавно книжка вышла – «Искусство жить: взгляд психолога», так можно на русский перевести. Напечатал за собственный счет. Была даже кое-какая критика, позвали в университет, с обещанием постоянной позиции. Университет не самый, мягко говоря, знаменитый, да и мне не особенно со студентами нравится, но приходится делать то, что дают.
Матвею тоже никуда от реальности не уйти.
Он вяло кивает. Вот уж чего в отце его не было – вялости. Значит – в мать? Все равно почему-то этот Матвей вызывает мой интерес. Я в последнее время мало общаюсь с людьми.
Закончил ИнЯз, Мориса Тореза, – увы, иностранными языками никого тут не удивишь, английским особенно. А улыбка хорошая у него – тоже может помочь. Не помню я, чтоб отец его особенно улыбался. А мать его я вообще не помню.
Улыбки улыбками, но дело так не пойдет.
– Не освоить ли вам, Матвей, программирование?
– Наверное, – говорит, – придется.
– Позвоню-ка я по вашему поводу нескольким людям.
Кивает:
– На всякий случай моя фамилия Иванов. Здесь произносят «А́йванов».
Фамилия матери? Головой мотает – нет-нет. Это уже интересно. Сменил фамилию. А где он живет? – Тут, отвечает, в городе.
– Где, где именно?
– Двадцать пятая авеню и… – замялся.
– Двадцать пятая – длинная. Что, на Утесе?
Ладно, понятно все. У Ма́рго-Марго́? Угадал?
* * *
Не Маргарита, не Рита – Ма́рго, Марго́, Маргоша – одного какого-нибудь варианта так и не установилось. Самой ей нравится Ма́рго, ударение на первый слог. Роскошная женщина: кожа гладкая, морщин нет вообще, волосы – какими захочет, такими будут, и одевается потрясающе, здесь так не ходит никто. Считается: ей за сорок – эх, как бы не все пятьдесят.
Когда она только приехала, она и муж, то злые языки, больше женские, говорили: испорченная ленинградская баба, не более. Нет, Марго – не баба, не просто баба – явление. Многим тут помогла. Поддержала, но не удерживала, не вцеплялась, не ждала благодарности – всех отпускала, тоже – искусство жить. Я бы и сам с ней сошелся поближе, да случая пока не представилось.
А как Матвей ее знает? В библейском смысле? О’кей, я шучу. Понял? – не реагирует. Говорит: через общих знакомых, маминых. Важное уточнение. Где-то надо на первых порах пожить. Марго – не худший вариант, далеко.
* * *
Какая-то в нем неопределенность, разболтанность. Здесь так нельзя. Необходимо стать частью общества. Приобрести мнения, их отстаивать. Демократия – жуткая вещь, но лучше пока ничего не придумано. Вот, например, реформа медицинской системы. Что Матвей может сказать по этому поводу?
Пожимает плечами:
– Я вроде здоров. С медициной не сталкивался.
А, предположим, замена одного из Верховных судей. Каково его мнение? Однополые браки – разрешать или нет? Опыты с клетками эмбрионов? Чтоб вопросов не возникало: Америка – самая свободная в мире страна. Новый Рим. Тут куется история.
Как он сюда попал, физически?
– На самолете.
Ясно, не вплавь. В смысле – по еврейской линии или как? Отец-то у него никогда не был евреем. Говорит: нет, грин-кард в лотерею выиграл. Объясняю: никакая это не лотерея, берут молодых, с высшим образованием, американцы – не дураки. Иногда возьмут, конечно, старушку какую-нибудь для видимости. Лотерея. Надо понимать, как делаются дела.
Так или эдак – первый и очень важный шаг совершен, он тут. Необходимо теперь шевелиться, двигаться.
– Читайте газеты, разные. Наша цивилизация – проект финансовый в первую очередь и правовой. Приобщайтесь к проблемам, а не то будете жить, не знаю, как в санатории.
Он, впрочем, уже в санатории – у Марго.
Неуверенно говорит:
– Какую-то нам газету подбрасывают.
Представляю себе. Нет, серьезно.
– Не хотите же вы быть неудачником, маргиналом. Извиняюсь за каламбур.
Машет рукой: он сейчас кем угодно согласен быть. Лишь бы – быть.
– Сейчас меня как бы нет.
Романтизм, глупости. Мы все – есть.
Чем Матвей собирается зарабатывать? Пожимает плечами, опять. Когда нет идей в восемнадцать лет, то идут в медицину или в юриспруденцию. Но Матвею – сколько уже? – Двадцать шесть.
Кстати, ведет ли Матвей дневник? Полезная вещь. Только о чувствах писать не надо, чувства неинтересны, они одинаковые у всех. Говорю как специалист. А может, он думает стать журналистом или писателем? Матвею и эту тему не хочется развивать. Странный молодой человек. Разумеется, у такого отца не мог получиться нормальный сын.
* * *
Впервые я оказался в их ленинградской квартире году в семьдесят седьмом по случайному, в общем, поводу: одной девице, существу во всех отношениях легкомысленному, нужен был отзыв или рецензия – сроки пропущены, самой заниматься бумажками невмоготу.
Почему домой? – Он дома работает.
Хозяин – попробуем обойтись без имени – усадил меня в кресло, уселся сам. Нестарый еще человек, но с претензией на эдакую благородную ветхость.
– Дайте-ка, – протянул руку, пальцы длинные, без колец.
Я подал бумаги, он стал читать. Одну ногу обвил другой, винтом. Я так никогда не умел.
Много старых вещей, интеллигентный питерский дом. Темно-красный Ромэн Ролан, коричневый Бунин, зеленый Чехов, серенький Достоевский. Их двойники так и ездят за мной в коробках – после второго-третьего запаковывания я их не вынимал.
Дочитал, вздыхает:
– Нет, этого не подпишу.
– Почему? – спрашиваю.
В конце концов, не мои бумажки.
– Боюсь.
– А чего вы боитесь?
Он пососал дужку очков.
– Как вам сказать?.. Всего.
Этот случай убедил меня лишь в одном: профессиональным стукачом он не был. А ходили такие слухи.
* * *
Кофе, что ли, попить? У меня как-то нет ничего. А Матвей и не голоден. Я рассказываю ему про первую встречу с его отцом. Опуская кое-какие подробности.
– Теперь он уже так не может, – про ноги.
Понятное дело, развинчивается старик.
Касаясь деликатной темы. Тогда все вертелось вокруг одного: органы-диссиденты. Есть что вспомнить. Только все это рассекречивание, открытие архивов – штука опасная, много биографий попортит зазря. Гэбуха ведь тоже халтурила, план гнала. Вызывают, допустим, тебя: вы человек советский?
– Вас вызывали? – спрашивает Матвей.
Вызывали – не вызывали, какая разница? Вызывали. Отвечаешь: советский. Предлагают сотрудничать. Аккуратно отказываешься: простите, и рад бы, но – выпиваю, болтлив. Существовали приемчики. – Они вздыхают. А если узнаете про действия, направленные на подрыв?.. – Сообщу, сообщу. – Помечают: согласен сотрудничать. Без подписки.
Матвей делает бровки домиком, прямо как маленький:
– Зачем вы мне это рассказываете?
– Да так.
Психология – наука экспериментальная. Интересно живые реакции вызывать у людей.
* * *
Плевать на бумажки, не подписал и не подписал. Тем более, отношения с девицей той у меня сами собой рассосались. Через несколько лет я стал у него бывать независимо от девиц. Не мир тесен, хе-хе, прослойка тонка, – так в ту пору шутили.
Трудно сказать, чем он, собственно, занимался. Говорят: человек энциклопедических знаний. А сделал что? – Написал удачное предисловие. К чьим-то письмам. Софья Власьевна разве позволит что-нибудь сделать? Особенно гуманитарию.
Вот он, сидит за столом, произносит внушительно: «Я как выученик академической науки…» – а какой науки? – хрен его знает, поди спроси. На столе настоечки: сам изготавливает, не худшее из чудачеств. Настоечки-водочки, во времена борьбы с пьянством многих из нас от жажды спасли. Вдруг вскрикнет: «Фо па!» – жена рюмку подсунула неподходящую. Но стихов много знал и читал хорошо.
Руки нервные, музыкальные, нижняя челюсть большая: порода чувствуется. У него и кличка была – Дюк, за благородное происхождение. Так и вижу, как он натягивает в воздухе невидимые поводья – «кумир на бронзовом коне» – стихи, стихи. Воленс-неволенс перейдешь на высокий стиль, когда о Дюке рассказываешь.
– В вашем отце, Матвей, погиб настоящий артист.
Опять улыбается нервно:
– Да не совсем.
Не совсем настоящий или же не совсем погиб? И то, и другое, видимо. Заметная фигура была у нас в Питере этот Дюк. Любил все старое, не только стишки – статуэтки, тарелочки, – называл их «пресуществлением духа», про дядю родного рассказывал с гордостью – тот не эвакуировался в войну, боялся: вернется, а квартиру разграбили. «Я не сторонник патефонно-чемоданной культуры», – вот так, помер с голоду дядюшка, но ценности фамильные сохранил.
Монархизм, естественно, юдофобия, но тоже – широкая, необычная: нет, это он не всерьез, эпатаж, старик интересничает. У него ведь жена еврейка. – Кто, Нина Аркадьевна? Нет, Нина Аркадьевна не еврейка.
Вот эту самую Нину Аркадьевну, жену его, третью и, очевидно, последнюю, не могу сейчас вспомнить. Что-то стертое, извиняющееся. Нас – такая была кругом скука! – привлекали личности яркие, с брызжущей, пенящейся духовностью, пусть не без некоторых моральных изъянов. На ней – тихонькой аспирантке – Дюк женился, что называется, как честный человек, тоже передавали шепотом.
Сам он однажды мне сообщил, что в каждый период жизни Бог посылал ему спутницу, наиболее к данному периоду подходящую. Во как, Бог. Это уже, значит, восьмидесятые, самый конец. Раньше мы о Боге от Дюка не слышали. И религию он себе подобрал – с затеями. Не разбираюсь я в этих делах: католик восточного обряда, кажется, или наоборот.
А потом та история всплыла, давняя.
* * *
В сорок девятом году Дюк учился в аспирантуре нашего родного Ленинградского университета имени товарища Жданова. Соображаю: могло так быть?
– Какого года отец? – спрашиваю у Матвея.
– Двадцать пятого.
Да, как раз. И была у них на филфаке группка поэтов – громко сказано – студентов, мальчиков, от семнадцати до двадцати. Филологи, лингвисты, как тогда говорили, – языковеды. Живут себе и пописывают, как бы не замечая, что есть советская власть. Та не любила подобного к себе отношения, с большими была капризами.
Началось с глупости, мелочи, со стенгазеты. Мальчики в нее стишки тиснули. Тяга к экспериментам, безвкусица, все через край, Дюку и некоторым другим не понравилось. А у Дюка – вкус. Импозантный молодой аспирант: любит, умеет выступить, красноречив. И внешность. Дюк и выступил – не в курилке под лестницей, на собрании. Использовал термин «группа»: группа такого-то, по имени старшего и самого плодовитого из ребят. Само так вышло. Группа молодых филологов. В составе шести человек. Между прочим блеснул выражением: «Русский язык – не язык филологов, но язык Пушкина, Гоголя и Толстого». Стенгазету убрали, и всё вроде как успокоилось.
Но через год-полтора мальчиков взяли, всех. «Антисоветская группа такого-то», «группа шести» – как в воду глядел наш Дюк. На следствии мальчики оговорили себя и друг друга, как водится, но основой дела послужило некое заявленьице – Дюка, его. Выступить на факультетском собрании показалось ему не достаточно. Или же испугался: тогда уже, видно, боялся всего. «Жизнь – как рифма, никогда не знаешь, куда заведет», – своими ушами слышал от Дюка. Вот он и написал куда следует – в рифму к сказанному на собрании.
Мальчикам дали по восемь лет, отсидели по пять. Поэтом не стал никто, так что, можно сказать, Дюк оказался прав в смысле размеров их дарования. Об истории своего ареста мальчики помалкивали, до поры. А году в девяностом про это все взяла да и напечатала одна газета, университетская: так сказать, печальные страницы истории ЛГУ.
Дюк ответил письмом в редакцию. Эпиграф придумал: «Всяк человек ложь». Да, писал Дюк, его вызвали, дал слабину, подтвердил показания ребят, те ведь дали признательные показания. Тогда мы не знали того, что знаете вы, молодежь. Следствие велось с применением недозволенных методов, но и он не снимает с себя ответственности. Выступление его – ошибка, трагическая, но и стишки были так себе – удостоверьтесь. Перепутал творческий семинар с собранием, ибо жил – и живет – в мире созвучий, идей, рифм. Между прочим, не раз подвергался гонениям: на очередном таком сборище его самого разнесли за аполитичность – в пух. И главное: теперь, когда ему приоткрылась истина, он себя судит судом своей веры, совести, значительно более строгим, чем суд публичный, общественный. Разоружился – дальше вроде бы некуда.
Но тут уже кто-то из бывших мальчиков не поленился, добыл свое дело и стала гулять по рукам копия заявления – в органы, того самого. Красивый, опознаваемый почерк. Пушкин, Гоголь, Толстой – Дюк и тут порассуждал о классике.
Стыдно нам стало: все же – один из нас. Перестали мы к Дюку ходить, даже настоечки нам его разонравились. А он взял и уехал в Москву. Передавали: ради Матвея, сына.
В Москве встретились – раз или два, на чьих-то похоронах. Дюк охотно ходил на похороны, даже не очень близко знакомых людей. Выглядел бодрым, подтянутым. Говорил у гроба и на поминках, иногда – первым, когда никто не решался начать. Помнится, на похоронах одного поэта высказался в том духе, что не стоит, мол, горевать: поэты всегда умирают вовремя, когда их работа завершена. «Правильно, – заорал один полоумный, тоже из пишущей братии. – Стреляйте, сажайте нас!» Такая история, дикая, но в совке было все через край.
Кажется, я Дюка тогда и видел в последний раз. Он приглашал к себе, но у меня в Москве много друзей. В сто раз лучше, чем Дюк. А потом я уехал в Америку.
* * *
Знает ли Матвей историю ленинградских мальчиков? Без сомнения. То-то фамилию поменял. А поинтересней была фамилия, прямо скажем, чем Иванов. Всё он знает. И как справляется? Любопытно поглубже копнуть, но приходится деликатничать.
Темновато, надо бы свет зажечь. В комнате выключатель сломался, руки никак починить его не дойдут. Мы переместились на кухню, тут окна большие, светло еще.
Неизвестно, пересечемся ли мы опять. Говорю напрямик:
– Надо бы вам простить своего отца. Все кончилось, понимаете? Все прощены одним фактом существования в нашем милом отечестве. У всех у нас рыльце в пушку, как минимум.
Матвей поднимает глаза:
– Кто я такой, – говорит, – чтоб прощать или не прощать? И потом – разве кто-нибудь у кого-нибудь попросил прощения?
И уходит в комнату за своей курточкой.
– Вот из-за этого у вас там никогда не кончится ад, – кричу ему. – А на похороны поедете? Я своего папашу хоронить не ездил. Ни визы, ни денег не было. Как говорится, пусть мертвые хоронят своих мертвецов.
Он уже почти что в дверях:
– Знакомство с Писанием очень способствует, да?
Что за юноша?! Не ухватишь. Но вообще-то он прав: хватит копаться в этой помойке. Поменял фамилию – и проехали.
* * *
Как-то не хочется ставить на этом точку. Я нигде не бываю и люди редко приходят ко мне. Матвей ведь, помнится, шахматами увлекался? Говорит: в позапрошлой жизни. Молодой человек еще, а уже позапрошлая жизнь.
Лежали у меня где-то шахматы. Может, сразимся? Меня и любителем не назовешь: так, могу иногда партийку сгонять. Но с этим юношей счет у меня положительный.
Было ему лет восемь, секция при Дворце пионеров – дебюты, эндшпили – не терпелось обставить взрослого. Я умею выигрывать у таких фраеров – один раз, за счет психологии. И его тогда обыграл. Он фигуры опять расставляет, а я говорю:
– Стоп. Хорошего понемножку. Вторую, и третью, и десятую ты у меня, деточка, может, и выиграешь. Но я их не стану играть.
Он собрался расплакаться: подбородок дрожит, бровки домиком. Но справился, молодец. Я потом с несколькими ребятишками этот фокус проделывал.
Напоминаю ему историю наших встреч – прикидывается, что забыл. Спрашиваю:
– Не хотите ли отыграться? Я достану шахматы, кофе сварю, включу свет.
– Нет, Анатолий Владимирович, пусть остается как есть.
И ушел.
Победитель
Ленинград – столица советских шахмат. Во Дворец пионеров, в секцию, Матвея отводит мама. Здесь учились великие – чемпионы мира, гроссмейстеры: портреты их висят в коридорах, в учебных комнатах, и когда кто-то из них эмигрирует или не возвращается с Запада, портрет убирают. Дети спрашивают у тренера: как вы относитесь к поступку такого-то? – Тот отвечает: как и все вы. – Советски настроенные ленинградские мальчики в начале восьмидесятых почти что уже не встречаются.
На шахматах настояла мама – она в них видела шанс куда-нибудь выбраться, вырваться. Настаивать особенно не пришлось: отец поглощен работой, он мало заинтересован сыном, а шахматы – занятие тихое, Матвей не будет мешать отцу. В шахматы можно играть до глубокой старости, шахматистов стали первыми выпускать из страны, и почти никто из них потом не подвергся репрессиям. Такие вещи учитывались, у всех кто-нибудь да сидел: врач – и в лагере врач, музыкант – везде музыкант, можно освободиться от общих работ, выступать в лагерной самодеятельности. Но способностей к музыке не обнаружилось.
Матвей – умный сосредоточенный мальчик. Отличная память, усидчивость. Тренер их учит разумной расстановке фигур: пусть фигурам будет комфортно.
– Заботьтесь о них, как о близких родственниках.
Всех родственников у Матвея – отец и мать. Еще братья от первых отцовских браков, про братьев он узнал с опозданием, и когда, наконец, познакомился с ними, уже очень взрослыми, с собственными женами и детьми, то братских чувств к ним не испытал. Больше того: показалось, что братья могут обидеть маму. Готовность к хамству, агрессии, что-то такое он в них угадал.
Хотя интуиция, умение угадывать, у Матвея как раз не слишком сильна. Дебютам, игре в окончаниях – учат, а интуиция – есть или нет. Матвей выигрывает способностью к счету вариантов, удивительной для ребенка: хорошо считает за обе стороны, всегда находит за противников самые точные, осмысленные ходы, это умеют немногие. Но считает и много лишнего, попадает в цейтнот.
– Интуиции не хватает, поэтому, – говорит его тренер.
Был ли он прав, или Матвею недоставало чего-то еще, столь же трудноопределимого, особой какой-то шахматной гениальности, но к концу школы становится ясно, что в его развитии имеется потолок, который, конечно, еще не достигнут – кандидат в мастера, Матвей ездит уже по стране, занимает призовые места, – но скоро, скоро он остановится.
Хороший ремесленник, вот он кто. Не быть Матвею гроссмейстером, путь закрыт. А он в этом славном сообществе не потерялся бы. Гроссмейстеры – люди со вкусом в отличие от многих спортсменов. Особенно любит он наблюдать, как, закончив партию, они не уходят, а обсуждают, анализируют, шутят, улыбаются тем, кому только что противостояли в течение многих часов. Как желал бы он быть в такие моменты одним из сидящих на сцене – лучшие, самые лучшие в выбранной ими профессии! Замечательное сообщество – поверх государственных, национальных границ. Как великие музыканты, как математики.
Вот-вот, говорят, тебе бы быть математиком. Но способность к устному счету в этой науке давно уж не ценится. Нет, это был бы ошибочный ход.
Кончилась школа, и занятия шахматами подошли к концу. А потом вдруг была Москва – длинный, неинтересный сон. В конце которого Матвей поменял фамилию, выиграл вид на жительство в США и уехал. Тут, в Сан-Франциско, ему предстояло очнуться, ожить, но он попал – верно сказано – в санаторий, к Марго. Сон продолжился, хоть и стал намного приятнее. Но сон он и есть сон.
* * *
Марго приходит в его комнату каждый вечер – пожелать Матвею спокойной ночи. Какие-то мази у нее изысканные, она из-за них становится солоноватой на вкус, ему нравится. Не нравится – положение в их доме: муж ее с крепким рукопожатием, пожалуй что, слишком крепким. Муж вроде бывший, бояться его не следует, но бывший ли? Он подолгу отсутствует по своим делам, его дела не заслуживают даже презрения, никаких дел в глазах Марго нет. Но, однако, когда он дома, Марго не заходит к Матвею в комнату, ночи в самом деле оказываются спокойными. Так бывший муж или нет? – Нельзя спрашивать, нельзя портить, – даже не говорится, подразумевается – разные бывают, как лучше сказать? – arrangements, commitments – договоренности – жизнь длинная, то ли еще увидишь, мой дорогой.
Марго любит разнообразие: плавание в океане, всегда холодном, она уверенно плавает – ну же, не бойся – сейчас они искупаются, сделают по глотку коньяка и она научит Матвея есть устриц: чуть-чуть перца, лимон, никаких соусов – наука несложная.
Кроме набора писателей, вывезенных из России, огромных альбомов художественной фотографии и всяких эстетских штук в доме есть множество книг с дарственными надписями от авторов, в частности Art de vivre – от друга-психолога: той, без кого моя книга не увидела б свет. Он вспоминает этого друга – специалист по искусству жить, странный, с тяжелым взглядом – стоит читать? – Нет, конечно же. – Он говорил про отца. – Марго просит: забудь, он человек, ушибленный эмиграцией, несчастный, даже опасный в иных обстоятельствах, все забудь.
Собственный ее отец, кстати сказать, был поэтом, сидел. «А…» – отмахивается она на просьбу что-нибудь из него почитать. Он давно умер. Они и не жили вместе. Не помнит она ничего наизусть, это у Матвея – память. Прошлого нет. Нету и будущего, есть только то, что есть, – настоящее, вполне хорошее, не правда ли? А Матвей, она видит, чего-то хочет добиться, с кем-то счеты свести – для нее, для Марго, этого нету вовсе, ее не привлекает результат – то-то детей и нет, говорят недоброжелательницы, – Марго любит процесс, процесс жизни. Сан-Франциско с окрестностями – место для этого идеальное. Здесь нет истории – вечно отягощающего, тянущего назад: состояния, сколоченные в прошлом веке на золоте, в нынешнем – на компьютерах, плюс пара землетрясений, не считать же это историей.
* * *
Они заехали в этот клуб, дом, неважно – Memorial – тут дают невообразимый крабовый суп. Матвею попадается на глаза объявление: скоро у них состоится турнир по шахматам. Каков призовой фонд? Даром, как известно, только птички поют. Он часто цитирует, хоть и борется со своей привычкой – она у него от отца. А Марго нравится, она воспринимает его рифмованную веселость как заигрывание, как ласку, как часть ухаживания за собой, она живой человек, у нее есть не только ощущения, есть чувства, жалко, что он мало воспринимает: занят устройством своим в Америке, мыслями об отце, прошлым, будущим. Когда же они поймут, что нет никакого прошлого-будущего, есть – только то, что есть: крабовый суп – да, смешно, – суп, но еще – вечер, огоньки от моста отражаются в океане, запах водорослей – на же, вдыхай его, не рефлексируй – живи, дыши.
Он обдерет их и заработает денег. Дайте ему телефон. У них как раз нечетное число игроков. Ланч, гостиница и совместные увеселения не требуются. Не одолжит ли Марго ему тысячу долларов? – взнос в призовой фонд. – Конечно. А что, он играет в шахматы?
Вечером запирает дверь – чтоб Марго не зашла, пока он звонит матери. В Москве утро. Как отец? – Вот, бульона поел. – Он злится на мать – что еще за бульон? Словно разделяющее их пространство обязывает говорить лишь о жизни и смерти. Что он хочет узнать? После той, большой, новости – операция хоть и показана, да только вас никто не возьмет, – больного и его близких ожидает множество мелких радостей: бульона поел, дошел до уборной самостоятельно, попросил почитать ему вслух. – Что, приехать? – Нет, – просит мама, – не приезжай пока. – Отец догадается, что Матвей явился его хоронить.
Подготовка к турниру сводится к изучению партий последних лет – вот уж не думал он возвращаться к этому. Жалко, даже в библиотеке книг нет по-русски: шахматы – редкая область, где мы все еще впереди. Матвей догадывается об уровне тех, с кем предстоит играть, но, мало ли, объявится жадный до денег какой-нибудь его соотечественник. Единственным русским, однако, оказывается сам Матвей.
Сильный соперник достался ему в первом туре. Часы пущены, партия началась, у Матвея белые. Матвей надолго задумывается, опускает руки под стол, унимает дрожь: он не притрагивался к фигурам уже восемь лет. Крепыш Дон играет добротно, честно, в том же духе, что сам Матвей. Почти уравнял и, если б считал лучше, не напутал в вариантах, то сделал бы ничью – долго казалось, что у черных не хуже.
Матвей играет первую партию, не поднимаясь со стула. После победы – воодушевлен, голоден, за еду и прочее им не плачено, никто бы не возражал, но неловко их объедать. Марго за ним заезжает, везет обедать, она не знала Матвея таким деятельным, живым. Но во втором туре он уже легко побеждает соперника, следит за игрой на соседних столиках и чувствует себя хищником в обществе оранжерейных птиц.
Романтические шахматы. Дебютная подготовка джентльменов кончается к пятому-шестому ходу. От одного из них – по имени Алберт А. Александер, которого здесь называют послом, – внезапно пахнуло чем-то домашним, родным.
– Аве, Цезарь! – воскликнул посол перед партией. – Идущий на смерть приветствует тебя! – По-латыни, естественно. Morituri te salutant, – такую латынь знают все.
Посла он разделал в пух. Особенно и стараться не надо было: тот начал вычурно – староиндийская белым цветом – и несколькими ходами создал себе позицию, которую нельзя удержать. Вот, хитро взглянув на Матвея, посол подвигает пешку – ешь. Пешка отравленная, у Матвея не третий разряд. Необдуманные наскоки там-сям, покушения с негодными средствами – это уже не романтика, а неряшливость. Старый индюк имел даже наглость предложить ничью. Наконец, совершив свой последний бессмысленный ход, посол поднимает руки, склоняет голову, в знак капитуляции останавливает часы.
На вечерние их разборы Матвей не ходит: сами, сами пусть, выше сил – изображать из себя гроссмейстера.
К слабоумному Джереми он шел с намерением проиграть: задуматься на пятьдесят минут, потом еще – и просрочить время, но предложил ничью – не во всем надо быть первым. «Умеренность – лучший пир», – любил повторять отец.
* * *
Плохо ему, задыхается, теперь пора, мама говорит – он уже ногу на ногу положить не в силах. Спираль распрямилась, расправилась. Матвей уехал бы: победу в турнире он себе обеспечил за несколько туров до окончания, но что будет с призом? Это жлобье может зажать его деньги. Не жлобье, конечно, Марго права: что плохого они ему сделали?
Всё, деньги Матвей получил, наутро – лететь. Билет Сан-Франциско – Нью-Йорк – Москва с открытыми датами куплен давно. Марго в последний раз заходит пожелать ему сладких снов, и несмотря на то, что муж дома, проводит ночь у Матвея в комнате.
Рано утром она его отвозит в аэропорт. Целует дольше и энергичнее, чем когда прощаются ненадолго. Ух, как он будет желать потом вот такую Марго! А она никуда не денется – приезжай, ешь-пей, живи, экспериментируй! Марго – вечная, не твоя и всегда твоя, ничья.
Заходя в самолет – посадка несколько задержалась, – он замечает в салоне первого класса двух недавних своих соперников. Дональд и этот, противный, посол. Самолет разгоняется и взлетает, Матвей глядит на залив.
Он улетает как будто бы ненадолго: умирание отца и похороны – сколько это займет? – неделю, месяц? – но в Калифорнию не вернется. Тут он жил как-то вскользь, по касательной. Вот помыл бы машины, что-нибудь поразвозил, переночевал бы несколько раз на улице – глядишь, и возникло б сцепление с жизнью, а так – действительно, санаторий. В следующий раз он поедет в Нью-Йорк или лучше – куда-нибудь в глушь, поработает развозчиком пиццы, драться научится. Драться ему всегда хотелось уметь, но не настолько, конечно, чтобы идти в армию. Дома считалось, что переезд в Москву в свое время и был затеян, чтоб в нее не идти. Вранье.
Он помнит, тогда, по дороге в Москву, отец его спрашивал: «Фемистоклюс, скажи, какой у нас лучший город?» Следовало отвечать: Петербург. Отец продолжил игру: «А еще какой?» Он кивнул: Москва. Отец любит Гоголя. Но Матвей уже догадался, что переезд их – это побег, не настолько плохо у него с интуицией.
* * *
В Москве они поселяются в меньшей, конечно, квартире – уровень жизни здесь выше, чем в их родном, опять поменявшем название, городе, – но живут тоже в центре, в Замоскворечье, жить полагается в центре. Отец осваивает роль московского барина, снова пущены в ход настоечки – способ привлечь гостей, но никто как-то не привлекается.
На душе у Матвея тухло, темно. Исподволь возникает ИнЯз, языки всегда ему хорошо давались, вечерами Матвей переводит с английского, самую разную литературу, по большей части эзотерическую. То там, то сям возникают группки людей, воспламеняются, гаснут, издательства появляются и исчезают. Сроки, сроки! – торопят заказчики. – Да не вникай ты так! Если чего-то не понимаешь, включи фантазию. Платят порциями – иногда неожиданно много, а то совсем не заплатят или задержат оплату на год.
Как многие люди, связанные с издательствами, переводами, Матвей играет в слова, в центончики-палиндромчики. Пробует сочинять и серьезное – чтоб заполнить в себе дыру, пустоту, он догадывается, что это не может служить основанием для сочинительства, и серьезное пока что не получается. К счастью, хватает терпения никому свои опусы не показывать, да, в общем, и некому, близких друзей так и не завелось. Ничего, когда-нибудь, может быть, а пока – надо увлечься иностранными языками, учебой, стать переводчиком.
Языки – тоже шанс куда-нибудь вырваться. Мама, особенно на первых порах, пробует его оживить: смотри, Матюш, какая хорошая осень в Москве, у нас такой не было, листья, помнишь, маленьким, ты любил ходить по ним, делать «шурш»? Река здесь, конечно же, никудышная, зато растительность – другая, чем в Ленинграде, – богаче, южнее, смотри! И солнца больше, тебе ведь нравится солнце. Но с мамой они оказываются вдвоем лишь изредка – в Москве она почти неотлучно уже при отце.
Отцу под семьдесят, успехов, разумеется, никаких, он понемногу распродает вещи – картинки, блюдечки, отец любит предметы старого быта, подлинной материальной культуры – и читает лекции для молодежи: общество «Знание», пережитки СССР.
В речи отца возникают новые для него словечки: «посюсторонность», «внеположенность» – он хочет нравиться молодежи. Молодежь какая-то, удивительно, ходит послушать лекции, но слушает не вполне так, как хотелось бы лектору:
– Нина, они на меня смотрят, как на старушку с ясным умом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































