Текст книги "«Люксембург» и другие русские истории"
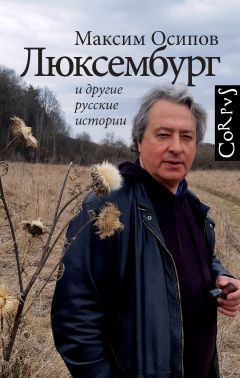
Автор книги: Максим Осипов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 35 страниц)
Люксембург
повесть
Не люблю похорон (кто ж их любит?), но – школьный товарищ зовет – надо идти. Мы привыкли к покойникам, особенно из начальства (хоть бы уже оно перемерло совсем!): нас, студентов мединститута, сгоняли в начале восьмидесятых изображать всенародную скорбь – то по Косыгину с Сусловым, то по маршалу Гречко, – забыл хронологию и путаю чуваков. Но тогда это даже, по правде сказать, забавляло: прочие граждане в холод и зной машут флажками по сторонам Ленинского проспекта – Густав Гусак к нам прилетел, то-то счастье, – а мы – в Колонном зале Дома Союзов постоим пятнадцать минут под Шопена или, не знаю, Чайковского, с постными лицами – и свободны, лишь бы не выкинуть какого-нибудь непотребства, не оскоромиться, не заржать. Покойники шли косяком, иногда по нескольку за семестр, так что завелся у нас обычай: по дороге в Колонный зал заворачивать то в шашлычку на Герцена возле консерватории (и сейчас люблю в ней бывать), то в стекляшку против Кремля (теперь там этот уродский памятник), то – не помню куда. На прощание с товарищем Пельше нашу компанию не допустили совсем: дали мы волю эмоциям, помянули как следует, – ничего, похоронили без нас. Впрочем, речь не о Пельше и не о глупой нашей советской юности с ее однообразными развлечениями, речь – о Саше Леванте, старом моем товарище. Знакомы мы с ним со школы, с двенадцати лет, его и моих, и хотя подолгу не видимся, меня он считает другом, иначе б на похороны Марии Ильиничны, своей матери, не позвал.
Смерть ее меня поразила лишь в том отношении, что я не знал, что она была до сих пор жива. Качество прожитой жизни измеряется в первую очередь тем, сколько людей явилось проститься с тобой (добровольно, начальство не в счет), но матери Саши исполнился, шутка ли, сто один год, в таком возрасте не бывает уже ни живых сослуживцев, ни старых подруг. А бывает вот так: морг городской больницы, траурный зал, священник что-то бубнит – не особенно разберешь – и мы с Сашей, со свечками. Саша время от времени крестится (новое в нем), я смотрю главным образом в пол, воск разминаю пальцами. К чему расписывать? – все бывали на подобных похоронах: старушка мертвая, цветочки мертвые, все мертвое. Священник – вдвое моложе нас, но тоже полуживой, – вдруг разразился речью минут на десять. Послушаешь, так Мария Ильинична умерла оттого, что мы с Сашей редко в церковь ходили. Кто б спорил, да только какой с меня спрос? – я некрещеный, неверующий, работаю всю свою жизнь психиатром в Кащенко, всякого повидал и в бессмертие души не верю. Саша шепнул: «Нерастраченный дидактический потенциал», – о попе. Ладно, проехали.
Потом мы ее загрузили в автобус, мужички помогли. – Не говорите нам «до свидания». – Тоже мне, ангелы смерти. Успокойтесь, знаю я ваш этикет. Вот чего я не знал, что покойница была выкрестом. Спросил Сашу. – Нет, говорит, мама русская, урожденная Котова. По первому мужу, Сашиному биологическому отцу, – Гусева, и лишь по второму – Левант. Поди ж ты, я думал, что Саша наполовину еврей, очень уж Мария Ильинична была на еврейку похожа. Многие люди из культурного слоя приобретают семитскую внешность на старости лет, а Сашина мать со времен нашей юности была уже сильно немолодой. Взгляды у меня широкие, либеральные, но национальный вопрос я обойти стороной не могу. Так уж от детства пошло: когда будь ты хоть трижды гением, туда и сюда тебя не возьмут, когда в школьном журнале указывают национальность родителей и даже слово «еврей» вроде как неприличное, волей-неволей к подобным вещам пробуждается интерес.
Крематорий с его убогой роскошью описывать незачем – кто не видел, не потерял ничего: скоро по всей Москве наведут подобную красоту.
И вот мы мчимся в такси: избавились от покойницы и – быстрее, быстрей – на Пятницкую, в ресторан. Хочется себя ощутить живым – пить, есть, разговаривать, двигаться. Стараюсь скрыть свое оживление от Саши, но и он, по-моему, не собирается демонстративно скорбеть. Смотрю на него – Саша, что называется, в фокусе: хотя и полуседой, но красив. Я не мастер описывать внешности, цвета глаз не помню у собственных жен и детей, помню зато другое: Сашин почерк, к примеру, – писал он левой рукой (по тем временам – необычно, левшей заставляли правой писать), быстро-быстро, мелкими ровными буквами, почти что печатными, будто специально, чтоб было удобнее списывать, – он позволял. Пятерки по всем предметам – был бы он комсомольцем, получил бы медаль, способности к точным наукам – не гениальные, но очень и очень хорошие: надо идти на мехмат.
В школе нашей в те годы был развит своеобразный национальный спорт: сначала попробовать в МГУ или аналогичные учреждения вроде МИФИ или, не знаю, МФТИ – там экзамены раньше, в начале июля, а затем уж туда, где нашему брату не то чтобы рады, но, в общем, берут. «Вы, разумеется, не поступите, но кровь им попортить обязаны», – любил повторять учитель спецматематики, его посадили потом за антисоветскую агитацию, дали максимум – семь плюс пять. Идти в те места, где тебя не хотят (на мехмате валили с особой жестокостью), считалось нормальным, мало кто себе позволял быть гордым в семидесятые. И вот сидит мальчик, кудрявый, умненький, напротив антисемиты-экзаменаторы, подбрасывают задачки одну за другой, со всесоюзных, международных олимпиад, мальчик решает их (задач хоть и много, но они повторяются, у нас всю школу ими обклеивали по весне: дети, смотрите, что предлагалось в прошлом году на устных экзаменах в университет), снаружи – родители, учителя, помогают подать апелляцию, кто-то – я, например – просто так приходил поглазеть, за ребят поболеть.
Мне-то с моими данными путь в математику был заказан – не из-за пятого пункта в паспорте, не только из-за него. «Не позорь нацию», – никто мне так прямо не объявлял, но и без слов было ясно. Случались, однако, забавные происшествия: помню растерянного черноволосого паренька, старше нас с Сашей на класс – он по третьему разу просматривал список зачисленных и не находил в нем себя. В глазах у него и в голосе были слезы: я не еврей! – Что ж, старичок, сочувствуем, внешность обманчива, лес рубят – щепки летят. – Пойду к Льву Семеновичу! – скулил он. – Лев Семенович различает евреев на нюх. – Кто такой Лев Семенович? – о, академик, великий ученый – алгебраическая топология, вариационное исчисление, слышали? – с детства слепой, не потому ли столь развито обоняние? Выдающийся был человек во всех отношениях – зачислили паренька.
Нет, Саша в МГУ не пошел, и пытаться не стал. Будто бы документы подать не успел, паспорт посеял, но как-то нам слабо верилось. Теперь же, в свете того, что он рассказал про Марию Ильиничну, выходило, что и по крови он – помесь Гусева с Котовой. Кто б мог подумать: Александр Яковлевич Левант, записан евреем, а сам не еврей – другого такого, может быть, на всем свете нет! Похож на еврея, главное. Я прямо разволновался: отчего он раньше молчал? – тоже мог бы сходить к Льву Семеновичу. Понятно, не каждому по душе, когда его обнюхивает академик. Саша в итоге окончил какой-то невнятный вуз (одно в нем было хорошее – военная кафедра), выучил несколько языков: английский, немецкий, даже латынь, кажется. Зарабатывал переводами. При всем том двигал им не дух времени, а даже не могу сказать что. Не все замечали, но я замечал. Страсти было в нем маловато, наверное, но ни в ком из нас не было страсти, кроме упомянутого учителя математики. Опыт жизни в СССР затем лишь и нужен, чтоб жить в СССР: да, узнали много нелестного – о себе и о людях вообще, но к чему нам оно, это знание?
Вспомнил, как вытянулось лицо исторички нашей, идейной дуры, когда четырнадцатилетний Саша ей заявил, что в марксизме нету антропологии – мы даже не попытались узнать, что он имеет в виду, – в гробу мы видали марксизм, кто эту хрень принимает всерьез? И чтобы покончить с национальным вопросом: если еврей себя держит с достоинством, то обязательно с вызовом, это нам часто ставят в вину. Вот чего в моем друге не было – вызова. Ясно теперь почему.
Заказали еду, выпили – за светлую память Марии Ильиничны. Саша пьет мало – меньше, чем я, мата не любит – тоже немного мешает общению. Про выпивку мне еще в школьной характеристике написали: «Подвержен влиянию более сильных товарищей», – глупо звучит, кто не подвержен влиянию? На том языке, советском, это, однако, значило: курит и выпивает как минимум. Но в медицинский приняли, не обратили внимания. Говорю ему: ты, Саш, крещеный, я и не знал.
Выясняется: в школе, в самом конце, Саша крестился, никому из нас не сказал. Вопрос, конечно, бестактный, но – с какой радости? Начитался Булгакова, переслушал Ллойда Уэббера? (Все мы в девятом-десятом классах слушали и смотрели «Джизус Крайст суперстар» – с красивыми женщинами, гибкими быстрыми неграми, хипповатыми белыми – окно в несоветский, свободный мир.) Саша повел головой: не спрашивай. Про крещение свое рассказал матери. Та отозвалась неожиданным образом: «Вот и дурак». В раннем детстве, оказывается, Сашу дважды успели крестить – няньки, деревенские женщины, тайно, обе признались Марии Ильиничне. Трижды крещеный Левант – ошалеть.
Ели с большим аппетитом, не забывая, однако, зачем собрались. Саша кое-что рассказал мне о ней, дал посмотреть фотографии. Да, большой была красоты женщина в молодые годы, лицо действительно русское, даже дворянское, я бы сказал. И биография героическая, особенно на первых порах.
Такой эпизод: ей тридцать лет, она улетает из Ленинграда в самый разгар блокады, ее раз за разом туда отправляют для подготовки эвакуации какого-нибудь завода или научного института. В самолете, военном, конечно, – только она и десяток мужчин. Бьют зенитки, самолет бросает из стороны в сторону, и у одного из военных нервы сдают: после благополучного приземления он бежит в панике – в немецкую сторону. Один из попутчиков Марии Ильиничны вытаскивает пистолет и расстреливает паникера, а она – как ни в чем не бывало, готова к новым заданиям.
Всю войну, говорит Саша, мать курила махорку, перемешанную с гашишем, – чтобы работать круглые сутки, не расслабляться, не спать. – Странно, гашиш именно что расслабляет. – Так он запомнил. Целые дни Мария Ильинична проводит на железнодорожной станции под Свердловском, в одном кармане – незаряженный револьвер, в другом – разрешение снимать с проходящих составов любые стройматериалы. К такой-то дате силами эвакуированных надо построить завод – с нуля, и завод должен делать снаряды. Будут снаряды – будет орден Красного Знамени, не будет снарядов – не стоит и объяснять, что случится затем, – так функционировала экономика. Очевидно, завод построили – иначе и Саша бы не появился на свет.
А появился он следующим образом: в пятидесятых Мария Ильинична работала в Восточной Германии – отсюда хорошее знание немецкого языка и много старой тяжелой мебели у них дома, – и был у нее мимолетный, как она думала, роман с человеком по фамилии Гусев, он у нее в отделе служил. Гусев, однако, был увлечен всерьез – настолько, что сам на себя и свою возлюбленную накатал донос: так, мол, и так, внебрачная связь – неприемлемый для совслужащих вид отношений, тем более за границей. – Интересный способ сделать женщине предложение, я про такой не знал. Это бабы как раз обманутые любили писать в местком.
При всем том мать вспоминала те годы как лучшие. Жизнь в Восточной Германии была относительно благополучной – не то что в Западной. Были хорошие немцы, восточные, и они на какое-то время попали в руки плохих. Пришли русские и освободили их – вся история.
Между тем брак с подчиненным, беременность, а главное, скорый развод (для коммунистки – страшнее сожительства) положили конец служебному росту Марии Ильиничны. Какие-то министерства и комитеты, командировки – не дальше Прибалтики, и все закончилось персональной пенсией. К тому же в шестидесятых она стала Левант – какой уж тут рост? Да и с годами начала все больше себе позволять – размашистая была женщина: как-то раз, например, посреди спора с мужем (хотела ему доказать, что к евреям у нас относятся, как ко всем остальным) собственноручно зачеркнула у себя в паспорте «русская» и написала «еврейка» – на, полюбуйся, и ничего мне не будет, – несколько лет с таким паспортом и жила.
А вспомнить что-нибудь трогательное? – поминки ведь как-никак. Саша задумался. – Мама умела произвольно чихать. Перед тем как уйти из гостей, особенно не из самых приятных, объявляла во всеуслышание: «Пойду прочихаюсь», пряталась в дальнюю комнату и чихала, раз тридцать подряд. – М-да, немного же было в Марии Ильиничне трогательного.
Спросил, что он думает делать с прахом.
– В Люксембург отвезу.
Это я понимаю – размах! Оказалось, не понимаю: небольшой городок, на восток от Москвы, полтора или два часа электричкой, дальше автобусом. Назван, ясное дело, в честь пламенной революционерки Розалии Люксембург (кстати, польской еврейки). Не слыхал про него, но мало ли. Саша сказал, что там хорошо – ему хорошо, и он подумывает туда перебраться. Ох, опасаюсь я хождений в народ, еще и с такой фамилией, поаккуратнее там, но – желаю удачи, мы-то все больше поглядываем в противоположную сторону.
Стало быть, Люксембург. Она там хотела быть похороненной? – Нет, никаких пожеланий на этот счет мать не высказывала. Не говорила о смерти, не думала. И в загробную жизнь не то что не верила, а не особенно интересовалась ею. Там, в Люксембурге, похоронен Яков Григорьевич, а больше в семье их никто и не умирал.
Мы опять выпили: за память Якова Григорьевича, отчима, симпатичного человека, совершенно, видимо, не похожего на Сашину мать, затем помянули умерших учителей, выпили и за школу в целом, за то, что она не пыталась стать нам семьей – такое бывает со специальными школами, и не только со школами.
Зачастую людьми на поминках овладевает веселость, ни с того ни с сего. Официантка (с изумительной попой, к слову сказать) отчетливо произнесла в телефон: «И что она в нем нашла? Ни спорта, ни тела, ни воспитания», и мы засмеялись, не слишком скрываясь. Она обратила на нас внимание:
– Как вам бефстроганов?
– Многовато соли, – ответил я ей, – а так ничего.
Пожала плечами:
– Я ела, мне норм. – Собрала пустые тарелки, ушла.
Мы опять засмеялись. Я помахал рукой, вернул ее, заказал коньяку.
Саше пришло сообщение, длинное, он углубился в него. Телефон лежал на столе, и я грешным делом прочел кусок фразы: «Только с уходом матери становишься поистине взрослым». Саше, кажется, не пять уже лет, чтоб хотеть поскорее стать взрослым. Такое, конечно, могла написать только женщина. С другой стороны, сочувствие, пускай нездоровое, много лучше, чем здоровое его отсутствие. Между прочим, у Саши жена была, где она? – он молчит, и я постеснялся спрашивать.
Вышел на улицу покурить, поглядел, во что превратили Пятницкую: бордюрчики, плитка, здоровенные фонари – нездешняя красота, немосковская. Все равно я люблю Москву, у меня своего Люксембурга нет. Посмотрел сквозь стекло на Сашу: он отложил телефон и находился в задумчивости, естественной в такой день. Саша заметил меня, улыбнулся беспомощно. Я вернулся к нему.
– Помнишь, что такое «папирусный плод»? – спросил Саша вдруг.
Что-то из акушерства, забыл. Чего вы хотите от психиатра отечественного разлива? Я и экзамен по акушерству тетке родной сдавал.
– Папирусный, он же бумажный, пергаментный плод, встречается при однояйцевых двойнях, – быстро, как на уроке, проговорил Саша. – То, что случилось со мной при рождении, точнее – с братом моим.
Иными словами, в утробе Марии Ильиничны находилась двойня, и Саша брата своего раздавил, расплющил по стенке. Пока Саша рос и вес набирал, брат его истощился, погиб, превратился в кусочек пергамента, в мумию. Обо всем этом он сообщил как бы наспех, чтобы отделаться поскорей. Не будь оба мы, особенно я, в подпитии, Саша не стал бы рассказывать. Я испугался: такие признания могут любую дружбу похоронить.
А откуда об этом известно? – Матери – от акушерок, естественно, нянькам – от матери, зачем-то она рассказала им, Саше – от нянек, от материных приятельниц, сослуживиц, да ото всех вокруг. Подробностей он тогда, разумеется, знать не мог, никто вот так прямо ему ничего не рассказывал, но по намекам, многозначительным взглядам догадывался, что братоубийцы – не только Каин или там Святополк (добавлю: и равноапостольный князь Владимир – тот еще фрукт), но также и он, Сашенька. А когда уже мать начала говорить правду – лет десять назад, – ничего, кроме правды, только держись, тут-то Саша наслушался всякого, в том числе про папирусный плод.
Наверняка он себе много раз повторял, что вины его – злого умысла – в происшедшем нет, но никому конечно же не хотелось бы жить с подобным пятном в биографии, с родовым – буквально – проклятием. Ясно, зачем понадобилось крещение. Помогло? Был бы мой друг понаивнее, можно было б налить ему в уши какой-нибудь психологической лабуды в духе «ты сам себя должен простить», а так – что я скажу? Хреново, не повезло. Прямо греческая трагедия. Саша махнул рукой: чего уж там. А по поводу правды – знаю я этот тип старух: они, может быть, из ума и не выжили, нет, но по возрасту вполне бы могли, и перед ними открывается перспектива – врать что взбредет в голову, и никто слова не скажет им поперек.
Мы еще поболтали о разном, случайном, выпили, но вскоре обоим нам стало понятно, что сил продолжать нет. Пока Саша расплачивался, я попросил перелить коньяк из графина в бутылку – с собой унести, не пропадать же добру, – и официантка, поглядев на меня выразительно, это проделала.
Вышли наружу, и я не удержался, спросил:
– А что с… – и запнулся, идиотизм: забыл, как звали жену его – мы и виделись с нею мельком и всего только несколько раз. Оля? Юля? Помню, была она очень смешлива, и когда смеялась, рот прикрывала рукой. Еще у нее сильно краснели щеки и лоб.
Саша ответил по-своему замечательно:
– Она развелась.
Надо думать, покойница допекла – я не стал выяснять подробностей, Саша и так рассказал мне больше, чем ему, вероятно, хотелось бы. На прощание обнял меня (между нами этого не водилось).
– Что ты, Саш, за такое не благодарят.
Он улыбнулся, пожал плечами:
– Почему, собственно?
И мы разъехались в разные стороны.
I
Вначале пропала роза. Вернее, вначале он ее посадил, а еще раньше похоронил мать, сдал квартиру в Москве, перебрался в этот несчастный Люксембург, заказал для матери памятник и тогда уже посадил розу.
План переезда сложился в те несколько дней, что предшествовали похоронам: прежде он не позволял себе думать, как будет «потом». Из книжки бесед на нравственные темы, которую ему пришлось однажды переводить, он узнал, что любить человека – то же, что сказать ему: ты никогда не умрешь, и запретил себе с той поры строить картину мира, где нет его матери. Люксембург же, точней – небольшой дом у края поселка (две комнаты, кухня, прихожая и захламленная мансарда – чердак с окном) достался ему по наследству – от Якова Григорьевича Леванта, отца, отчима – Саша всякий раз путался, не знал, как его называть, и в итоге привык обходиться без указания родства. Мать звала его Яшкой, не уважала его («Яшка и дня не работал»), но Сашу не ревновала, не мешала их близости.
Вот для того, чтоб любить Якова Григорьевича, книжек читать не пришлось: он был человеком веселым, считал, что веселость – в некотором роде обязанность, просто не у всех получается. Яков Григорьевич повстречался с матерью, кажется, на концерте, а может быть, просто в трамвае или на улице, влюбился в нее и увел у Гусева – это было нетрудно, тот уже сильно остыл, – а почему согласилась она, непонятно, – Яков Григорьевич утверждал, что дело в фамилии: разве есть фамилия красивей, чем Левант? Прожили вместе несколько лет, в частых ссорах, а потом развелись, так же просто, как и сошлись, и Яков Григорьевич возвратился к себе в коммуналку. С пасынком виделся по воскресеньям, в кафе-мороженом «Космос» в начале улицы Горького. Яков Григорьевич любил музыку, особенно фортепианную, – не только, как все в его поколении, Шопена, но также Скрябина, Метнера, – любил и оперу, даже джаз, трубку курил, фотографировал, рисовал. К еврейству своему относился с иронией, как к забавному недостатку, который, однако, освобождает от ряда забот, в частности от карабканья по социальной лестнице. Он и к антисемитам относился с иронией: «Две вещи не перестают меня удивлять…» – так он начал однажды, но Саша читал и про звездное небо, и про закон внутри нас, и поторопился закончить цитату. Яков Григорьевич рассмеялся: «Меня удивляют другие две вещи – почему они так любят водку и так не любят нас». (Сам он пил водку лишь изредка, чаще ром.) В графе «профессия» Яков Григорьевич указывал «изобретатель», но работа не слишком занимала его. Во время войны он все-таки что-то важное изобрел – настолько, что получил бронь, не попал на фронт, но главнейшее изобретение его как раз находилось тут, в Люксембурге, неподалеку.
В начале семидесятых Яков Григорьевич выхлопотал себе место на старом кладбище, уже тогда в Люксембурге их было два, и стал наезжать сюда – много чаще, чем можно было бы ждать от легкого, веселого человека, нестарого. Установил плиту из белого камня, местного известняка, нанес надпись – имя, фамилию, год своего рождения и легкомысленную эпитафию: «Все хорошо, что хорошо кончается». Изобретение же состояло в следующем: внизу, у фундамента, была спрятана кнопка – нажмешь на нее и можно отодвинуть плиту, забраться в тайник. Защищенный от влаги и даже от сильного холода, тайник позволял хранить целую библиотеку: от произведений, которые по официальной классификации назывались ущербными (стихи Гумилева, «Прогулки с Пушкиным», кустарные переводы Орвелла), до настоящей антисоветчины («Архипелаг», «Хроники») – с седьмого класса кафе-мороженое уступило место поездкам на кладбище в Люксембург, ничего счастливее тех поездок в Сашиной юности не было.
Он сидит за столом, читает «Окаянные дни» Бунина, на столе – чай, ром, остатки еды – то немногое, что они могли приготовить, Яков Григорьевич (отец, конечно отец!) следит за меняющимися выражениями лица мальчика, или читает что-то свое – как уж он пополняет библиотеку, не надо спрашивать, или слушает «Голос Америки», затем они уже в темноте снова идут на кладбище, возвращают книги на место, затем автобусом, электричкой едут в Москву. В электричке Яков Григорьевич громко поет, привлекая внимание публики, Саше делается неловко, хочется отойти, пересесть. «В краю святом, в далеком горнем царстве… Граждане пассажиры, – объявляет Яков Григорьевич нараспев, – это мой сын. Сынок, ты куда? Садись». Полупустая подмосковная электричка, воскресный вечер, подвыпивший пожилой еврей – у попутчиков его поведение не вызывает протеста, такие уж им в тот вечер попутчики подобрались. Больше того, один из них садится напротив и произносит несколько слов – смесь русского с идиш: азелхер йингеле – какой мальчик, благословение Божие! – Якова Григорьевича это очень, кажется, тронуло. «Евреи ужасны, – сказал он, – хуже только все остальные». Поездок было не так уж много, но Саша всегда будет помнить их.
Умер Яков Григорьевич быстро, то ли от рака желудка, то ли просто от язвы, что было, по словам матери, неудивительно при образе жизни, который он вел (неправильное питание, ром): неуместное замечание, да и с точки зрения науки, как выяснилось, сомнительное. Комната его отошла государству, Люксембург – к нему, к Саше, туда и были свезены вещи умершего, сложены на чердак. Сам же Яков Григорьевич теперь покоился рядом с любимыми им запрещенными книгами, но хулиганская эпитафия выглядела ужасно – оставалось надеяться, что со временем она полиняет, сотрется, сойдет на нет. Саша подумал немножко, почитал Библию и крестился – месяца не прошло. Когда он расскажет Эле, жене, она его спросит: «Надеялся обрести другого отца, небесного?» – он поморщится (зачем так торжественно?), но кивнет. Получилось ли, лучше не спрашивать.
Позже стала известна история: однажды Яков Григорьевич принес соседке – одинокой женщине с плоским лицом, не имеющим как бы черт, коробки, тяжелые, сказал – собирается делать ремонт, просит их подержать у себя, чтоб не украли рабочие. Ремонта он так и не начал, зато в скором времени у него прошел обыск – перевернули весь дом, а соседку, ту самую, пригласили быть понятой. Ничего запрещенного не обнаружили, и вскоре он снова зашел – за коробками. «Можете на меня полагаться, когда опять соберетесь делать ремонт, Яков Григорьевич», – сказала соседка. Правдива ли эта история, не узнать. Как и ее продолжение: он ей хотел подарить конфет с коньяком и что-то практическое собственного изобретения, а она не взяла. «Думаете, у вас душа, а у меня балалайка?» – спросила соседка, опять же со слов Якова Григорьевича, а он мог и придумать историю целиком, и объединить нескольких персонажей в один (мать злилась: «Яшка все врет»). Апокриф, предание, но что-то произошло, что заставило его оборудовать могилу свою тайничком, это было не просто чудачеством, в отличие от эпитафии. Которая ко всему оказалась и неверна: ничего не закончилось, отношения с родителями не прекращаются с их физической смертью. Последнее, что сказал ему Яков Григорьевич: «Саша, я бы хотел, чтобы, вспоминая меня, ты каждый раз улыбался. Будет трудно сначала, но станет привычкой», – так и произошло.
Какой все же точный выбор, думает он теперь, сделал Яков Григорьевич: кладбища были самым свободным общественным местом в советские времена, пространством для творчества – ставь звезды, кресты, сооружай памятники, все что угодно пиши на них, сколько хочешь их посещай. В больших городах, правда, кладбища закрывают по вечерам, но тут, в Люксембурге, все нараспашку – ночью и днем.
А соседка – кстати, преподаватель музыки в местной школе – долго еще продолжала поддерживать дом, даже сад – бескорыстно, что-то серьезное привязывало ее к Якову Григорьевичу: возможно, и ей он давал читать книжки, вряд ли там было что-нибудь большее, чем общая их любовь к Метнеру и нелюбовь к Софье Власьевне, но и соседка, конечно, давно уже умерла.
Итак, Люксембург достался ему от отца, квартира в Москве – от матери. Большая квартира, с огромным количеством старой, «трофейной», немецкой мебели: спальня в бирюзовых тонах с золотом, секретер со множеством потайных ящичков, красного дерева письменный стол и поменьше – журнальный, отделанный мрамором, старинное зеркало и так далее. Но Саша Москву разлюбил и мог даже точно сказать, когда.
Солнечным утром, посреди майских праздников, ему предстояло забрать из аэропорта жену. Он быстро доехал до «Юго-Западной», остановился у поворота на Ленинский. Все радовало, он отметил у себя эту радость: спокойствие города, спокойствие внутри, возвращение Эли, да и мать еще не успела сегодня ничем огорчить. Стоял около светофора, ждал, пока переключат свет, улыбался, представляя себе, что сразу они с Элей домой не поедут – он уговорит ее прокатиться куда-нибудь за город, куда ей захочется. (К Люксембургу она относилась вполне равнодушно: какой там потерянный рай? – обычный поселок с обычной серенькой жизнью – ни кино, ни театра, ни выставок. А река, поле, лес – да, красиво, наверное.) Пока горел красный, между машин стал протискиваться мотоциклист, остановился чуть впереди. Куртка, шлем, сапоги – ничего необычного, и лицо, как у мусульманок, прикрыто черным платком, мотоциклисты нередко повязывают такие платки. Их взгляды на долю секунды встретились. Однажды в парижском метро Саша долго стоял прижатым вплотную к женщине, закупоренной почти наглухо – только сияющие глаза, их взгляд трудно вынести. Тронулись с места и повернули направо, на Ленинский. И тут мотоциклист подъехал к автомобилю, стоявшему у обочины, – Саша видел его боковым зрением, но довольно отчетливо, – достал сверкающий пистолет (было яркое солнце), большой, не игрушечный, направил его на водителя. Автомобиль, дорогой, черный, – то, что можно вспомнить о нем, – проехал несколько метров вперед, ударился о заграждение, встал. Выстрела он не услышал. Что это было – убийство? угроза убить? – рассматривать сцену в подробностях времени не было – поток машин увлек его далеко вперед. Он встретил Элю, рассказывать ничего ей не стал. За город они в тот день не поехали.
Эля (полное имя – Эльвира, красиво: Эльвира Левант) немножко писала рецензии про кино, немножко переводила с французского – он правил ее переводы, хоть и не знал языка, старался внести в них смысл, которого в оригинале, возможно, и не было. «Туман, и кто-то любит Брамса», что-то психологическое, патологическое – не слишком удачно французские тексты ложились на русский язык. «Через много лет эта девушка стала моей свекровью, – Поправь, Элечка, свекровь зловеще звучит». – «Но тут ведь belle-mère!» – «Напиши: Через много лет я вышла замуж за ее сына, так спокойнее, дело тебе говорю». À propos: мать ненавидела Элю так, что в последние свои месяцы, совершенно лишившись разума, одну лишь ее и помнила, и узнавала – на фотографиях, – к тому времени они с Элей уже разошлись. Может быть, пистолет был все же игрушечным? – весь вечер тогда и на следующий день он просматривал криминальные хроники, и ничего про убийство на Юго-Западе не нашел. Так уж вышло, однако, что происшествие это, постороннее для него, чуждое, положило начало череде неприятностей, совершенно своих.
Началось с нежелания водить машину и вытекающих бытовых неудобств, а продолжилось тем, что Эля записалась на курсы вождения и познакомилась с неким Олегом по фамилии Звездарёв – долговязым блондином-инструктором младше нее на двенадцать лет (с Сашей у Эли похожая разница в возрасте, только в обратную сторону), увлеклась: простой человек, но как же он, Сашенька, ненавидит власть! Любитель авторской песни («Не будь, пожалуйста, снобом, зачем ты морщишься?»), Олег к тому же и книжки любит читать. – Отчего тогда он употребляет слова «кушает» и «супруга»? – Саше пришлось говорить с ним по телефону. А что касается неприязни Олега к большому начальству, инструкторы произносят то, что хочет услышать клиент: как официанты, как парикмахеры. – Саша, что же, ревнует? – Оказалось – небеспричинно: Эля в какой-то момент перестала говорить об инструкторе, но затем, когда все вроде бы улеглось и она получила права, то обнаружила, что беременна. От Олега. Как так? Она же не собиралась рожать детей. Верней, говорила: «потом», и было понятно, когда оно будет, «потом», – когда наконец не станет belle-mère. Саша помог ей погрузиться в машину, с вещами, и она отбыла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































