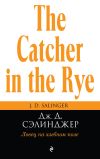Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Новелла четвертая. Мельница
Ранним утром 1 сентября 1990 года Стас подъезжал к Воронежу с твердым намерением сделать Владе предложение.
Мог бы решиться на это и раньше, но, во-первых, нога побаливала до конца весны, а во-вторых, дядя Мамед, прежде чем уйти в отставку, все же добился у ректора перевода чудом спасенного троечника, геологию раньше просто не любившего, а после Камчатки еще и боявшегося, на престижный факультет автоматики и вычислительной техники, да еще и прямиком на самую престижную кафедру прикладной математики.
Сдав на отлично летнюю сессию, Стас в последних числах августа полностью рассчитался по тем предметам, что составляли существенное различие учебных программ двух столь непохожих факультетов, – и вот тогда-то и отправился свататься, прихватив с собою набор, который вполне мог рассматриваться в качестве обручального подарка: баночку красной икры, баночку черной, батон сервелата и двухтомник Ницше.
Те, для кого 90-й год – всего лишь один из многих давно прошедших, могут усомниться в том, что деликатесы могут быть равноценны обручальному кольцу, но мы-то, кто еще помнит, как желудки тосковали по вкусной еде (а кипящие умы – по острой мысли), знаем твердо: в предсмертном для огромной страны 90-м сочетание икры, колбасы и Ницше могло произвести на будущую невесту впечатление куда большее, нежели какое-нибудь скромное колечко из золота низкой пробы.
Поезд, медленно приближаясь к вокзалу Воронеж-1, постукивал на стыках, как дородный господин – тростью по булыжнику и было в этом нечто, неподвластное смене режимов и программ. Однако же выложенные красным кирпичом на насыпи лозунги читались уже не просто с недоверием или с усмешкой, а несли смысл едва ли не противоположный – даже многократно встречающееся «Слава советскому народу!» читалось как печальное «Хана советскому народу», а в холодноватом, уже осеннем воздухе словно бы разливалось ожидание грядущих непышных поминок…
С вокзала Стас отправился в университет и там услышал:
– Сдала досрочно летнюю сессию и перевелась на заочный.
– А где искать?! Пожалуйста, помогите, вопрос жизни и смерти!
– Ну вот тут есть какой-то адрес, она там с подругой жила. Может, еще и живет…
Покосившийся дом, в переулке – вот те на! – Бетховена. Названном, наверное, так потому, что самый глухой переулок в городе.
– Да месяца уже три, как куда-то в Белоруссию уехала. Кто ж ее знает, куда именно… Подруга, может, и в курсе, так нету ее сейчас, на занятия ушла… Девка хорошая, старательная, и Влада была хорошая, старательная. Я абы кому не сдаю.
Помчался обратно на геофак – у четвертого курса, как это 1 сентября обычно и бывает, лекция сорвалась, а студенты разошлись.
Перехватил в буфете кефир, напоминавший тесто, и нечто из теста, напоминавшего кефир, и обратно в переулок, в котором именно в этот день должна была бы, если б все сложилось, как планировалось еще в Москве, зазвучать ода «К радости» из Девятой симфонии титана, но…
Подружка Дашка (он хорошо помнил, что именно Дашка) уже была дома.
Правда, оказалась она Ритой – но таковой ее Влада (по отношению к тем, кто ее любит, своенравная не менее, чем современные режиссеры по отношению к классическим первоисточникам) «не видела». А потому переименовал в честь самой любимой в детстве куклы.
– Она о вас часто говорила, а в начале июля за мужем в Гродно помчалась… – сообщила Рита-Дашка. – Влюбилась и за три недели упорхнула… Он там в мужской балетной группе «Авеню» танцует, но живут они почему-то на какой-то мельнице. У Влады ведь все не как у людей!
И ни одного такта оды «К радости» так и не прозвучало, но с неизвестно откуда взявшейся твердостью Стас решил не сдаваться…
У скоропалительно обретенного Владой мужа, красавца Олега, данных для балета было предостаточно, так что рискни он поступать в Москве или Питере, несомненно прошел бы. Однако не рискнул, пошел учиться в Воронежское хореографическое, да и то, не пошел, а поплелся, как гастарбайтер на постылую стройку, уговаривая себя перетерпеть, скопить деньжонок – и обратно, в «родной кишлак», то бишь в задымленный металлургическим комбинатом Липецк. И там жить, как предки жили.
Владислава (так торжественно, полным именем, он звал ее даже в постели) ему нравилась, но не более. Не было у него темперамента на даже приблизительное подобие страсти – однако же нутром почуял, сколько собственных внутренних ресурсов сэкономит ему неисчерпаемая энергия такой половины, дражайшей или даже не совсем – какая, в общем-то, разница!
А вот у нее, как его увидела, дофаминовыми ураганами унесло голову в небо и долго там мотало из одной воздушной ямы в другую.
Балетная группа «Авеню» набиралась для гастролей в небольших забугорных городах, а расчет продюсера строился на том неподдельном интересе, с которым в благополучной Европе наблюдали за предсмертными судорогами Советского Союза. Репертуар ее строился на жуть какой оригинальной придумке: женские партии танцевали юноши – босые, в солдатских гимнастерках и с накладными бюстами; загримированные под героинь, однако любой случайный взгляд на «ниже пояса» обнаруживал несомненных героев. За каким чертом номера ставились именно в Гродно, сейчас уже объяснить трудно. Можно лишь предположить, что близость этого города к сразу двум границам – с мятежной Литвой и со сравнительно недавно скинувшей оковы Варшавского договора Польшей – позволяла задешево привозить недалеких географически, но числящихся европейскими хореографов, каждый из которых называл архаикой все, уже навороченное коллегами, и, «помолясь усердно Богу», наворачивал свое…
Влада без колебаний перевелась на заочный, быстро нашла работенку геодезиста в местном проектном институте и быстро обзавелась жильем, которое показалось ей очень романтичным, хотя с уютом ничего общего не имело. Но главное – за сторожку и комнатку-контору при старой, заброшенной водяной мельнице на одном из рукавов Немана не надо было платить, – и остается только восхититься этой соплячкой: как талантливо она, вечно безденежная, умела находить во взбаламученном бытии те питательные крохи для нее и Олега, которому были обещаны сумасшедшие гонорары, однако репетиционный период оплачивался скромными советскими командировочными.
Дело в том, что мельница, выстроенная еще в конце XIX века, все советские годы числилась на балансе гродненского мелькомбината и использовалась для производства круп и муки грубого помола. С приходом же бурной перестройки сей «актив» (слово уже внедрялось в массовое сознание, а в приграничном Гродно вообще было в ходу солидное английское «asset») был выделен как имущество кооператива, созданного усилиями местных начальничков, в результате чего стал простаивать гораздо чаще, нежели работать.
Летом же 1990-го почтенная древность и вовсе была заброшена, да вот беда (для кооператоров): трое сторожей ее все же как-то охраняли, делая вид, что зарплату отрабатывают. Тут и возникла Влада с предложением дерзким и манящим: вместо дедушек с берданками на мельнице вечерует, ночует и проводит субботы-воскресенья она. Зарплату за троих получает, но отдает всю сумму директору кооператива, с которого, в свою очередь, дрова и ежемесячная оплата электричества – в сущности, копейки, учитывая щедроты Беловежской Пущи и Единой энергетической системы страны.
И не унывала она оттого, что Олег уедет на полугодовые гастроли, а ей придется жить не просто на краю города, а фактически в лесу. Не унывала, а действовала: за считаные дни, с невесть откуда взявшимися ухватками потомственной дрессировщицы, приманила четверых крупных бездомных псов, в том числе двух изгнанных из малогабаритных квартир злющих овчарок, отмыла их, расчесала-вычесала, раздала мальчуганские имена: Сашка, Пашка, Яшка и Мишка – и принялась откармливать отходами из мелькомбинатовской столовки, которые притаскивала ежедневно килограммов по пять-семь, – воистину прозвище Лошадь было ей дано недаром, переполняла ее почти что лошадиная сила.
А еще, по непостижимо гармоничному контрасту, играла в ней щенячья милота, завораживающая своей витальностью, и картинка «Она среди стаи» демонстрировалась небесам неоднократно: быстрым своим шагом идет по Беловежской Пуще, никого и ничего не боясь, а кобели носятся вокруг, охотясь на мелкую живность, грызясь между собой и покровительственно заигрывая с нею.
Олега четвероногие новоселы терпели с трудом. Особенно раздражал он их по утрам, когда во дворе разогревался, совершая положенное количество деми-плие и батманов тандю, а затем подпрыгивал, бия, согласно Пушкину, одной резвой ножкой другую, столь же резвую.
Однако чувствовали ревнивцы, что скоро исчезнет этот противный тип, которого Влада кормила не в пример меньше, однако поглаживала не в пример чаще; готовы были привязавшиеся к ней звери служить ей даже лучше, чем братья-богатыри царевне или друзья-гномы Белоснежке, и никого с отравленным яблоком к ней не подпускать.
Однако не уберегли. Яблока, правда, не было, а вот отравленная весть была.
– Учти, замучаю, – деловито предупредила (ворковать она не умела) Влада, прижавшись к Олегу вечером накануне его отъезда. – Месяца два эротические сны сниться не будут.
Ожидала, что он спросит: «А потом?» Готова была ответить: «Как в первый раз распалишься, тут же почувствую и помчусь к тебе автостопом. А если будешь за морем, наймусь официанткой на какой-нибудь лайнер».
После такого многообещающего ответа планировалось, в подражание проникающим в те времена на экраны постельным сценам, сменить слова на стоны, однако он сказал:
– Не распалюсь, меня там Эдуард, руководитель труппы, вместо тебя мучить будет. Тут-то я тобой отговаривался, мол, баба мне попалась маньячка и жутко ревнивая, чуть что – в драку кидается, а потом насилует.
– Олег! – ахнула дура наивная. – Ты что же, и с ним, и со мной?!
– Конечно. Называется бисексуал. Это у нас, балетных, часто бывает. А теперь и не только у балетных.
– И ты едешь?! Так надолго?! Не пущу!
– Владислава, ты вообще о чем? Мне, единственному в труппе, такие деньги в валюте будут платить за то, что я Барышников? Нуриев? Годунов? Ведь на крутой тачке вернусь, мы нехилую квартиру в Липецке купим и обставим!
– Это безобразие и дальше может быть?
– Владислава, ты же знаешь, я так выматываюсь, что мне секс вообще по барабану, разок в неделю – и ладушки, а если еще реже – то еще лучше. Это я тебе так часто поддаюсь, обижать не хочу. Но если ради больших денег или карьеры – да кто ж в наше время будет против? Ты, что ли, с лесбиянкой ради такого гонорара поваляться откажешься? А если откажешься – дурой будешь! Это ж не проституция, а как муж я тебе даже не изменяю. Владислава, не смей реветь!
Она не ревела.
Но внутренне оцепенела, хотя движения, при этом, как ни странно, стали еще быстрее.
Два вопроса мучили ее, и первый задавал почему-то университетский преподаватель философии, который обожал дергать и провоцировать аудиторию, выделяя при этом Владу, – как будто читал, садюга, на ее выражающем готовность к немедленному действию лице, что претят ей абстрактные философские проблемы – как онтологические, так и гносеологические. И оптом претят, и в розницу. Но все стоял и стоял перед ее глазами противный препод, все задавал и задавал идиотский вопрос: «А в чем твой красавец писаный не прав? Ведь не с другой женщиной тебе изменяет, а деньги для семьи зарабатывает. Неподобающим для мужика способом? А выставляться (в якобы танце) на сцене так, чтобы его бугрящийся аппарат сводил с ума зрительниц и часть зрителей – это способ подобающий?»
Второй вопрос, однако, был не абстрактный, житейский: «Только-только баулы с зимними шмотками, подушками и одеялами сюда перевезла, так теперь обратно все тащить?»
Оцепенелость ни на секунду не отпускала. Ни в последнюю, увы, бесконтактную ночь с Олегом, ни в последующий почти месяц, вплоть до третьего сентября.
А четвертого появился Стас.
Гродно показался ему не то что чище, а как-то аккуратнее Москвы. И гораздо уютнее.
На схватку, на борьбу за Владу настроен он не был (да и вообще конкурировать и состязаться не был способен, в принципе, органически), но почему-то не сомневался, что неизбежно и вполне мирно она все равно будет с ним. А потому по дороге с интересом разглядывал поля и леса, речки и речушки, дома и домики, улицы и улочки, а слегка уже багряной красотою Беловежской Пущи был сражен раз и навсегда.
Кстати, позже, уже на пути в Воронеж, Влада его спросила:
– Ты вот ко мне ехал, не боялся, что муж до смерти изобьет?
– Нет, – ответил честно, – мой рост сто девяносто девять, вес – сто сорок два. На меня только Мохаммед Али, который Кассиус Клей, с кулаками рискнул бы наброситься, все остальные ногами бы захотели излупить. А ваш бисексуал ноги должен беречь, так что все обошлось бы угрозами и матом-перематом.
«Ну не засранец? – подумала Влада. – Другой бы распинался, что за меня на смерть готов пойти, а этот рассуждает».
Он действительно много и с удовольствием рассуждал, особенно после того, как она, выругав его за теоретически совершенно неуместное (однако в реальности спасительное) появление, открыла страшную тайну своего внезапного одиночества. Слегка при этом приврав: то есть Олег, по ее версии, уехал на полгода не для того, чтобы любыми путями заработать как можно больше, а от нее уехал – с руководителем труппы по имени (омерзительному) Эдуард.
И сама поверила в это, особенно в омерзительность имени.
Стас же даже и не сделал попытки засомневаться, его гораздо больше привлекала возможность говорить, говорить и говорить…
Нет, не о превратностях любви, а том, какое новое понимание Ницше навеяла ему мельница.
– Ее бездействие есть парадоксальный синтез дионисийского бурления и аполлонической омертвелости. Хотите спросить почему?
Менее всего ей хотелось спросить почему. Его, этого необъятного вахлака, вольно раскинувшегося на куче старых мешков и едва на ней уместившегося, более всего хотелось спросить, как он относится к тому, что им предстоит спать на разложенном на полу старом диване без ножек, и понимает ли он, что улегшись с женщиной, недавно отказавшейся от все еще, наверно, любимого мужа, приставать к ней – нельзя. То есть можно, но бесполезно.
Однако послушно повторила:
– Почему?
– Потому, моя дорогая…
«Моя дорогая», видите ли… как если бы отличник дал понять троечнице, что растолковывать ей, дуре, всякие разные очевидности – это для него не столько обуза, сколько удовольствие.
– Понятно?
– Понятно, что спать пора. Мне завтра, между прочим, на работу. Это лежбище, – показала на диван, – тебя устроит?
– Еще как! Королевская кровать!
И замолчал, хотя готов был рассуждать всю ночь, лишь бы Влада не почувствовала, как он опьянен тем, что она опять рядом; тем, что муж ее отбыл «к берегам италийским» – на время, а с глаз долой – навсегда.
…По-медвежьи тяжелой лапой прижал ее к себе, после чего и пошевелиться кому-то из них по своей только воле стало невозможно. Это разительно отличалось от летучих, пританцовывающих прикосновений Олега, будто бы содержащих в себе намек на то, что он мнит себя ничем клятвенным не связанным, а потому она, без ущерба для перфоманса, вполне может быть заменена на другую партнершу.
Или на партнера.
Что, собственно говоря, и произошло…
А вот вахлак, не говоря ни слова, ликвидировал для нее и для себя все признаки самости, и Влада никак не могла для себя определить, кем себя чувствует: легкомысленной ли сукой, которая изнывает по Олегу, но прижата к Стасу и противоречия в том не усматривает, или рассудительной самкой, у которой не получилось свить гнездо с одним самцом, так она, немного пострадав для приличия, принялась вить с другим, без труда научившись дышать с ним будто бы общими легкими – глубоко и спокойно.
«Ну уж нет, гнездо! с этим! да не в жизнь! – решила наконец. – Уж лучше…»
И, согласившись на вариант легкомысленной суки, крепко уснула.
В объятьях Стаса и в окружении Сашки, Пашки, Яшки и Мишки, которых своевольный гость не выгнал, вопреки заведенному хозяйкой порядку, во двор мельницы, сторожить, а разрешил им разлечься вокруг дивана – и охранять.
Она уже спала, а Стас все думал.
О том (в который уж раз!), что не сделает ее счастливой, даже и не попытается сделать, ибо, – он уверовал в это на Камчатке, – неизбежным итогом счастья будет ressentiment.
О том, что пошел дальше Ницше и понял: истинно дионисийское – это не катаклизм извержения, а нарастающая мощь потока; не убивающее форте, а живительное крещендо.
«И ведь так говорил не Заратустра, – думал он, – так говорю я!»
Сказать по правде, его все же удивляло, что со случайными дамами он неутомим и убедителен, а со своею Единственной – медуза. Но вслушался в ее дыхание, соритмичное его собственному, и решил, что со временем все будет хорошо.
Когда и она почувствует, что он – на всю жизнь.
А до того пусть пробует жить с другими – танцорами, певцами, спортсменами, поэтами… И пусть еще пуще разочаруется, провинциалка упрямая, пусть уяснит, что такая драгоценность, как она, может отдавать себя только философу-мыслителю, ибо лишь философ-мыслитель способен отдавать себя ответно – с лихвой, вдвойне и вдесятеро…
С тем и уснул.
Когда на следующий день она уже собиралась пойти за едой для кобелей, на улице несколько раз прогудела какая-то машина. Выглянувшая в окно коллега возгласила:
– Ты глянь! Тачка! Импортная! И какой-то толстяк рядом! Влада, часом не к тебе?
– Откуда? – ответила, даже и не подумав подумать о Стасе. Мало ли в Гродно толстяков с импортными тачками, правдами и неправдами завозившимися из Польши, куда, в свою очередь, уже год как перегонялись из Германии.
– Да и то откуда? – согласилась коллега. – Ты ж только-только мужа проводила. Наверное, к какой-нибудь архитекторше, они ж у нас оторвы, богема.
Однако, выйдя на улицу, Влада обнаружила Стаса с ворохом роз, небрежно опиравшегося (всерьез опираться боялся – а ну как не выдержат истончившиеся шины!) на развалюху, как сейчас назвали бы мы ее пренебрежительно, – однако следует заметить, что в сентябре 90-го исцарапанная «ауди», лет пятнадцати от роду, смотрелась в СССР шикарно.
– Кто тебе дал право меня компрометировать? Как мне теперь здесь работать, с такой репутацией: муж за порог, и тут же хахаль с цветами на лимузине подкатил!
– Вам здесь не работать. Рассчитывайтесь, собирайтесь побыстрее, заберем двух псов – и отвезу вас обратно.
– Зачем обратно?
– Затем, чтобы быть ближе друг к другу. Хотя бы географически.
– Вот еще! Можно и подальше! Тем более географически. Лучше признавайся, откуда деньги на машину. Все министра своего доишь?
– Слушайте, вы, воронежанка! Или воронежка! – рассвирепел не на шутку, она даже струхнула. – Не смейте со мной разговаривать в визгливой жлобской манере! Хотите спросить, как я деньги зарабатываю – спросите. Отвечу. Ну!
– А ты не нукай! Обращайся с цветочницами, как с герцогинями, а не с герцогинями, как с цветочницами!
– Бернард Шоу?! – ахнул он.
– Представь себе. К твоему сведению, смотрела «Пигмалион» раз пять… И все еще жду объяснений: откуда у тебя деньги на авто?
Он вел машину неожиданно умело, максимально отодвинув свое кресло назад, чтобы поместились огромные ноги – так что Влада оказалась далеко впереди него. Лобовое стекло «ауди», с элегантным изгибом переходящее в крышу, многоцветно играло на солнце, и, любуясь небом, начинавшим голубеть с осенней пронзительностью, радуясь чистеньким улицам Гродно и неправдоподобно нарядным розам на коленях, она думала, что выглядит, как кукла на капоте убранного лентами свадебного автомобиля.
– Учтите, розы – только ради вас, сам я их терпеть не могу. Итак, откуда у меня деньги… Я играю на валютной бирже.
– Так ты из этих, которые за иностранцами бегают, клянчат? – уловив пока еще чужеродное слово «валюта», усмехнулась она.
– Это потрясающе, как вы меня понять не хотите! Я же русским языком сказал: играю. Беру какой-нибудь триплекс валют, к примеру, доллар, дойче марку и швейцарский франк. Иногда добавляю иену, но это уже больше для экзотики. И торгую: что-то из этого выбранного покупаю, что-то продаю, пытаясь угадать колебания курсов. Пользуюсь собственными стратегиями, довольно сложными.
– Где покупаешь? Где продаешь? В подворотнях?
– Господи, да нет же! На валютной бирже. Пока еще подпольной, для немногих избранных, но уже имеющей своих доверенных дилеров на западных площадках. Влада, вы не представляете, и весь советский народ не представляет, сколько уже капитализма в нашей социалистической стране! А это значит, что ее смерть не за горами. И начнется дележ, мерзкое расчленение трупа.
Отодвинула кресло назад, чтобы его увидеть – а он был так мрачен, что разом исчезло все ее радующее, и розы стали казаться неуместной олеографией. Захотелось, почему-то, пожалеть его, а не страну, которой он, шибко умный, предрек такое нехорошее будущее, – однако не стала жалеть, вот еще!
Вместо того продолжила:
– И ты тоже, небось, кинешься участвовать в дележке вместе с товарищем Курбанбековым?
– Дядя Мамед – уникальный, на редкость совестливый человек, и в подобном макабре[41]41
Макабр – пляска смерти, получила художественное воплощение в одном из направлений средневековой европейской иконографии.
[Закрыть] участвовать не захочет. Я тоже уникальный, правда, не совестливый, а брезгливый. Бедняком и неудачником не буду, но и трупожором – тоже. Хватит ко мне придираться, Влада, лучше поймите, что наступили на редкость дерьмовые времена. И не думайте, что без меня справитесь, добредете, выплывете. Не справитесь, не добредете, не выплывете.
– Посмотрим, – процедила сквозь зубы.
И разозлилась: «Хочешь меня заполучить, так завоевывай, о любви говори, вахлак вечный! А не пугай, что без тебя я под забором подохну!» И повторила еще упрямее:
– Посмотрим.
– Посмотрите, – согласился он. – Только не просмотрите. Время-то тик-так.
Быть бы ему хоть чуточку старше нее!
А еще лучше, не чуточку, а солидно, чтобы ей, отца не знавшей, казалось бы изредка, будто явился он наконец – и надоедливо учит уму-разуму. Так ведь если не учит, то какой же это отец? А если не надоедливо, то какое это учение?
Шлепает в сердцах или отвешивает подзатыльники – что ж с того? Попа не отвалится, шея не сломается.
Зато от маячащих на горизонте бед старается уберечь.
Ах, если б не случилось с ними то, что случилось на Камчатке! Тогда не помнила бы она, как не мог этот вахлак сделать и шага, не опираясь на ее плечо; не отложилось бы в сознании, подсознании и черт его знает где еще, что не ради служения ей стремится он быть рядом, а для спасения самого себя. Да, спасения, потому что его, может и гениальные, но не по-людски устроенные мозги не приносят никакой пользы ни ему, ни людям; потому что времена, когда преуспевали всякие там высоколобые и яйцеголовые, уже прошли. Во всем мире прошли, а в России, где наличие в ком-то самостоятельного ума издавна признавалось чем-то опасным, заразным и требующим дезинфекции, так и не наступили.
И никогда не наступят.
Ведь во всем мире оборотистые посредственности берут верх, а тех, кто понимает, что этот верх есть низ, потом станет дном, а в итоге обернется преисподней, научились не только оттирать, но и клеймить презрительным: «Ботан! Задрот! Если ты такой умный, то почему бедный?»
Но нет, оказался ровесником.
И то, что случилось на Камчатке – случилось.
Наверное, поэтому все последующее трагическое – произошло. Хотя, кто может рассудить: трагическое или прекрасное? И ответить: а не одно ли это и то же?
Пристроили в ближних к Гродно деревнях отъевшихся и щеголяющих заблестевшей шерстью Сашку и Пашку.
Влада рыдала, прощаясь с ними, – слезы копились давно, а тут и повод их излить представился…
Бросили жребий: получилось, что с Владой останется злющий и ревновавший ее к собственной тени Яшка, а со Стасом, соответственно, Мишка – кобель, в общем, флегматичный, однако иногда задиравшийся со всем белым светом подобно разбуженному медведю-шатуну.
Проявив недюжинную оборотистось, Стас сменил потрепанную резину на почти новую; с ловкостью, Владу слегка изумившей, снял заднее сидение «ауди» – все баулы, чемоданы и узлы прекрасно разместились в багажнике и на освободившемся месте, а устроиться на мягких холмах назначено было Яшке и Мишке.
Наступила пора пуститься в неблизкую дорогу – и тут вахлак Владу совсем удивил.
Попросил еще день и методично, не злясь и не уставая, отладил и зафиксировал положение лопастей мельничного колеса – наилучшее из всех возможных.
Так же методично, щедро смазывая солидолом, прошелся по всем узлам передаточных механизмов, затем убрал камни, мешающие воде попадать в желоб – и та, обрадовавшись, принялась лупить по колесу. Шум падающей воды пробудил окрестные деревья – они зашумели в ответ, словно бы спрашивая, а вернутся ли поскрипывания вращающихся механизмов?
Стас поколдовал с рычагами, и колесо завращалось с тем неиссякаемым трудолюбием, что было ему свойственно в послеуборочные недели, когда днем и ночью тянулись подводы, тяжело груженные зерном нового урожая – иногда богатого, иногда победнее…
Влада и Стас были надолго заворожены этим вечным: падает вода, вращается колесо, проходит жизнь…
– Какой наглядный символ постоянного возвращения, – задумчиво сказал Стас.
– Я Ницше не читала, – откликнулась с вызовом.
– И хорошо. Это смущающее чтение, оно не для подлых времен. Захочется происходящие гадости облагородить какой-нибудь красивостью: например, «воля к власти». Хотя все гораздо банальнее: руки дрожат от жадности, а задница потеет – от страха.
– Я прочту, – гнула Влада свое, – когда-нибудь обязательно прочту.
– Разве что когда-нибудь, если потянет к чему-то деликатесно пряному, безопасно безумному… Ладно, давайте завершать процесс.
Опять поколдовал, теперь с какими-то другими рычагами – и закрутились жернова.
Долго смотрели и на это вращение, и Владе вдруг стало очень страшно. Никакие грядущие времена, уверяла она себя, ее не завихрят, как бы турбулентны ни были, но вот стоящий сейчас рядом с нею знаток Ницше… Убегать от него надо! Со всех своих неутомимых ног!
А Стасу было слегка грустно, но, более того – интересно.
«Ницше, конечно, гений, – думал он, – но не понял, что истинно дионисийское рождается из неодолимого тяготения тоскующего в одиночестве разума к другим разумам, тоже одиноким и тоже тоскующим.
У него, у Фридриха, все бы было хорошо, если б Лу Саломе его все же полюбила, если б Наталья Герцен его все же полюбила, – а ведь он так жаждал этого подлинно дионисийского, подобного тому, как жаждут соприкосновения эти два жернова. Подобно тому, как они готовы во имя соприкосновения перемалывать без устали, неважно, что во что. Зерно в муку, или муку в пыль, или пустоту – в пустоту.
И так говорил не Заратустра. Так говорю я!»
– Пора. А жернова пусть крутятся. Неман замерзнет – отдохнут. Неман вскроется – закрутятся опять. Да здравствует вечное вращение-возвращение!
– Я поняла, что они мелют, – откликнулась Влада. – Они мелют чушь. Ты соорудил памятник самому себе, своей дурацкой манере все время молоть чушь.
– Господи! – засмеялся Стас. – Как же я вас ненавижу! И как же не могу без вас жить!
Уехали.
А мельница в строгом соответствии с предсказанием Стаса шумела еще четыре года: с апреля, когда Неман вскрывался, по декабрь, когда замерзал.
Шумела – и для деревьев, зверья и птиц окрестного пятачка Беловежской Пущи с этим привычным шумом воцарялась правильная суть вещей.
Но на пятый год затихла – то ли очередной ледоход разрушил что-то жизненно важное, то ли солидол высох, – но затихла – и все вокруг замерло, а потом постепенно вымерло.
Что, впрочем, многим показалось благим знаком, поскольку мерное вращение «ни для чего», это подобие вечного двигателя, созданного усилиями промелькнувшей странной парочки, – по всему судя, ведьмы и ведьмака, – считалось проявлением бесовщины, тем паче что зимой частенько прибегали к мельнице то Сашка, то Пашка, а то и оба вместе, и выли, тоскуя, о единственном вдоволь сытном месяце из всей своей собачьей жизни.
Потом прибегать перестали, и толки о буйствующей на мельнице нечистой силе постепенно сошли на нет, после чего один из гродненских новых белорусских рискнул открыть там мотель и кафе. Затарахтели двигатели, забубенно заорала музычка, разлился далеко вокруг густой дух бигоса, однако в этом ничего сатанинского уже не усматривалось. Более того, загуляли, – из уст в уста и по страницам местных польских и литовских газетенок, – леденящие душу и горячащие голову рассказы о битве светлых и темных сил на теперь уже декоративной мельнице, после чего к этому «Армагеддону местного значения» посетители и туристы заспешили вдвойне и втройне.
Ничего этого Влада и Стас не знали, но Джей Ди, медитируя у себя в Корнише, – уже в конце сентября, когда прокрадывающаяся в дом ночная прохлада слабеющим солнцем и живым теплом тел не изгоняется, – вдруг будто бы воочию «увидел» эту мельницу, так соскучившуюся по работе; эти лопасти, тоскующие по ударам воды; эти жернова, созданные ради тяжкого трения, а не благодушной лени… И окончательно уверился в том, что пора писать, без устали перемалывая зерна последнего своего замысла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.