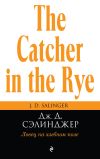Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Но не такая, конечно же, как в 45-м, когда до подписания Акта о капитуляции оставалось совсем немного – ведь я родился, когда война издыхала, когда войска уже не наступали, зато наступала самая праздничная в истории ночь.
Стреляли в воздух, пили, плакали, пели, плясали и мечтали поскорее забыть о кругах ада, которые пришлось пройти по многим хордам и диаметрам; надеялись, что это был девятый круг, согласно Данте, последний… Хотя – кто знает? кто может засвидетельствовать, что их вообще конечное число? кто станет отрицать, что и после 45-го случались времена, схожие с очередными кругами, – но спасибо судьбе за то, что не такие же трагические.
От бухты дул ветер, та самая благословенная моряна, которая и после самых жарких, душных ночей дарила на рассвете пару часов «провидческого» полусна – это я вспомнил тяжкую неделю подготовки к экзамену по теоретической физике, когда крыша дома, – она же и потолок квартиры, поскольку чердаков и мансардных этажей в Крепости не бывало и нет, – раскалялась за день так, что был явственно слышен запах плавящегося кира, который заменял в Баку и кровельное железо, и шифер, и рубероид, а уж о черепице в те времена можно было лишь прочитать в романах о заграничном бытии. Саженные формулы из знаменитого курса Ландау, нашего великого земляка, и Лифшица, тоже великого, но не земляка, а «всего-навсего» харьковчанина, можно было впихнуть в голову, только если сидел под вентилятором, завернувшись в мокрую простыню; а вот понять хоть что-то из накануне «впихнутого» удавалось лишь постфактум, в рассветные часы, в полусне, навеянном моряной. И вот, наверное, по аналогии с теми временами, в голове моей стало что-то такое проясняться и укладываться, и я негромко, чтобы никого не будить, заговорил, обращаясь к едва видневшемуся в молочной дымке острову Нарген.
Заговорил, будто бы поясняя строгому экзаменатору длинную и запутанную формулу своей жизни:
«Прости меня, Баку. Прости мои тогдашние глупость и высокомерие, с которыми я считал тебя не устремленным в будущее, не могущим вырваться из обрекающего на архаику ярма нефтегазовой триады “добыча – транспортировка – переработка”.
Прости, я не понял, что это не ярмо твое, а корона – ведь оказалось, что даже двадцать миллионов тонн недоразведанной отцом кобыстанской нефти, даже эта капля в море в сравнении с ежегодно добываемыми в России пятьюстами пятьюдесятью миллионами тонн, помогает тебе становиться еще краше, еще чувственнее, еще величественнее. Я недооценил тебя, прости!»
И остров Нарген, к которому я обращался, стал мне отвечать. Голосом Баку.
Таким, словно бесконечно терпеливый учитель, муэллим, ждал, когда же я соизволю к нему явиться, но 8 мая каждого года, начиная с 1971-го, в той строчке экзаменационной ведомости, где значилась моя фамилия, писал: «Еще не дозрел».
И все равно ждал – и в 2018-м тугодум-ученик наконец объявился, и первая же его фраза уверила мудрого муэллима, что теперь-то им есть о чем поговорить.
«Это ничего, – сказал мне Баку, – что ты тогда думал так, а не иначе. Тебе же хотелось доказывать интересные теоремы, где уж было подумать, с чем и как ты связан прочнее некуда, неразрывно связан. Весело и страшно рвать с прошлым! – а ведь это я учил тебя жить так, чтобы было весело и страшно».
«Да, учил – и научил, – отвечал ему я, – вопреки дремлющей во мне памяти о трех тысячах лет гонений и погромов, убеждавшей, что жить надо осторожно. Вчера, гуляя по бульвару, долго стоял там, где меня памятно молотили четверо, – кулаками, пружинами от эспандера, велосипедными цепями, – а мне было больно, но и весело, оттого что занятия боксом все же научили уворачиваться от самых опасных ударов и не падать, если увернуться не успел. Но при этом было и очень страшно: знал, меня, упавшего, не добьют, ты научил всех нас не бить лежачих, но на меня, упавшего, плюнут сверху вниз, – и победа парня, с которым мы в Крепости дали друг другу слово, что будем драться один на один, и я не позвал с собою никого, а он привел троих, – победа этого парня покажется ему бесспорной, а я этого не хотел, и потому не падал, хотя уворачиваться удавалось все реже и сил хватало лишь на то, чтобы не опускать руки, терпеть и ждать, пока они поймут: не упаду. Они наконец поняли, ушли, я, избитый, поплелся домой, вскоре встретил Чингиза Идаят-заде, который в три минуты собрал кодлу, и мы прочесали с нею весь бульвар, но никого не нашли. Через день Чингиз поговорил со смотрящим Крепости, враг мой свое получил, и после, завидев меня, кричал радостно: “Марик, нечэ сэн?!”[24]24
Марик, как дела?! (азерб.)
[Закрыть] – “Яхши! – кричал я в ответ не менее радостно, помня, что все же не упал. – Озюн нечэ сэн?!”[25]25
Хорошо! А у тебя как дела?! (азерб.)
[Закрыть]
Мне было хорошо вчера на бульваре вспоминать, что тот экзамен я сдал – это ведь ты научил меня больше всего на свете бояться, как бы кто-нибудь не подумал, что боюсь. Не исключено, что это позерство, а бояться так по-особому называется хорохориться. Грушницкий бросался в атаку, размахивая шашкой, крича “Ура!”, но зажмурившись, – и Печорин (а может быть, сам Лермонтов), вспоминая об этом, представив себе это, думает: “…что-то нерусская храбрость!”. У меня, пожалуй, хватило бы сил не зажмуриться, чтобы никакой Печорин, не дай бог, не заметил, но вот видел ли бы я что-нибудь во время атаки даже и широко открытыми глазами? Во всяком случае, тогда на бульваре, в конце избиения, точно уже ничего не видел».
«Да ладно тебе… – усмехнулся мудрый муэллим. – Довести до белого каления туповатого приятеля, не извиниться, пойти на дуэль с убийственными условиями, считая это жутковатой и интересной игрой, и погибнуть в двадцать семь лет – русская храбрость? Ты же считаешь Лермонтова гением первой череды, из самых-самых, и справедливо считаешь, а ведь гении учат прежде всего тому, что никогда и ничего нельзя делать, как они, – получится уродливо. Особенно нельзя пытаться жить и умирать, как они… А храбрость – она бывает либо мужская, либо никакая… Скажи лучше: ведь если б ты не уехал навсегда, жизнь бы твоя сложилась совсем по-другому. А как? Предположи хотя бы».
«Наверное, сразу стал бы не “чистым” математиком, а прикладником, ведь директор института, где работал отец, предлагал взять меня в отдел математического моделирования, – к этому, собственно, под влиянием Изи Руссмана я и пришел в конце научной карьеры. Скорее всего, не преподавал бы. Уж точно, не консультировал бы бизнес. И скорее всего, не писал бы. Может быть, “охота к перемене мест” овладела бы мною, как и многими, гораздо позже, – и жил бы сейчас в Москве или Петербурге, в Израиле или Чехии. Но наверняка не в Воронеже. И холод бытия, который ты своей чувственностью умеешь вытеснять лучше, чем любое другое место в мире, не заставлял бы меня жить с ощущением, будто бегу невесть откуда и неведомо куда; будто бы догоняю – и не могу догнать».
«Ну так и беги себе дальше! – сказал мне Баку. – Работай. Все очень просто: работа – это и есть тот бег, то спасение от холода бытия, которое, к сожалению, всегда “невесть и неведомо”. Ты участвуешь в этом беге, как участвовал когда-то в рассвете на Байкале и в закате на берегу Японского моря – проживая свой срок в своем времени. Проживая свою и только свою жизнь, какой бы странной она тебе самому не казалась».
«Но почему всегда – по разу?! – возразил я. – Почему только один такой рассвет и только один такой закат? Почему не было больше ни одного вечера чтения стихов, такого, как в хрущевке у станции метро “Нариманов”? Да теперь уже и не будет, потому что половина из читавших – умерли».
«Потому что не судьба тебе – ценить настоящее. Ты был озабочен будущими, еще не доказанными теоремами, ты сейчас озабочен будущими, еще не написанными романами, будущим тех дел, которые затеваешь, и предприятий, которые создаешь. Ты не успеваешь привязаться к людям, которые есть в настоящем, потому что думаешь о том, что бы такое особенное сработать совместно с ними в будущем; ты не привязываешься к квартирам, в которых живешь, потому что тебе кажется, что скоро будешь жить в других, – и только сейчас, гостя у меня, загрустил о прошлом, глядя на свой дом в Крепости или на тот, в который твой отец вложил столько сил, но не прожил в нем и дня.
Ты любил своих детей, но не ценил постепенность их созревания рядом с тобою, потому что чувствовал ответственность за их будущее и думал только о нем. И лишь внуки преподали тебе то, что не сумели преподать ни я, ни жизнь: ты передоверил их будущее своим детям, а сам, ни о чем не заботясь, научился радоваться, на секунды изгоняя холод бытия, словечкам, гримасам, проказам и признаниям “Дедушка, я тебя люблю!”, хотя и подозреваешь, не без оснований, будто неожиданные эти признания вызваны желанием подластиться и что-то выпросить».
«Да, изгоняя… – почти что эхом повторил я, – но лишь на секунды…»
«Скажи спасибо и за это! Скажи спасибо – и беги дальше, и догоняй, зная, что не догонишь. И почаще вспоминай чудную песню, – ее написал москвич, его день рождения завтра… Да, москвич, да, долго жил в Тифлисе и ни дня не жил здесь, но все равно он из вас, моих детей, все равно он бакинец:
Работа есть работа,
работа есть всегда.
Хватило б только пота
на все мои года.
Расплата за ошибки –
она ведь тоже труд.
Хватило бы улыбки,
когда под ребра бьют.
Что стоишь, что молчишь? Пой, танцуй, как положено человеку в день рождения!»
Послушался, затанцевал – по крайней мере, стал раскачиваться из стороны в сторону, – и вот остров Нарген, уже не занавешенный дымкой, заулыбался мне, как высунувшийся из воды дельфин, и вот по бухте, вдруг откликнувшейся на дуновения моряны, побежали гребешки волн, всплескивая о берег, как неуверенные хлопки аплодисментов.
Да и то сказать, такому «кружению в вальсе» могли бы, если б умели, уверенно аплодировать лишь слоны в посудных лавках… Ну и пусть! – зато, когда я замурлыкал: «Шарманка-шарлатанка, как сладко ты поешь!..», то своим иногда подрагивающим, однако никогда не сламывающимся тенорком мне подпел сам Булат Шалвович, до того, небось, и не подозревавший, что и он – бакинец.
…Прошло немного, в общем-то, времени, как вернулся в Воронеж – даже бутылка коньяка Gold Baku не успела еще опустеть до дна. Однако и за этот краткий срок многое случилось и в стране, и на предприятиях, которым помогаю – но стоим пока, не упали и даже улыбаемся, хотя бьют крепко, и не только под ребра.
И лично у меня кое-что случилось – дописал, например, вот эту, допустим, повесть.
А через две недели, 15 сентября, когда в Баку начнется очередной учебный год, засяду за роман.
Тоже очередной.
Хватило б только пота!
Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках
Роман посвящен светлой памяти Нины Валентиновны Шаталиной, так жадно читавшей отдельные главы, так мечтавшей узнать, чем закончится. Но я опоздал буквально на несколько дней.
Пролог
Вполне возможно, что 25 августа 2044 года в Париже все же будут отмечать столетие его освобождения от нацистов; возможно, что Европа в очередной раз благословит то мирное течение времени, в котором тиканье часов знаменует не приближение к смерти, но лишь отдаление от рождения. И тогда кто-нибудь непременно вспомнит и о том, что среди самых передовых, вошедших в город частей американской армии был полк, в котором служил сержант военной контрразведки Джером Дэвид Сэлинджер.
А всего через два дня, 27 августа 2044 года, случится вот что: в отделении банка Lombard Odier, расположенном в курортном швейцарском городке Веве, соберутся несколько журналистов, специалист по авторскому праву и нотариус, который спустится ненадолго в подземное хранилище и вернется с пакетом, пролежавшим в банковской ячейке тридцать пять лет.
Он-то и засвидетельствует с приличествующей церемониальностью, что этот пакет есть рукопись последнего романа Сэлинджера.
Когда после публикации в 1965 году рассказа «Хэпворт, 16, 1924» самый к тому времени известный англоязычный писатель XX столетия Джером Дэвид Сэлинджер, – Джей Ди, как называли его когда-то однополчане и самые близкие друзья, – распрощался с вечно бурлящим Нью-Йорком и уехал в какую-то глухомань, мир поначалу предвкушал появление новых шедевров, теперь уже выстраданных в тиши. Но Джей Ди увлекался дзеном, йогой, макробиотикой, дианетикой, гомеопатией, уринотерапией, от которой чудом не отправился на тот свет; Джей Ди старел, менял философские пристрастия, жен – и… молчал.
Молчал все сорок пять лет до самой смерти в январе 2010-го, но каждое следующее поколение бунтующих молодых все равно считало его своим гуру, своим временно «удалившимся в пещеры» Заратустрой, который вот-вот заговорит.
И даже сейчас, когда пишутся эти строки, его почитатели все еще не теряют надежды на появление пусть не отшлифованных текстов, так черновиков; пусть не черновиков, так хотя бы набросков.
Но ничего.
Пока ничего, однако если новость о том, что за три с лишним года до смерти великий и загадочный Джей Ди все же взялся за роман и успел его завершить, распространится повсеместно, то комментарии, посты и репосты будут трескучи, как праздничные фейерверки, – и прилив интереса испытают даже те, кто считает художественную прозу всего лишь основой для сценариев десятков тысяч телесериалов.
Что ж, они будут за этот интерес вознаграждены хотя бы странным для Сэлинджера выбором героев: не просто ни одного из прежних, столь им любимых, но вообще ни одного американца! Более того, и действие происходит не в американском городе, городке или кампусе, а в нарядных курортных местах Швейцарии и в уголках загадочной России.
И еще будут раззадорены тем, что в фабулу романа вплетены события, кажущиеся совершенно невероятными, хотя люди, в них участвующие, вполне реальны, – во всяком случае, Джей Ди на этой их «непридуманности» настаивает, повествуя, как с ними встречался и разговаривал.
Разговаривал? – этот молчун? Встречался? – этот затворник? Где?! Когда?!
И наконец, самое удивительное: они, то ли собеседники, то ли некие образы, увиденные писателем во снах или в часы медитаций, окажутся связаны с его дальней родственницей, имя которой встретится в посвящении:
Леа…
Леа…
Леа…
Зову тебя каждым словом, написанным карандашом на дешевой бумаге, – эту последнюю свою вещь я пишу, как встарь, карандашом на дешевой бумаге; зову, уверенный, что там, где мы встретимся скоро и уже навсегда, буду повторять на все лады, синкопами или протяжно: «Только вспомнив о тебе, я достиг!»
Ведь и вправду достиг, Леа!
Твой Джерри
Новелла первая. Леа
На Австрию неудержимо надвигался аншлюс[26]26
Присоединение, союз (нем.). Применительно к Австрии под аншлюсом понимается декорированное демократическими процедурами, но, по сути, насильственное расчленение весной 1938 года Австрийской республики и присоединение ее территорий к странам, которым они никогда не принадлежали. Но не только Германии, а еще и Венгрии, и Чехословакии, охотно проглотившей наживку и через полгода ставшей следующей жертвой.
[Закрыть], и жениху Леа не потребовалось много времени и слов, чтобы убедить обе семьи в необходимости бежать, захватив самое дорогое из того, что можно унести на себе. Спорили лишь об одном: куда? Во Францию, в которой столь многие восхищались нюрнбергскими законами?[27]27
Свод законов о поражении в правах лиц, отнесенных нацистскими расовыми нормами к евреям. Содержали, в частности, запрет на их сексуальные и дружеские контакты с арийцами. Приняты в 1935 году по инициативе съезда НСДАП в Нюрнберге.
[Закрыть] В Англию, члены кабинета которой поощряли аппетиты фюрера и уж точно не протестовали против преследований евреев? В Америку, охотно торговавшую с нацистами и ужесточавшую иммиграционное законодательство? В призрачно далекую Латинскую Америку?
– На восток, – сказала Леа.
– Там свирепствуют арабы, – пояснили ей.
– Нет, не на Ближний Восток, а поближе к России.
– Как ты наивна, любовь моя, – вздохнул жених. – В Польше нас ненавидят, разве не об этом пишет твой двоюродный дядя из города… никак не могу запомнить его название.
– Зато оттуда можно перебраться в Россию, – упорствовала Леа.
– В Сибирь?! – испугалась мать.
– Может быть, – подтвердила дочь, словно бы обретшая дух мистического проникновения в будущее. – «Сибирь» – красивое слово, не хуже названий тех стран, о которых вы говорите, благоговея.
– Ты стала непозволительно дерзка! – прикрикнул отец. – Что с тобой?! Разве так я тебя воспитывал? Ступай к себе, не мешай разговору умных людей.
И она ушла. К себе.
А утром – одна – из дома.
На столе осталась прощальная записка; а телеграмма, посланная через день из Вильно, в последний раз позвала родных встретиться как можно скорее в этом не худшем из мест нашего мира. В ответ ее прокляли и вскоре сгинули, так и не успев решить, куда бежать.
Леа как-то очень трезво поняла, что ничего, даже отдаленно напоминающего те предрассветные минуты, когда в комнате приехавшего погостить из Америки Джерри Сэлинджера она, устав нахваливать ему своего жениха, вдруг начала снимать платье; смеясь, когда заколки, высунувшиеся из густых волос, цеплялись за освободившиеся от тиранических пуговиц петли; того счастья, которое охватило ее, когда почувствовала, что и молчаливый американец не сомневается: их слияние предопределено богом Случая – и нужно просто перетерпеть, пока утихнет бессмысленное сопротивление пуговиц, заколок и петель, – а Джерри не только не помогает ей раздеться, но впору уже помогать ему самому, поскольку он и с собственной-то одеждой едва справляется: долго, словно тренируя вестибулярный аппарат, раскачивается на одной ноге, высвобождая из штанины другую; потом возится с носками, снять которые тоже не просто, потому что держатся они на подтяжках, плотно обхвативших худые икры…
Такого счастья не будет уже никогда.
…Но как-то жить все равно надо.
Она не рассуждала о замыслах двух диктаторов и о подковерной возне тех, кто вольно или невольно им подыгрывал, – не ее ума это было дело, не ее дней забота. И тогда тем более удивительно, что все время, не занятое работой в принадлежавшей двоюродному дяде гастрономической лавчонке, она зубрила – страницу за страницей – самоучитель не польского, не литовского, а именно русского языка. И когда Красная Армия вошла в Вильно, то старательно заученные книжные фразы, а особенно акцент, – не местечковый, намекающий на суетливую приниженность бормочущего, но венский, столичный, свидетельствующий о гордой снисходительности произносящего, – усладили слух одного из комвзодов. Впрочем, мужчина любит не ушами, а глазами, – и комвзводовские, вбирая в себя некрупную фигурку Леа и ее библейское лицо, не горели похотливым куражом «освободителя», а словно бы благословляли живительный родник, божественно случайно попавшийся ему во время мучительного перехода через пустыню.
Уместно ли приписывать религиозную экзальтацию чувствам обычного, каких много, лейтенанта? Да, если учесть, что он хотя и был детдомовцем, однако происходил из тех старинных русских родов, что не приняли когда-то «никонианскую ересь», потом долго гнобились во имя самодержавия и православия, а добиты были под разговоры о светлом коммунистическом завтра.
Старообрядцы появились в Якутии во времена давние. Хоть и мало их там было, всего-то человек восемьсот, однако не вырождались, обновляя кровь за счет новых ссыльных, к примеру близких к толстовству духоборов. Некоторые оседали на земле хоть и тронутой вечной мерзлотой, но на упорное староверческое тщание откликающейся завидными урожаями, а самые предприимчивые тянулись еще севернее, где жить можно было только за счет охоты, рыболовства и золотодобычи. Конечно, под влиянием полукочевой жизни они становились уже не так истовы в исконной русской вере, но дух упорного внутреннего противостояния лжи сохраняли.
Вот и комвзвода с, казалось бы, выполосканными в пропаганде мозгами вспоминал при виде Леа, что предки его считали дарованной им благодатью готовность предстать в любую минуту перед Властью Небесной, не поддавшись угрозам власти земной.
Именно об этом вспоминал, а о наставлениях особистов и политруков забывал, – и молчал на допросах, превозмогая муки истерзанного тела; молчал, пока вдруг в шепоте, в нескольких якутских словах, с их изобилием удвоенных гласных, не услышал от нового следователя, что тому, представителю одного из древнейших родов народа саха, жаль губить представителя одного из самых известных в Якутии староверческих родов.
Глаза комвзвода от постоянно направленного на них света лампы уже почти ничего не видели, но пятно, которым представлялось лицо сменяющих друг друга мучителей, впервые обрело какие-то черты, – и в них, в чертах этих, стало угадываться нечто человеческое, пусть даже и не сочувствие, но хотя бы какое-то «чувствие». И бывший лейтенант зашептал этому «нечто»:
– Я подпишу, что скажете, подпишу, – только ее спасите…
– Итак, вы подтверждаете показания вашей любовницы о том, что заставляли ее связать вас с немецкой разведкой, которой задумали сообщать секретные сведения? – хриплый, прокуренный голос энкавэдэшника чуть ли не зазвенел от разоблачительского ража, но монголоидные черты лица заметно исказились от того, что предстояло сделать.
– Да.
– Именно с этой целью вы и принудили ее к сожительству?
– Да. Табельным оружием угрожал…
– Что она ответила на требование связать вас с фашистской разведкой?
– Что еврейка, что от Гитлера бежала и мечтает советской гражданкой стать. Но я ей не поверил, подумал, будто она опытный агент и таким образом меня проверяет… Баhыыба, биир дойдулаах[28]28
Спасибо, земляк (якут.).
[Закрыть].
Следователь заставил Леа дать нужные показания, признать себя виновной в недонесении и попросить советское правительство о помиловании.
Предложил начальству выслать ее в Якутию, в небольшой поселок Алдан, недавно переименованный в город. Ну а если там, среди простого люда (в основном старателей и рабочих-горнодобытчиков, интеллигентская же прослойка крайне малочисленна и в четырнадцати тысячах населения неприметна) выживет и осознает, то пусть себе и становится советской гражданкой.
Замыслившего предательство выродка предложил приговорить к высшей мере.
Начальство одобрило.
Родила девочку, до боли похожую на расстрелянного лейтенанта.
«Ах, зачем же Джерри меня от этого уберег?» – первое, что подумала, когда беременность стала несомненной.
И словно бы опять, – как тогда, в Вене, – ощутила на коже живота липкую влагу семени и мысленно поблагодарила комвзвода за то, что, в отличие от Сэлинджера, не был осторожен. И решила, что позже, много позже, разберется: белобрысого ли крепыша или высоченного и худющего брюнета американца, мечтавшего стать писателем, любит она сильнее… непременно разберется, а пока надо вырастить ребенка.
Вырастила дочь – мгновенно располагающую к себе умницу и трудягу. И были в Якутии люди, считавшие Леа – мало того что ссыльную, так еще и чужеземную, – своей и незаметно, но действенно ей помогавшие. Она, живя нелюдимо, их не знала, однако чувствовала: они есть! И отрываться ей от них нельзя!
«Я из Алдана – в никуда!» – часто говорила она все с тем же акцентом уроженки самого имперского из всех городов мира, но никто почему-то не позволял себе насмехаться ни над этим акцентом, ни над ошибками, иногда проскальзывающими в ее размеренной, на вальсовое «раз-два-три», речи: «Меня здесь повезло!»
«Отсюда – в никуда» вместо «отсюда – никуда»; «меня повезло» вместо «мне повезло» – и вполне обыденная фраза приобретала потусторонне мерцающий смысл: ведь если всем нам в итоге – «в никуда», то какая, в сущности, разница откуда: из сурового ли поселка на берегу величественной реки Алдан или из недоброй Москвы на берегу одноименной реки, нагруженной величием гранитных набережных?
«Меня повезло…» Да ведь действительно повезло – и не ей, а ее! Пусть на дрогах повезло – тряских, так ведь не похоронных же! Пусть как груз повезло – но ведь сберегаемый, с объявленной кем-то свыше ценностью; пусть по строчкам в проклятых, слов нет, списках «Оставить под наблюдением» – однако все ж не в самых страшных: «Подлежат ликвидации».
Повезло, поволокло – по будто бы специально для нее протоптанным тропам. Сначала была на них уборщицей в алданской школе; потом почасовиком, «закрывающим» уроки немецкого, французского и – на первых порах кое-как, но через пару лет вполне уверенно – английского. И все на страх и риск директора школы, из того же рода, что и следователь.
«А что делать, – объяснял он инспекторам облоно, – дипломированных учителей-то нет!»
Инспекторы понимающе кивали и «куда следует» не доносили.
В Якутии ухитрялись как-то перебарывать не только безжалостную зиму, но и человеконенавистнические ветры из Москвы – недаром среди немногочисленной интеллигенции ходило грустно-усмешливое: «Духи должны быть французскими, шерсть – английской, а власть, если уж некуда деться, пусть будет советской».
В 60-м же, после шести лет заочного учения-мучения, появился диплом, а вскоре фотография, на которой запечатлелось неулыбчивое лицо Леа, заняла один из прямоугольников на районной Доске почета.
В общем-то, скучная, если посмотреть со стороны, жизнь: Алдан да Алдан, – и только во время учебы в университете иногда, максимум на две недели, Якутск.
Работа, дом – все.
Но каким обожанием – учеников, дочери, внука – была она окутана!
А еще обожанием дяди Мамеда, – Магомеда Муса-оглы Курбанбекова, – хотя ему-то была совсем уже никто: просто мать его тайной жены. Однако наезжал, вернее налетал он в Алдан нередко и рассказывал, рассказывал, рассказывал: то о детстве в Нагорном Карабахе, велением Аллаха – красивейшем месте на земле; то о неисчерпаемых запасах нефти и газа вокруг Самотлора и севернее него, велением Аллаха – неуютнейших местах… А она слушала так заинтересованно, что министр, легендарный геолог и нефтеразведчик, становился похож на ученика, торопливо, в надежде получить пятерку, выкладывающего весь свой запас знаний.
Своей голизною жизнь Леа в Алдане вызывала у жителей поселка почитание, какое вызывает служение чему-то ощутимо доброму.
Тут, будто бы случайно, появилось слово «голизна» – так вот, не случайно оно появилось, ибо «нагота, оголенность» – лишь первые приходящие на ум синонимы, а гораздо реже подразумеваемый, но гораздо более глубокий смысл голизны – это пустынность.
И лишь со светлой, холодной пустынностью Арктики можно сравнить голизну жизни Леа: мужей, хахалей, поклонников и подруг в ней не было никогда; не припоминали даже, чтобы она к кому-то обратилась только по имени… а уж на «ты» – боже упаси!
И к ней, соответственно: Леа Соломоновна, а дочь – «мама, вы…»
И только обожаемый внук Стас все эти «цирлих-манирлих» отвергал: повседневно и заурядно – «бабушка»; чтобы что-то выпросить – «бабуля», «бабулечка»; ради хохмы – «бабец ты мой бесценный!».
Хохмы, надо признать, сомнительной, хотя именно от этого обращения она прямо-таки таяла.
Есть люди маниакально коммуникабельные – они бодрствуют лишь тогда, когда общаются: с другими людьми, с телевизором, радиоприемником, псом, котом, попугаем; оставаясь же наедине с собою, неудержимо засыпают. А вот Леа более всего ценила те часы и минуты, когда ее никто не теребил, не окликал, не беспокоил взглядом, – тогда-то она и жила по-настоящему, тогда ее строгая сдержанность сменялась счастливым мысленным щебетаньем обо всем или ни о чем, тогда ей явственно слышалось то ответное красноречивое молчание Джерри, то ответное молчаливое любование лейтенанта Иннокентия.
И не нужны ей были развлечения и отвлечения и другое общение, ибо ее существование раз и навсегда разделилось на две неравные части: большую, состоящую из обязанностей и долженствований, но без любимых, и меньшую, упоительно свободную – с ними.
Прожила молодость, зрелость, пору «ягодка опять» – и ничего не менялось: все та же тайная внутренняя жизнь, в которую не просто доступа никто не имел, но даже и постучаться никому бы в голову не пришло. И лишь в 1987-м, когда в Алдан прилетел повзрослевший, только-только ставший студентом Стас, выпала неделя ее эпических повествований про деда и Джерри.
Но от деда – вот ведь беда! – не осталось даже малюсенькой фотографии, а Джерри… это продолговатое еврейское лицо, эти черные, рентгеноскопирующие глаза, эти полные губы (она-то их помнила – так щекотно и зазывно целовавшими ее везде!) бабушка с внуком внимательно и любовно разглядывали в зачитанном номере «Иностранной литературы», где был напечатан роман с певучим названием «Над пропастью во ржи».
Вот и получилось, что дед, так и не обретший никаких конкретных черт, в душу Стаса не проник, а знаменитый писатель занял в ней чуть ли не заглавное место, о чем, уезжая, юнец с жестокой прямотой бабушке и сказал.
И у Леа сжалось сердце.
Так сжалось, что ночью она каялась, плакала, впервые называя лейтенанта Кешей, – а он в ответ расплылся в несвойственной его кержацкой натуре солнечной улыбке и позвал свою долгожданную к себе.
И она пошла, успев попросить прощения теперь уже у Джерри.
Пошла, так и не разобравшись до конца, кого же из них двоих, не принимая в расчет, кто жив, а кто мертв, она любила и будет любить больше.
«Бегство – ссылка – дочь – ученики – внук» – вот и вся канва ее жизни. Право же, скудная канва – но случилось так, что еще много-много лет на ней ткались узоры других судеб. Такие удивительные узоры, будто Неведомый Ткач использовал для них нити не обычных цветов, известных нам с детства по забавному мнемоническому стишку: «Как Однажды Жак Звонарь Городской Сломал Фонарь», а совсем иные.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.