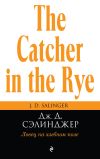Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Без сожаления отодвинул куда-то, отбросил прочь непонятную «Дородную Тетку», писателем, быть может, и выстраданную, но им, Стасом, – явно нет, однако все же не зря вспомнил из Сэлинджера, ибо поверил вдруг в то, что Христос действительно остался нетленным и что частички Его время от времени появляются в людях, в зверях или даже в деревьях…
И одна из этих частичек – во Владе, и именно от нее, от этой частички, в ней, во Владе, так безгранично много преданности оказавшемуся рядом человеку, которого, мало того что не успела полюбить, но и который, что уж греха таить, ей противен…
Потрясающе!
Непредставимо – для все более индивидуализирующегося человечества, для все более звереющей страны!
Но отсюда непреложно следует, что он, Стас, обязан отогнать сон, наваливающийся на него так же тяжело, как навалился когда-то на учеников Христа в Гефсиманском саду, – и утешить. Нет, не утешить, – в этом глаголе слишком явственно слышится «утеха», – а утишить боль, которая ее сейчас мучает, и страх, который она впервые за эти дни так остро ощутила. Для этого, размечтался он, хорошо бы не заговорить, а запеть, словно баюкая! Ничто, кроме песен Окуджавы, конечно, не подходит, и лучшей была бы: «К чему нам быть на “ты”, к чему? Мы искушаем расстоянье…», совсем негромкая, будто бы извиняющаяся[36]36
Музыка написана Булатом Окуджавой, а текст считается его вольным переводом с польского стихотворения Агнешки Осецкой, адресованного поэту.
[Закрыть].
«Потому что песня эта, – думал он, посапывая все так же сонно, – про нас:
…Приятно, что ни говорите,
Услышать из вечерней тьмы:
“Пожалуйста, не уходите”.
Конечно, – думал он, посапывая еще сильнее, – конечно же про нас, ведь “Пожалуйста, не уходите!” – это моя мольба, часть моей мольбы: “Пожалуйста, Влада, не уходите раньше меня туда, откуда все сущее – уже по другую сторону. Давайте уйдем вместе – так же вместе, как брели все эти дни по сопкам”».
Но, непреодолимо сонный, все молчал и молчал – и выговориться захотелось ей. Лучше, конечно, если б можно было это сделать перед кем-нибудь из родных и близких, да ведь у нее таких – только бабушка и не разлей вода подружка Дашка. И очень хорошо, что их здесь нет, зачем же всем сразу погибать?
Придется, стало быть, выговариваться перед этим московским вахлаком, из-за которого все так сложилось; вернее все так чудовищно не сложилось – но сейчас ей почему-то показалось, что он на самом-то деле из тех, перед кем выговариваться можно. Хотя бы потому можно, что, прежде чем на редкость медлительный вахлак сообразит, как ответить, стоит ли охнуть сочувственно или потрясенно воскликнуть: «Ой, бли-и-н!», у нее изнутри все уже выплеснется.
– Ты себя не ругай, что ногу подвернул и нормально идти не можешь, просто невезуха у нас с тобой, вот и все. Если б не месячные, дошли бы, надо было б – тебя на себе доволокла. У меня и на факультете, и в командах кличка знаешь, какая? Лошадь! Я ведь по плаванию мастера сделала, по волейболу тоже сделала бы, если б остальные девчонки вполовину так старались, – это тренер наш так говорит. В общем, как в кино: «Спортсменка, комсомолка, отличница…» Не красавица, сама знаю, но ведь не в красоте же счастье, правда? А в чем тогда?.. Из Воронежа захватила таблетки, мы их глотаем, чтобы не случалось обильных месячных в дни соревнований, – викасол называются, – еще когда на маршрут собиралась, в руках повертела и подумала «Да зачем они, еще ведь нескоро, никаких признаков». А чего стоило, скажи на милость, их в кармашек рюкзака сунуть? Не сунула, вот от этого пустяка и погибнем. Еще позавчера в голову мне стукнуло: «Дура, викасол не захватила, а когда начнется, ты же этот шкаф на себе тащить не сможешь, тебя саму впору будет тащить!» Если б хоть костер развести, сегодня погрелись бы, а завтра уж поплелись как-нибудь – так нет же, еще и с коробком лоханулась. Собиралась в последнюю минуту: ни спичек, ни викасола. На тебя ведь никакой надежды не было, но ты таким уродился, тут уж ничего не попишешь, – а я?! За какие такие грехи Бог меня разума лишил?.. Нелепый ты человек, правда нелепый. Двухметрового роста ребенок. Вот чего сейчас лежишь как бревно? Обнял бы что ли, руку на живот положил – глядишь, легче б мне стало, может, через часок-другой опять смогла бы тебя потащить. Так нет же… Слушай, а ты вообще мужчина? Или голубой, как в Москве сейчас модно? Или я такая уродка? Вроде нет, мужики подкатывались часто. Теперь жалею, что недотрогой была.
«Совсем балда, – думал Стас, не только не выныривая из сна, но еще более в него проваливаясь, – не понимает, что не могу я к ней подкатываться. Разве можно подкатываться к тому, что послано свыше? За всю жизнь ни разу не сказал бы ей: “Я вас люблю”, нет, придумал бы что-нибудь оригинальное и парадоксальное, ближе к Ницше, – например: “Ненавижу, но не могу без вас жить, а только такой и бывает истинная любовь! И ведь учтите: так говорил не Заратустра. Так говорю я”.
Но полно, что для нее, воронежки, Ницше… Или все же правильно – воронежанки? Не перейдем мы с нею на “ты”, не про нас песня. И вообще нет песен про случайности, которые так странно соединяют: про ее практику, мой вояж за документами, некстати пришедшие месячные, спички, викасол… Скоро уже совсем замерзнем… Обниму, вожму ее в себя… как, однако, медленно и тяжело поднимается рука… А умирать, оказывается, не очень-то и страшно. Это оттого что нет боли и просто замерзаю? Или оттого что в обнимку с нею замерзаю?»
В январе 1990-го агония страны ощущалась даже на Камчатке, издавна живущей несколько наособицу, и ранее немыслимое начинало казаться естественным, а естественное – немыслимым.
Исчезновение Влады и Стаса не взволновало ни сорвавшегося в запой начальника геологосъемочной партии, ни вечно полупьяных вертолетчиков, которым была всучена карта другого маршрута, коих было порядка десяти, все они начинались в одной и той же точке, однако заканчивались в совершенно разных, порядочно друг от друга отстоящих. И зря ребята спешили вернуться туда, куда их накануне доставил вертолет – никто в эту точку за ними вылетать не собирался.
На третий день их отсутствия спохватилась, как это часто бывает в России, женщина – та самая кладовщица-повариха-раздатчица. Забеспокоилась, что нет ребят: ни девчонки, шустрой такой, которой мир, по молодой ее дурости, еще казался добрым, ни огромного нескладного парня, который на девчонку так запал, что готов, небось, за нею всю жизнь косолапить, как медведь, которого тянет за кольцо, продетое в его нос, какая-нибудь киношная цыганка, певунья-плясунья.
И мучила совесть, что припасов им выдала мало, а девчонке – так еще и те, которые поплоше.
На четвертый день Валентина (очень подходящее имя для таких хлопотливых) умудрилась (из Анавгая!) дозвониться в Москву, в приемную министра, и сквозь шумы и треск тысяч километров оставить товарищу Курбанбекову сообщение, что посланец его – пропал.
На следующий день министр был в Петропавловске-Камчатском.
Еще через четыре часа – в Анавгае, куда взял только неотступно следующего за ним помощника с рацией спецсвязи, а управляющему «Камчатгеологии» лететь с собой запретил – слишком живо тот напоминал ему, что это сам он, министр СССР, Курбанбеков Магомед Муса-оглы, отец трех дочерей, уже пристроенных в прочных замужествах, послал на гибель того, кого считал единственным сыном.
Послал, не переборов растворенную в крови рабское подчинение большим цековским начальникам, заранее, как он догадывался, распределяющим, кому какое месторождение достанется.
Ну так вот же они – извлеченные из местных архивов данные геологоразведки, интересоваться которыми в министерстве, под присмотром по-доброму прищуренных глаз КГБ было опасно; хотя начальнички из Конторы уже тоже, наверное, делят – не нефтяные скважины, так золотые прииски. Вот они – проклятые папки с грифом «Секретно», валяющиеся в комнате, в которой Стас ночевал, перед тем как сгинуть в сопках.
– Он с девушкой пошел, – прервала какое-то совсем уж похоронное молчание министра Валентина, – не девка, огонь! Она его выведет, вот увидите! Молиться надо.
И Курбанбеков пошел в кабинет начальника партии. Окатил его ледяной водой из ведра, мигом принесенного все той же Валентиной, подождал, пока тот чуть придет в себя и спросил:
– Где их искать?
– Если перепугались, пошли назад, в Анавгай, тогда хана, там лес тайга непроходимой становится, волки шастают и медведи-шатуны… – хрипел начальник. – Но поищем и в этом направлении, товарищ министр, хотя бы дня три поищем, для очистки совести… А может, сообразили ребята, пошли к рыбокомбинату, который в Ичинском. Тогда военных подключать надо, это их зона, вертушки у них мощнее наших и ниже ходить могут. Я сейчас лично…
– Ты сейчас лично, – прервал его Магомед-оглы, – немного просохнешь и начнешь молиться.
– Я не умею.
– Научись. И хорошо молись. Дни и ночи. Я тоже буду молиться, но над этой частью земли все же Христос, а не Аллах главный. Если ребят не найду, застрелю тебя. Пистолет табельный у меня с собой.
Трое суток министр не вылезал из кабины вертолета. Всматривался до рези в глазах сверху; заставлял садиться на каждую мало-мальски пригодную поляну и искал следы.
Ничего.
Ни малейших признаков того, что по направлению к Анавгаю вообще кто-то двигался.
На четвертые сутки по рации спецсвязи Курбанбеков вышел на Министерство обороны, попросил поднять военные вертушки для облета зоны вдоль побережья Охотского моря. Там потребовали санкции чуть ли не генсека, но помощник «Самого» не дал министру, академику, одному из самых знаменитых геологов мира, услышать голос Президента, Главнокомандующего и прочая, прочая, прочая.
– Невозможно! – ответил, как обрубил. – По таким ничтожным поводам на связь с первым лицом страны не выходят. Действуйте по своей вертикали, через секретаря ЦК, номенклатурой которого являетесь.
И Курбанбеков понял, что ни Сам, ни его холуи разговаривать с ним не станут, – уж слишком он хорошо и, главное, очевидно для них знает, чего все они на самом деле стоят.
И впервые в жизни очень захотелось заплакать. Оттого что скоро останется не только без страны, в которой работал и жил самозабвенно, но и без любимой, которая ему смерть сына, конечно же, не простит.
Думал и о самоубийстве: сил на то, чтобы пристрелить начальника партии, у него, конечно же, не хватит, но приставить дуло к собственному виску сумеет…
Так бы, наверное, и сделал, но почему-то стыдно было перед Валентиной. Уж так упоенно она верила, что ребят спасут молитвы – ее и не выходящего из своего кабинета начальника, взявшегося читать вслух Библию с самого начала Книги Бытия. Читать подряд, запинаясь и чудовищно перевирая слова.
Курбанбеков не стал выходить на командующего округом, а связался прямо с командиром вертолетного полка.
– По уставу обязан отказать, но вы обязательно подумаете, что отказываю вам, как азербайджанцу. Не хочу, чтобы так подумали, поэтому завтра на рассвете подниму пять бортов, – ответил тот, выслушав сбивчивый рассказ донельзя измученного человека. – Сами можете лететь на любом. Координировать поиски буду лично.
– А как же ваше командование?
– Товарищ министр, полк здесь меньше года, после Афгана. Чем хотите клянусь, «стингеры» гораздо страшнее любого командования.
– Как ваша фамилия, полковник? – спросил Магомед, уловив знакомый акцент.
– Варданян, товарищ министр! Бывший бакинец. – И добавил совсем уже дружелюбно, как во время счастливо случившегося застолья: – Главное, что мы с вами – люди.
– Скоро, полковник Варданян, армянин азербайджанцу такое говорить не станет. И азербайджанец армянину – тоже. И вообще, человек одной национальности – человеку другой национальности.
– Ничего, Магомед Мусаевич. Говорить, может, не станут, а помнить будут. Особенно бакинцы.
– Да проснись же ты!.. Кричи, прыгай, маши красной курткой, чтобы заметили! Господи! Какая у тебя рука тяжелая, из-под нее не выберешься…
Стас очнулся, наконец.
И услышал гул – первый за почти две недели звук с равнодушного неба.
С трудом поднялся, схватил ярко-красную куртку, но даже спросонья, с оледенения, прежде чем закричать, запрыгать на одной ноге и замахать, догадался, что так Влада может совсем замерзнуть.
Снял с себя свитер, набросил на нее – и так это было трогательно некстати, что она опять заплакала, вот так вот, совсем по-женски радуясь рушащемуся с неба долгожданному гулу.
Заплакала навзрыд и сбилась в комочек под необъятным свитером Стаса, стойко пахнущим его телом, и подумала с некоторой даже безнадежностью, – сбивчиво, словно бы и в мыслях заикаясь от рыданий, что этот запах будет ее преследовать долго.
Может быть даже, всю жизнь.
Курбанбеков, выпрыгнув из кабины, едва только вертолет приземлился, ликовал:
– Шукюр Аллаха, оглум! Шукюр ки, тапдым сэни. Сэни тапмасайдым, ананын узунэ баха бильмэздим?![37]37
Хвала Аллаху, сынок! Хвала Ему, что нашел тебя! Если б тебя не нашел, как твоей матери в глаза бы смотрел?! (азерб.)
[Закрыть]
Он еще и готов был петь, как ашуг[38]38
Профессиональный поэт-певец у народов Кавказа (от тюрк. ашик – влюбленный).
[Закрыть], и ничего, что ни пилот, ни штурман, ни едва ковыляющий Стас не понимали, о чем его вопли, о чем будут его песни. Совсем это неважно, потому что незамерзающее в этих краях море и собравшиеся чуть поодаль сопки, покрывшие свои вершины бело-зелеными платками, понимали каждое счастливое слово; и винт вертолета, кружащийся, как его собственная полуседая дурная башка, понимал каждое счастливое слово – и плевать им было, на каком языке оно выкрикивалось или пелось.
Он бежал к Стасу и гордился, что бежит так легко в своем любимом тяжелом кожаном пальто на грубой выделки шерстяной подкладке – том самом, в котором по дороге на казенную министерскую дачу заехал в издательство «Недра»… Думал, что на пять минут заезжает, но увидел подчеркнуто не подобострастную женщину-редактора – и оказалось, что не заехал, а дошел, добежал, донесся, дополз.
А обняв этой женщины сына, за семь с лишним лет успевшего стать родным и перерасти его на целую голову, министр не преминул прокричать, теперь уже беззвучно, первому лицу страны – прокричать, чуть ли не приплясывая и вызывающе демонстрируя фиги; так прокричать, будто бы кровь его от чинопочитания, подхалимажа и всяческой подобной гадости враз очистилась: «И ты бы быстро бегать умел, если б тысячи километров по горам Карабаха, а потом по болотам и топям Западной Сибири отшагал, а не по паркетам их отскользил. Но теперь уже никогда не сможешь. И счастлив так не будешь! И свободен так никогда не будешь! Ухожу я, понял, ты, шайтаном меченый?!»
– Дядя Мамед! – кричал Стас. – Дядя Мамед! Девушку надо поскорее в салон, замерзнет!
– Молодец! – похвалил Магомед. – Настоящий мужчина всегда должен о девушке думать!
Так же легко понесся к Владе, подхватил ее, хоть исхудавшую килограммов на двенадцать, однако все ж не пушиночку, на руки – и понес к вертолету, приговаривая:
– Валентина так и сказала: «Она его выведет». Ай, девушка-джан, ай, девушка-джан!
Штурман, несший куртки бродяг и набитый камнями рюкзак Влады, за министром едва поспевал и удивлялся, какие они, однако, бывают шустрые.
Доставили Владу в Анавгай.
Курбанбеков, поклонившись и прижав руку к сердцу, сказал Валентине: «Спасибо!», хотел было добавить еще что-нибудь очень цветистое, похожее на настоящий кавказский тост… Но почему-то не добавил.
И вертолет полетел в Петропавловск-Камчатский так быстро, словно в Анавгае ему совсем не понравилось; так быстро, что Стас не успел впопыхах спросить у Влады ни адрес ее, ни телефон.
Что ж, удивилась, досадливо пожала плечами, потом отлежалась денек, слопала, яростно молотя челюстями, двойные порции всего самого вкусного, что сумела изобрести и изготовить Валентина – и, не маясь ни желудком, ни воспоминаниями о Стасе, отправилась камералить.
Начальник партии Библию все же дочитал. Вслух. И так это его потрясло, что, вычеркнул из головы память о жене, бросившей его в анавгайской глуши, вытравил из организма потребность в алкоголе – и вскоре стал любимым немноголюдной своею паствой пресвитером одного из дальневосточных приходов.
Валентина же, на которой он в конце концов женился, очень естественно и быстро превратилась в хлопотливую «мать-командиршу» общины.
В 1990 году Стас еще ничего не знал о настоящей астрологии, однако позже, начав ее изучать, стал проецировать новообретенные знания на недолгое свое прошлое – и удивляться, насколько точно все совпадает.
И то, что дядя Мамед, уйдя в отставку, начнет преподавать в том же Губкинском, но вскоре умрет, измученный не болезнью, а незаполненностью жизни; что обе жены его, – и законная, некогда любимая, и мать Стаса, любимая до последнего вздоха, – совсем недолго останутся на земле, можно было вычитать из астрологических таблиц. И то, что дочери его, Гюльнара, Тамилла и Нигяр, все три восточные красавицы, однако каждая на свой лад, неожиданно станут для Стаса настоящей, более чем кровной родней, можно было в этих таблицах увидеть…
Даже о самом главном – о том, что будут они с Владой друг для друга насущностью и проклятьем, – таблицы рассказали. Сначала Тамилле, а потом и ему. Однако все это не в 1990-м, а позже, много позже.
Рассказ о долгом блуждании Стаса и Влады и о чудесном их спасении до сих пор по Камчатке гуляет. Приправленный, конечно же, изрядной дозой трагизма (а иначе легенды не возникают): бродили не десять дней, а почти месяц; нашли их лежащими в обнимку, скелетообразных и почти оледеневших; еле откачали, причем ему пришлось ампутировать обе ноги, а ей, почему-то, грудь, – так и бедуют, не расставаясь, до сей поры…
Впрочем, Влада и Стас сами эту историю никогда не слышали, даже и о существовании таковой не знают, но вот Сэлинджер – потом, уже вернувшись к себе в Корниш и приступив к роману, – сказал себе, что только так могут рождаться легенды о всепобеждающей силе любви.
Эпизод третий
Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика.
Фридрих Ницше
Все тогда же, 27 августа 2006 года, Сэлинджер, вспоминая глаза Леа, машинально перебрал в памяти лица других своих женщин. Какие-то из них промелькнули в памяти безымянно, только как очертания пухлых губ или вздернутых носиков, другие вызвали отклик, затихший, как эхо в горах, куда вернуться так и не удалось… И только об Уне O’Нил, Уне Чаплин, он подумал, как всегда, с яростью.
Впрочем, тоже как всегда, ярость быстро сменилась сладким чувством всецелого утоления жажды справедливости, и словно бы возникшая перед глазами фотография была тому причиной.
Фотография, отщелкнутая в далеком 77-м здесь же, в Веве, близ виллы, в архитектуре которой, как в застывшей музыке словно бы слышался припев: «Жизнь хороша!».
Стоит ли говорить, что вилла принадлежала Чарли Чаплину, которого Джей Ди, – и мысленно, и вслух, – называл не иначе как Кривлякой.
Итак, ему вспомнился Кривляка в саду виллы «Жизнь хороша!».
Но вспомнился не в образе бродяжки из фильма «Огни большого города», не в образе благообразного пожилого актера из фильма «Огни рампы». В общем, не Кривлякой, а тем, кем был в 77-м: восьмидесятисемилетним маразматиком, прикованным к креслу и посмотревшим в объектив с таким ужасом, словно вдруг, – наконец-то! – осознал скорость своего распада.
Джей Ди. За рукоятки кресла держится Уна, постаревшая и подурневшая мать восьмерых детей. Она мрачна, она предвидит грядущие тринадцать лет одиночества и неумеренного потребления алкоголя.
Но вот что не предвидит: то, что когда мне, некогда преданному ею Джей Ди, тоже стукнет восемьдесят семь, я буду приковывать внимание всего читающего мира и менять жен – одну, молодую, на другую, еще моложе.
Она мрачна так, словно впервые спросила себя: «Неужели я все же поставила не на ту лошадь?»
Я не злорадствую, о нет! Но и не сочувствую, поскольку вы сами – ты, моя дорогая Уна, и ты, фигляр, притянули возмездие на свои глупые головы: нельзя было ласкаться и нежиться в те минуты, когда лишь неслыханное везение швыряло меня на землю чуть раньше, чем это сделал бы осколок разорвавшегося рядом снаряда.
Вы говорите: «Ах, это была такая любовь!» Ладно, не спорю, пусть даже и «такая», но в минуты, когда меня столь старательно убивали, – заниматься ею было нельзя!
Стас. Ты был обижен на Чаплина и его жену при их жизни, пусть! Но измываться над мертвыми?! Называть великого артиста кривлякой?! Не знаю, что мне мешает встать и плюнуть в твой стакан! Наверное, только то, что тебя любила бабушка Леа.
Джей Ди. Не стану утверждать, что еще мешает лень. Зато скажу, что лишь ханжа способен осуждать меня за отношение к памяти Уны и Чарли. Я никогда не желал им зла, но теперь – да! – удовлетворен, что их настигло возмездие. И не дай тебе Бог мечтать когда-нибудь выжить ради любимой, а потом узнать, что она в это время пристраивалась к богатому потаскуну!
Стас. Слушай, до меня только сейчас дошло: мы молчим, но умудряемся при этом разговаривать! Как это возможно?!
Джей Ди. Какая разница как! Возможно – и все тут!.. Ладно, так и быть: я перестаю вспоминать об Уне и ее муже, а ты, доморощенный ницшеанец, больше не будешь затаскивать меня ни по эту, ни по ту сторону добра и зла[39]39
«По ту сторону добра и зла» – одна из самых знаменитых работ Ф. Ницше.
[Закрыть] – я уже побывал и там и там! Лучше рассказывай дальше. Нет, не так: лучше расскажи все еще раз, с самого начала, но как можно медленнее, буквально пережевывая каждое слово. Даже если будешь говорить, как и раньше, молча. Особенно подробно – о твоей бабушке Леа, о ее жизни… Про эту местность, где так холодно, повтори… только учти, я и географию-то Соединенных Штатов плохо знаю, а на карте Европы найду разве что Париж, в котором целую ночь пьянствовал с Хемингуэем. В крайнем случае, попытаюсь обнаружить еще и городки Шербур, Хюртгенвальд и Эхтернах, встречавшие меня как освободителя.Я заметил, кстати, что ты стараешься рассказывать как можно ярче и интереснее, – хочешь соответствовать случайно встреченному известному писателю? Американца бы в подобной ситуации прежде всего интересовало, соответствует ли известный писатель ему, суверенному и неповторимому. Психопат женевец[40]40
Имеется в виду Жан-Жак Руссо.
[Закрыть] заразил все же человечество своей неуемной тягой к плебейству, и все со всем стало равноправным: злое – с добрым, талантливое – с заурядным. Ура болоту «Общественного договора»!…Тот мой рассказ получился слабым, ты прав. Зато сама Леа была прелестно некрасива. Далеко не бесхитростна, бесхитростных женщин вообще не существует, но она, рассказывая про жениха, так по-детски старалась быть примерной и разумной! Потом поразила меня еще более смешной решимостью разом стать взрослой, а я и не понял, что мне дарят воспоминание на всю мою последующую жизнь. Да и откуда могло взяться это понимание у юнца, вскоре закружившегося вокруг Уны, самой красивой девушки Нью-Йорка, дочери свежеиспеченного нобелевского лауреата? Чудовищно! Ухлестывал за самочкой, желавшей продать свое девство за воспетое всеми газетами свадебное платье и головокружительный банковский счет – а в это время Леа спасалась бегством и оказалась в глуши похуже Хюртгенского леса…
Боже, до чего же сержанту Сэлинджеру было в этом лесу холодно! Только немцы своими методичными артобстрелами спасали его от заледенения, не давали уснуть надолго, заставляли соревноваться: он ли быстрее перебежит из одного окопа в другой или какой-нибудь Ганс-пушкарь, которому велено лупить не по квадратам, а по сержанту Сэлинджеру, строевой номер 32325299, поймает его в свой прицел.
«Мне достался хороший номер, – думал тогда сержант Сэлинджер, на бегу прижимаясь к земле, – сумма цифр в нем тридцать пять… И дважды повторяется тридцать два… Значит, хотя бы тридцать пять лет проживу, – думал он, чертовски медленно и волшебно быстро переносясь в соседний окоп, столь же мертвенно холодный, но отчего-то более безопасный. – Ладно, пусть не тридцать пять, так тридцать два…»
А потом, через полчаса, максимум час, все тот же сукин сын Ганс-пушкарь гнал его в новое убежище, наконец-то по-настоящему спасительное, в котором будет тепло, – и не час, а целых два часа… или до тридцати пяти лет… или ладно, хотя бы до тридцати двух.
В убежище вне леса, вне Бельгии, вне Европы, вне Земли.
Эти чудодейственные перебежки сберегли его и еще пятьсот столь же конвульсивных – из тех трех тысяч, что числились в Двенадцатом полку.
Всю свою долгую послевоенную жизнь Джей Ди избегал этих воспоминаний о методично гонявшихся за ним артобстрелах и смертельном холоде, прятался от них то в одном тексте, то в другом; убегал, переносился из одной медитации в другую так же чертовски медленно и волшебно быстро, как из окопа в окоп в Хюртгенском лесу…
Но 27 августа 2006 года, в Веве, где покой и уют словно мурлычут или журчат, как альпийский ручеек, они, эти воспоминания, настигли его. И спасти его от них могла бы только Леа – он понял это с потрясшей его самого ясностью. Понял и захотел увидеть ее немедленно. Захотел изо всех сил, но вот беда – собственных сил на исполнение безумных желаний уже не осталось – и тогда ему будто бы помог слившийся в единый импульс обжигающий темперамент семьи Глассов и подростковые метания Колфилда; ему помогли все герои всех его вещей, написанных и не написанных.
Помогли все, кому он так щедро раздавал когда-то свои желания и стремления, и все они, им одаренные, воззвали в эту секунду вместе с ним.
И тогда…
Официант Морис, наблюдавший за посетителями с доброжелательным, но холодноватым интересом, обнаружил, что они, словно бы устав смотреть не отрываясь друг на друга, вдруг уставились, почти вывернув головы, на крайний столик – на тот, что почти всегда пустовал, ибо стоял к проезжей части улицы Жан-Жака Руссо чуть ближе, нежели предписывали строгие законы кантона Во, и выхлопы двигателей редких автомобилей ощущались сидящими за ним изнеженными швейцарцами болезненно остро.
А вот почему уставились, Морису было невдомек. Да и никто бы этого не понял, ибо никто, кроме этих двух «собеседников», не заметил бы, как в плетеном кресле расположилась Леа.
Сэлинджеру хотелось видеть ее все той же молоденькой, но чинной венкой в темно-синем платье с перламутровыми пуговицами – мерцающими, как маячки от ложбинки у основания длинной, очень прямой и горделивой шеи до самого низа впадины между зримо остренькими грудками.
Такой и увидел.
А Стасу показалось, что бабушка «вошла» в кафе, как в класс, – в традиционном сером шерстяном платье, которое носила всегда, даже в дни короткого, но жаркого алданского лета; платье, настолько похожем на доспехи, что и пуговицы на нем были почти незаметны.
И словно бы услышал, как эта обожающая его учительница начала со строгих замечаний:
Леа. Стасик, сядь прямо! Что это ты так развалил ноги? Никто, право, не сомневается в наличии у тебя гениталий. Джерри, почему ты общаешься с моим внуком так пренебрежительно? Он – хороший парень, у него имеются, конечно же, определенные недостатки, но кто вообще без них? Ты, например, только с ними – и хотя бы поэтому будь добр демонстрировать по отношению к моему мальчику то расположение, которое, надеюсь, еще питаешь ко мне! Стас, дорогой мой, твой вид начинает меня раздражать. Сядь, наконец, прямо, сомкни ноги и запахни рот!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.