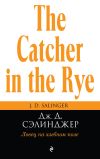Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Но это все о контурах и формах, а непрерывные перемещения Влады в воде необходимо воспеть особо: метров двести бурного кроля, затем молниеносный разворот к Стасу, который своим размеренным стилем брасс-топор одолевал к тому времени метров сорок, не более. Приближалась к нему энергичнейшим «дельфином», неукротимая, как возмездие; но лишь только Стас в нескольких метрах от себя видел радостно улыбающуюся ему физиономию, как тут же понимал, что в очередной раз удостоен награды, – пусть в шапочке, в устрашающих очках и с прищепкой на носу, однако все равно награды.
– Не устал?! – спрашивала она.
– Устал, – сетовал он.
– Отдохни! – требовала Влада. – Ляг на спину и дыши глубже!
Стас так и делал, а она скользила вокруг него брассом столь стремительным, что оставалось лишь вздыхать завистливо, представляя, как сам он выглядит со стороны, совершая вроде бы такие же движения; когда же объема легких на вздохи нужной глубины начинало не хватать, ухитрялся сдернуть с нее шапочку, попутно цепляя и очки, и прищепку.
– Дурак! – сердилась она, – Опять за всем нырять! Когда ребячиться перестанешь?!
Впрочем, ему-то слышалось: «Попробуй только перестань!»
Жизнь в коттедже на берегу океана не была упорядоченной; в их времяпровождение не было ни ритуальных трапез, ни обязательного совместного высиживания у камина, растапливаемого, когда требовалось хоть как-то согреть изнутри продуваемый ураганным ветром дом… Просто как-то само собою получалось, что, сталкиваясь где-то, они долго потом не расходились по своим углам: он рассуждал, разглагольствовал, иногда витийствовал, – она благодарно слушала, изредка вставляя фразы, всегда короткие и очень точные.
Нет, никаких ритуалов, разве только ее стихи, всегда из восьми строк, которые она читала раз в месяц, так их и объявляя: «Июньское!» «Июльское!» – да и то, слышались в них отголоски не здешней, не калифорнийской, а тамошней еще, уже прожитой ими жизни.
Особенно ему запомнилось «Августовское»:
В августе зреют арбузы и дыни,
А виноград набирает глюкозу.
В августе – с древних времен и поныне –
Реже бушуют уставшие грозы.
Вслед за листвою надежды поникли,
Вслед за полями тревоги уснули…
В августе я тебя тихо окликну
И поцелую. Нежней, чем в июле.
А ее волосы были предметом его неустанных любований: регулярно осветляемые, они все же намекали на природную свою черноту, – так в самых бодрых речах любого политика неизменно чувствуется усталость от вранья. И поражали в Наташиных волосах густота и пышность: ниспадая гладким ровным потоком по всей ширине спины, они, казалось, готовы были укутать еще и плечи, и грудь – подобно шали, без малейшего просвета.
Нечто очень прихотливое представлялось Стасу, когда он смотрел на это богатство: у окна высокой башни – заточённая в ней принцесса; у подножия – распевающий балладу менестрель. И вдруг, тронутая его пением, она распускает косу, бесконечными кругами венчающую ее голову, и волосы струятся вниз, скрывая под благородной серебристостью потемневшую от времени стену – и менестрель так ясно, так благодатно ясно понимает, что ни черта не понимает: ни зачем он здесь, у этой башни, ни зачем поет томящейся в ней принцессе, когда петь, точнее рассуждать о философии, литературе и жизни, ему положено совсем для другой, не-принцессы, скрывшейся от него в не столь романтическом заточении.
Предрождественская суматоха излечила, казалось, Стаса от воспоминаний о Владе; ему уже казалось, что он не скучает по ней, а всего лишь остаточно «поскучивает»… Может быть, так оно и было, только когда перед Новым годом она позвонила и прокричала, что бабушка свалилась в приступе невесть откуда взявшейся эпилепсии под колеса не успевшего затормозить «Ленд Крузера», он даже не подумал сказать Наташе, что уезжает.
Он даже и не успел понять, что уезжает, но так шептал в трубку о страшном-страшном несчастье, что вышептал-таки у «Американ Эйрлайнс» билет на ближайший рейс в Женеву.
Потом закидывал в сумку, что попадалось под руку, – и все это время хозяйки коттеджа словно бы и не было, словно бы унеслась она облачком, посеребренным лучами поспешно заходящего солнца… Но когда стал звонить, чтобы заказать такси, она вдруг появилась с фразой: «Перестань суетиться, я уже двигатель прогрела».
Они молчали всю неблизкую дорогу до аэропорта, молча пили кофе весь час непредвиденной задержки рейса, молча шли ко входу на посадку, и только там она, как внезапно проснувшийся сказитель, нараспев прочитала то, что могло бы быть названным «Декабрьским»:
Как же молчанье виснет тяжело!
Заговори скорей о чем угодно.
Как друг приветливо, или как недруг зло,
Или как первый встречный – беззаботно.
Мне пожелай блистательных побед
Во всех делах и даже в жизни личной…
Но лучше я пойду, а ты мне вслед
Взгляни, как посторонний, – безразлично.
И пошла прочь, но он посмотрел ей вслед не сразу, а когда пересек черту, означающую границу. И хотя невозможно было увидеть, но все же чудом увидел последний серебряный проблеск, и подумал: можно сколько угодно делать вид, будто встретились они странно и разойтись суждено странно же – только теперь он с нею связан. Не как с Владой, – объятьем на краю пропасти, – однако тоже чем-то очень прочным.
Может быть, дивными ее волосами?
А Влада надолго в Веве не задержалась. И ведь предчувствовала, что Стас, призывая не крушить и не брушить, имел в виду что-то такое ей неизвестное, но страшное… И еще про детей что-то говорил: мол, не надо бы… но твердо решила: хватит прислушиваться к вранью этого якобы гения, а уж предателя – так без всяких «якобы»!
В начале июня прилетела в Москву, не прицениваясь, купила новое «ауди» последней модели, наняла бывших классных «топтунов» из наружки Московского управления КГБ и послала их в Липецк, куда еще в 92-м с неплохой по тем временам суммой вернулся с гастролей Олег, ее бывший первый муж. Спецы разузнали, что в делах Олег оказался далеко не хват, несколько раз разорялся и остался в конце концов при двух притулившихся один к другому типовых гаражах в расположенном на окраине города кооперативе. Объединил их под одной крышей и повесил грубо намалеванную, но гордую вывеску «Автосервис. Шиномонтаж. Балансировка. Три в одном». На первый взгляд, все действительно держится на нем одном, однако, якобы в подручных, ходят у него два соседских мужика, тихие алкоголики с золотыми руками, у которых кое-какой мастеровитости все же поднабрался, правда, платит им гроши, бдительно следя, чтобы не уходили в запой одновременно.
Сам не пьет. Совсем. Без регулярной физической нагрузки и на дешевом фастфуде, который в конце девяностых предлагали на каждом углу, погрузнел и оплыл. Покорно расположился под каблуком у жены – старше его на несколько лет, три года назад ушедшей из милиции в небольших чинах, но с полезными связями, позволяющими решать мелкие дела за небольшие, однако часто перепадающие деньги. Поначалу за мужем неусыпно следила: не водит ли баб в свои мастерские, и только ли для отдыха стоит там узкий топчан с надувным матрасом, надувною же подушкой и суконным одеялом, – ненадувным, обычным, поскольку только такие и выпускаются. Убедилась, что не водит, потом на собственном опыте познала, что он до «этого дела» не сильно охоч, да и перестала контролировать…
И в самом деле, никаких контактов с женщинами, а также определенного сорта мужчинами за почти месяц плотного «ведения объекта» спецы не обнаружили.
Все, как тогда говорили, «срасталось», и Влада помчалась в Липецк на своей новехонькой «ауди». И когда при воспоминаниях о том, как на совсем другой «ауди» Стас вез ее из Гродно, особенно сильно хотелось плакать, уговаривала себя, будто это оттого, что на заднем сидении не подлаивают и не поскуливают Яшка и Мишка, а по Беловежской Пуще давно уже не носятся Сашка и Пашка.
Исключительно от этого хочется плакать, ибо проклятые ею мужики России, все подряд: русские, украинцы, евреи и неожиданно попавшие под раздачу эвенки ни одной ее слезинки недостойны.
В июне клиенты как сквозь землю проваливаются, и Олег отпустил по домам тихих своих выпивох, тем паче что находились они в явно предзапойном состоянии. А отпустив, будущему их блаженству все же слегка позавидовал, однако лишь слегка, ибо был, пожалуй, даже благодарен властной свой жене, которая во время свадебного застолья, не убрав с лица счастливое рдение невинной новобрачной, пообещала нежным шепотом, когда увидела, как лихо отправил он стопку водки в жадно распахнутый рот: «Еще раз увижу, что так пьешь, засажу пожизненно, не сомневайся!» А когда, поверив ей безоговорочно, он приник к горлышку запотевшей бутылки солоноватой «Липецкой», добавила еще нежнее: «А если кого-нибудь трахнешь ненароком, то и ее засажу тоже – ты уж не забудь бедолагу предупредить, прежде чем захочет она ноги раздвинуть».
Да, как ни странно, был благодарен, – да здравствует счастливое рабство! – ведь спутница жизни стала умелой водительницей по жизни и разом оградила его не только от всех мыслимых соблазнов, но и от опасных наездов, подстерегавших тех, кто тщился заработать на сносное существование. Зато снисходительно позволяла поглощать иностранные детективы, одни и те же, по кругу, числом около ста, включая как признанную временем классику (Конан Дойл, Агата Кристи), так и современные (Реверте, Акунин). Особенно Олега восхищал Пуаро, чьи финальные разъяснения-разоблачения представлялись ему похожими на его собственные, бывшего танцовщика-премьера, каскады прыжков, а горделивое «О, мои маленькие серые клеточки!» звучало, как первый такт оркестра, дающий сигнал: «Взлетай!»
Вот и в тот июньский день, лежа на топчане, Олег испытывал такой прилив бодрости от потока блестящих силлогизмов пузатенького бельгийца, будто бы самолично разминал мышцы ног перед выходом навстречу всплеску аплодисментов, как вдруг, почти бесшумно, в распахнутые ворота сиротливо пустующего гаража уверенно вкатила и замерла над ямой немыслимо прекрасная тачка. А выпорхнувшая из нее немыслимо элегантная женщина, парфюм которой легко покрыл навсегда, казалось бы, воцарившийся дух потрошения уставших авто, воскликнула: «Олежек, как же я по тебе истосковалась!»
И он взлетел с топчана и, уложившись в три полетных шага, зафиксировал себя в той точке у ворот, из которой должны были быть видны ангелы, доставившие на белоснежных своих крыльях Владиславу и «ауди».
Обнаружил не ангелов, а крепких парней при джипах по обе стороны от гаражей, – и понял, что жена его, мелкая ментовская сошка, против этакой силы не попрет, и, закрывая большие ворота, вдохновенно свершил с ними нечто вроде гран па-де-де… а вслед за тем свершил еще и второе, уже не гран, с маленькой калиткой…
А не забытая, совсем, оказывается, не забытая им Владислава раскладывала тем временем кресла в салоне чудного авто.
Опомнился он от пережитого потрясения часа через два после того, как Влада уехала в одном из джипов, оставив над ямой «ауди», а в бардачке его – дарственную, а в багажнике его – кейс с сотней тысяч долларов. Бросила на прощание: «Олег! Купи себе автосервис!» – и эта фраза напомнила бывшему танцовщику что-то очень давнее, которое долго и тяжело ворочалось в одурманенной явленным ему чудом голове, пока наконец не вылилось в поначалу непонятое им самим слово «задешево».
Потом понял.
Понял, что задешево отказался от своего таланта, а ведь у него был настоящий талант, от которого никак нельзя было отказываться, тем более, так задешево; что задешево терял свои предприятия – и даже эти два гаража, да и себя самого в придачу, – задешево, в обмен на какую-то мифическую безопасность, отдал во владение жене; что задешево уступал когда-то мерзкому Эдуарду свое тело, а за несколько тысяч баксов, полученных за гастроли (задешево!), уступил тело любившей его Владиславы какому-то другому мужику… Да черт бы с ним, с мужиком, так еще и какой-то другой жизни уступил! – жизни, в которой сверкающие брючные костюмы небрежно швыряются на далеко не сверкающий пол; в которой каждый дюйм светло-каштановой, в цвет волос, загоревшей кожи как-то по-своему гладок и по-особому шелковист; в которой страстность, наконец, это не утоление голода, а полет в высоких премьерских прыжках.
И заплакал, – рыча и кашляя, – оттого что Владислава, сказав: «Олег! Купи себе автосервис!», пошла, не оглядываясь, к одному из джипов, а он, босой, не старающийся ее удержать, смотрел ей вслед, как последний оставшийся в заброшенном селе старик смотрит вслед автобусу, случайно и ненадолго притормозившему у проржавевшей и исписанной похабщиной остановки.
И понял, что ему напомнила фраза Владиславы; а поняв, словно бы вновь оказался хохочущим в кинозале, на экране которого влекущая женщина говорит постаревшему, небритому, щеголяющему в подштанниках белому генералу: «Чарнота! Купи себе штаны!»[65]65
Фраза из одноименного кинофильма по пьесе М. Булгакова «Бег».
[Закрыть]
И заплакал еще горше, уже не рыча, а скуля.
Влада была уверена, что забеременела – настолько уверена, что, упорхнув из Липецка, месяц прожила с бабушкой в люксовом номере знаменитого санатория под Воронежем, и случившаяся там первая тошнота была словно бы ритуальным посвящением в орден обезумевших от счастья будущих мам.
Сказала крепкой старухе, сжимающей искусственными челюстями тонкие дамские сигареты так крепко, будто по– прежнему смолит «Беломор» своей молодости или «Казбек» – зрелости: «Готовься, ба! К Новому году за тобой приеду. Обживешься в Швейцарии и станешь там работать в новой пожизненной экспедиции – правнучку или правнука растить. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат!»[66]66
Из песни, ставшей гимном геологов (музыка А. Пахмутовой, стихи С. Гребенникова и Н. Добронравова).
[Закрыть]
Бабушка, умничка самая родная, не спросила, а где же муж, не запротестовала против Швейцарии, о которой раньше и слышать не хотела, только сказала неопределенно: «До Нового года дожить еще надо…»
А 30 декабря, когда приобретенная за почти три миллиона швейцарских франков пятикомнатная квартира была полностью подготовлена и к приезду бабушки, и к появлению ребенка, Влада узнала, что из-за эпилепсии ни в одной экспедиции готовый бесконечно крепиться и держаться геолог не был.
Звоня Стасу, который оказался безумно далеко, в Калифорнии, Влада думала, что умрет, если он не ответит своим обычным «Где едим?».
Ответил именно так, но тогда она подумала, что умрет, если он не кинется немедленно к ней на помощь – потому не кинется, что, рассказав о гибели бабушки, обмолвилась: «А я беременна. От Олега».
Сказал:
– Вылетаю ближайшим рейсом. Мне все равно, от кого вы беременны. Это мой ребенок.
– Девочка.
– Значит, это моя девочка.
И когда, в новогоднюю ночь 2001 года, они летели в Москву; когда Стас, отвлекая Владу от грустных мыслей, трещал без умолку все три часа полета и поглаживал ее тугой, уже заметно выступающий живот, то это, с поправкой на умчавшиеся куда-то три года, было, в общем-то, сродни их слиянию в вагоне.
И потому она все же решилась спросить:
– Ты меня любишь?
В который уже раз за всего-навсего сутки, подумав, что умрет, вот прямо тут же и умрет, если он опять заведет волынку про Заратустру.
Но он ответил просто:
– Да, я тебя люблю.
Впервые сказав ей «ты».
И хотя нельзя перед похоронами самого близкого человека чувствовать себя счастливой, она почувствовала.
В первый раз просто сказал, что любит; не мог не сказать, потому как если уж убежать от страшного не удается, то встречать его надо, как смертельной мощи вал, – грудью.
В первый раз сказал, но и сразу же в истинности сказанного засомневался – трудно все же, устраивая голову на плахе, питать к ней, к последней своей подушке, подлинно нежные чувства. Трудно смириться с тем, что девятью ночами на Камчатке, а еще четырьмя ночами в Гродно, а еще той ночью в поезде, после скупки, весь свой лимит всепоглощающего счастья, даже и не осознавая, что это и есть счастье, они исчерпали…
И еще потому засомневался, что глаза его невольно искали то, чего в салоне самолета не могло быть в принципе, – серебристый блеск Наташиных волос.
Влада не сомневалась, что родит легко, без осложнений; даже на обезболивание, согласилась только после долгих уговоров своего врача.
Нет, не боялась она ничего, не было ни одной причины бояться, но откуда-то взявшаяся тревога нарастала. Стасу она о ней не говорила, старалась держаться, как хранительница очага при добытчике-муже. Охотнее прежнего внимала его рассуждениям и охотно смеялась шуточкам, особенно неудачным; обращалась к нему «кормилец ты наш» и искренне радовалась тому, что долгожданное обручальное кольцо больно стискивает ее чуть отекший палец – в минуты осторожной, дабы не навредить плоду, близости эта боль напоминала ей о временно ставшем невозможным обхвате медвежьих лап.
Однако тревога возникала, как квартирная пыль, которая, словно бы назло, охотнее всего ложится там, где влажная губка прошлась особенно тщательно. Как можно было, например, цепляться за такую совсем уже ерунду, как интонация, с которой Стас спрашивал каждое утро, кивая на аккуратно растущий живот: «Как там наша девочка?» Тем не менее зацепилась именно за это и думала, что в том, как он произносит «наша девочка», много любви, но вот в странно произносимом слове «там» будто бы звучит желание, чтобы оно не превратилось в слово «здесь»; чтобы девочка, будущее имя которой – Леа – выбрал он сам, так «там» и оставалась, ибо «здесь», вовне заботливой матки, безопасного места для девочки Леа нет…
Впрочем, беспокоясь о подобных никчемностях, она словно бы охраняла психику от других, по-настоящему страшных, вопросов: почему все же муж решился на стерилизацию?! чего он так боится?! что такое нашептали ему звезды через Тамиллу – брюнетку настолько жгучую, насколько пристало быть разве что ведьме?
Все прошло на удивление гладко, однако страхи и тревоги будто бы нетерпеливо поджидали Владу за воротами клиники.
Кормить она решила сама и все ждала, когда же нахлынет воспетое на стольких прекрасных страницах счастье материнства. Однако режим функционирования «молочной фермы» давался ей с каждым днем все труднее и все более тираническим казался комочек плоти, в котором она не находила ни одной своей и, естественно, Стаса, черты. Череда примитивных, отупляющих действий: покормить, уложить, сцедиться, обработать соски, свалиться в дурман кратковременного сна, вскочить при первых же шевелениях и покряхтываниях, смазать опревающие складочки, сменить памперс, непременно подумав: «А как же раньше-то мучились, с подгузниками и пеленками?!», опять покормить… А муж, некогда столь трогательный в редких попытках заняться домашними делами, теперь раздражает бестолковой старательностью и предложениями найти няню. Как будто посторонняя женщина проявит большее тщание в обращении с существом, подчинившим все дни и ночи Влады своему стремлению не просто жить, а жить, властвуя! С существом, которое при малейшем промахе Влады, или сиделки, или няни, служанки, рабыни, – закатывает гневный плач.
А кстати, почему это существо… почему ее Леа так часто и так надолго закатывается?
Когда Владу, некогда неутомимую, словно бы расплющивала усталость, к глухой неприязни к ребенку и мужу прибавлялось презрение к самой себе. И вспоминались слова бездетной сотрудницы ее туристического агентства: «Нет-нет, мадам, лучше завести собаку! Три-четыре месяца возни с ее лужицами и какашками, потом целых пятнадцать лет она любит вас беззаветно и преданно, потом тихо и безропотно уходит, и, через полгода вашей светлой печали и разглядывания ее фотографий – новая собака».
Сотрудница, говоря это, не знала, что всего месяц назад Влада со Стасом похоронили Мишку на кладбище для животных под Лозанной, что маленький памятник, на котором едва поместилась надпись: «Сашке, Пашке, Яшке, Мишке и всем, кто оставались верны», уже установлен и что принято твердое решение больше собак не заводить, потому что их преданности друг другу, вполне заслуживающей названия собачьей, хватит на всю жизнь…
Но преданности Рукотворного хватило ненадолго, иначе бы он себя не стерилизовал.
И ее преданности, наверное, тоже не хватило, иначе откуда взялась бы сейчас эта усталость, тяжелая, как наказание за то, что отцом ее дочери стал не тот, кого она любит…
Но ведь любила же она когда-то Олега!.. Да и что ей оставалось делать, Господи?! Черт побери, что ей оставалось делать, когда Рукотворный так подло захотел лишить ее детей?! Найти мачо-производителя? Или, того лучше, заплатить бешеные деньги за ЭКО и получить сперматозоид от биологически безупречного ничтожества, потому что оставить свое семя для подобных манипуляций способно только биологически безупречное ничтожество? Что ей было делать, – дуре, дворняге, плевочку Природы, который все, а прежде всего Рукотворный, стремятся стереть с сияющего лика мира?
…Но почему, почему ее Леа так часто и так надолго закатывается?!
– Никаких симптомов никаких болезней, у ребенка не выявлено, – подытожил педиатр, после того как малышку, изрядно намучив, полностью обследовали. – Здорова как по учебникам, дай-то бог, чтобы и дальше так!
– Повышенная тревожность, ничем конкретным не обоснованные страхи – классические проявления послеродовой депрессии, – вещал психиатр после осмотра Влады. – К сожалению, эта симптоматика, раньше крайне редкая, в последние несколько лет встречается у первородящих все чаще, а медицина пока научилась ее лишь фиксировать. Однако время и чуткость близких излечивают полностью. И еще максимально долгие прогулки…
– Пойми, родная, – пытался убедить жену Стас…
– Я тебе не родная, иначе бы ты не сделал то, что сделал.
– Влада, мой поступок – в прошлом, я же сейчас говорю о настоящем и будущем. Леа плачет не оттого, что ей плохо, а оттого, что чувствует, как плохо тебе. Дай мне ее, и ты увидишь, как быстро она успокоится…
– Только посмей уйти с нею в другую комнату! Успокаивай на моих глазах…
– Ты что, считаешь?..
– Да, считаю тебя способным на все!
Он и это стерпел. Взял ребенка на руки, принялся носить по комнате, напевая из Окуджавы – то, что хотел, безуспешно борясь со сном, спеть Владе еще на Камчатке: «К чему нам быть на “ты”, к чему? Мы искушаем расстоянье…»
Леа, казалось, начала прислушиваться, уже и плач как-будто перестал быть плачем, а превратился в тихую жалобу на то, что нехорошо так поступать с маленькими и беспомощными: желудок вкусным молочком наполнить, заветные местечки ароматным кремом смазать, в сухой памперс облачить, а уснуть не давать… И почему не давать? Да потому, видите ли, что когда мир угрожает чем-то страшным, спать нельзя. Только ведь маленьким и беспомощным нет до этого никакого дела, раз уж большие и деятельные взялись их рожать и хранить.
Девочка спала и даже пыталась во сне изобразить что-то вроде улыбки, которая, впрочем, по неумелости мимических мышц, больше походила на осуждающую гримаску: мол, и нам, маленьким и беспомощным, тоже нужно очень немного, и вы, большие и деятельные, не делайте, пожалуйста, вид, будто не понимаете, что именно нужно, и не усложняйте, и гоните прочь дурацкие мысли о каких-то там Ницше и о серебристом блеске каких-то там волос…
И Стас в очередной раз совершенно искренне осудил себя за то, что, сказав в самолете Владе «Я тебя люблю», подумал, что лезет в петлю за то, что не прогнал прочь воспоминания о Калифорнии… А осудив, прогнал их немедленно и тоже в очередной раз.
Покачивая крошечный сверток, думал, что всем своим 140-килограммовым телом готов расшибиться в огромную лепешку, лишь бы он не пропал, это сверточек; и только где-то отдаленно, совсем уже на краешке сознания, промелькнул последний куплет любимой его песни, который предостерегал, и не зря, оказывается, предостерегал…[67]67
«Зачем мы перешли на “ты”? / За это нам и перепало – / На грош любви и простоты, / А что-то главное пропало», – из песни Б. Окуджавы на стихи А. Осецкой.
[Закрыть]
А Владу, ревниво отмечающую, как Леа под заунывное пение Стаса успокаивается, буквально скручивало ощущение, будто вокруг разбрызган напалм, готовый пожрать огнем все вокруг так плотоядно, как способно пожирать только само зло.
Она бы одолела это ощущение, как научилась одолевать вирусные инфекции, но почему-то не могла собрать необходимые для этого внутренние силы, почему-то крепла невесть откуда взявшаяся уверенность, будто наизусть знакомый ей вахлак Стас, этот кажущийся добряком гигант Рукотворный, есть несомненное средоточие того самого зла. Даже более того: средоточие самой высокой концентрации, подобное невиданному содержанию железа (66 процентов!) в некоторых рудах Курской магнитной аномалии.
Она ведь училась на геофаке и сейчас очень кстати вспомнила, что даже в знаменитой австралийской руде, добываемой злодеями-каторжанами, доля железа чуть меньше – 64 процента! Теперь остается напрячься и вспомнить, сколько именно среди залежей КМА есть этих необыкновенно богатых руд… Обязательно надо вспомнить, пользуясь тем, что Леа ненадолго перестала надрываться в плаче, предвещающем близкий приступ, похожий на эпилепсию. Что ж, пока обошлось… Но она, мать, обязана расплатиться за эту милость сил добра тем, чтобы вспомнить, – вот!.. Более тридцати миллиардов тонн, вот сколько их, внешне обычных, но напичканных железом, как Рукотворный – злом! Отсюда следует, что он, с помощью ведьмы Тамиллы, прочитал по звездам страшную правду: она, Влада, ни о чем таком не подозревая, носит в себе приводящее к эпилепсии генетическое проклятье!.. Поэтому Леа закатывается не просто так, что бы там ни говорили врачи, которых ведьма Тамилла запугала местью звезд, а Рукотворный соблазнил неправедно добываемыми деньгами.
И как же она не поняла раньше, что нельзя жить на неправедные деньги Рукотворного! Что нельзя было расплачиваться с Олегом неправедно добытыми деньгами! Что нельзя было в часы, когда положено горевать по вырастившей ее бабушке, чувствовать себя счастливой, услышав: «Да, я тебя люблю!»
И теперь эти непреложные «нельзя! нельзя! нельзя!», которые она, Влада – дура, дворняга, плевочек Природы – заменила на «авось, можно!», расправились не с нею, а с ее бедной дочерью! – с которой, как наконец-то стало понятно, Рукотворный, это 66-процентное воплощение мирового зла, нежен только для того, чтобы погасить ее материнскую тревогу, чтобы она поверила, будто бояться нечего…
– Вот видишь, – шептал Стас, укладывая Леа в кроватку, – надо брать ее на руки с любовью и очень обыденно, а не так, будто выполняешь поручение высших сил и боишься, что не справишься.
И поразился, как старательно, с риском вывихнуть шею, жена отворачивает голову – только бы случайно на него не посмотреть.
Утомленный ночным анализом сделок на Нью-Йоркской бирже, Стас спал крепко.
Леа, всосавшая ночью молоко, впитавшее в себя выпитый накануне Владою виски, тоже не просыпалась.
Тем не менее беглянкам шуметь не полагается, и потому собиралась она быстро и бесшумно. Натянула гидрокостюм, который у сосков тут же стал влажнеть от бесперебойной работы «молочной фермы». Пакет с минимумом документов и разновалютной пачкой денег удачно поместился на животе, тем более что несносно длинные купюры евро она накануне предусмотрительно укоротила маникюрными ножницами.
Девочку уложила в рюкзак, только ее головка торчала наружу… и вот так, на цыпочках, не присев на долгую и опасную дорожку, она пошла. Захватив легкую коляску, – это было хитро придумано: Рукотворный, проснувшись, решит, будто мать с дочкой на набережной, просто вышли подышать свежим воздухом. Спустилась на лифте и вышла на улицу, не обратив внимания на тактичную фразу консьержа: «Мадам, не слишком ли вы легко одеты для столь прохладного утра?»
Маршрут был намечен еще вчера: вплавь до городка Сен-Жингольф, который франко-швейцарской границей делится ровно пополам.
Там, в единственном из многочисленных городков на берегу Женевского озера, есть песчаный пляж с кабинками.
В одной из них надо будет скинуть гидрокостюм, быстро покормить Леа, мигом сцедить остатки молока на песок, – как занятно представлять эту белесую лужицу на утрамбованном многими влажными ногами и оттого ставшем коричневатым грунте! – сменить дочери памперс, а на себя, прямо на голое тело, напялить водолазку и джинсовые шорты; все это уже уложено в том же рюкзачке, в котором все еще будет спать ее захмелевшая девочка, – ей, защищенной шмотками и маминой спиной, будет мягонько и тепло. Потом надо пересечь границу, купить в ближайшем, но уже французском магазинчике белье себе и Леа. И широкую джинсовую юбку, – непременно широкую, в которой кривоватость ее ног будет не так заметна, а ведь именно эту кривоватость Рукотворный укажет полиции в качестве особой приметы, ибо нет у нее никаких других особых примет. Непременно укажет, она научилась предугадывать его враждебные действия, она отлично помнит, что у всех прочих сук, на которых он облизывался, ноги ровные: у ведьмы Тамиллы, например, или у той высветленной проститутки, что в Праге так молитвенно слушала его бредовую лекцию… Оп-па! Не к ней ли в Калифорнию затрусил выхолощенный жеребец Рукотворный?!
Впрочем, теперь-то какая разница!
Но не отвлекаться, надо мыслить стратегически!
Оказавшись под французской, а не швейцарской юрисдикцией, они с Леа, путая следы, устремятся не на северо-запад, в Париж, а на северо-восток, через Страсбург, – в Дюссельдорф. Оттуда, рейсом «Аэрофлота» в Москву – это уже почти безопасность, родина-уродина их не выдаст.
Однако полная безопасность им будет обеспечена только в Воронеже, в переулке Бетховена, во внешне неказистом, однако вполне еще прочном доме. Где всегда можно упросить хозяйку включить водонагреватель АГВ пораньше, в тот самый день, когда солнце впервые не справится с ночным холодом – и девчонки-одногруппницы, кляня свои ТЭЦ, оттягивающие начало отопительного сезона, позавидуют им с Дашкой. И спросят: «Как это вас угораздило набрести на переулок Бетховена?», на что им можно будет ответить эдак снисходительно: «Да я с детства от “Лунной сонаты” кайф ловлю!»
Подружка Дашка (на самом-то деле, Рита, но, безропотная, так навсегда Дашкой и оставшаяся) будет вести хозяйство, чтобы им с Леа переулок Бетховена покидать вовсе не надо было; а в переулок Бетховена, в этот самый глухой переулок города, как называл его Рукотворный в те дни, когда зла в нем еще было не кошмарные 66 процентов, а, что нормально для обычных людей и обычных железистых руд – 25–30 процентов… так вот, в необыкновенно узенький переулок Бетховена ни один черный «Ленд Крузер» въехать никогда не сможет, и Леа, с ее эпилепсией, не погибнет под тяжелыми колесами.
Все было продумано во время прошедшей ночи, пока аккуратно, маникюрными ножницами, укорачивала несносно длинные купюры евро.
Рукотворный, когда ему расскажут, что на ней ничего, кроме гидрокостюма, надето не было, легко догадается, что они с Леа пустились вплавь. Однако решит, что стартовали они с набережной Веве – и тут-то она его перехитрит, примчится в Монтрё и войдет в воду с круглого, с дощатым полом понтона, с которого когда-то, под его аплодисменты, ныряла безукоризненной ласточкой. Сейчас нырять будет нельзя, Леа ударится головкой и у нее начнется приступ – придется медленно и аккуратно, как сейчас укорачивает купюры, спуститься в воду по лесенке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.