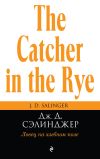Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Новелла пятая. Натальная карта
[50]50
Натальная карта – индивидуальный гороскоп, рассчитанный на основе точной даты и места рождения; есть мнение, что он определяет кармическую судьбу, склонности и возможности человека.
[Закрыть]
В своем повествовании мы следуем за Стасом, который, молча изливая душу, хронологическую последовательность, разумеется, нарушал – ведь подобные излияния редко бывают связными.
Он подробно рассказал о том, как, наладив бесполезную работу старой мельницы, повез Владу из Гродно обратно в Воронеж, рассуждая за рулем о вечно неустроенных дорогах России, о Ницше, к тому времени уже смертельно ей надоевшем, о разворовывании страны, которое либо прекратится насильственно (не дай бог!), либо затихнет само собою через многие десятилетия пресыщения и вырождения, и еще о многом другом, в основном невеселом. Впрочем, рассуждая, не унывал, хотя давно затертое цитированием: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые!..» не вспоминал, – понимал, что поколениям, сменявшим одно другое на просторах шестой части суши, так и не удалось посетить сей мир в не отштампованные Роком минуты, однако блаженство от этого они испытывали редко. Влада отмалчивалась, зато вцепившиеся всеми своими лапами в тюки с ее скарбом Мишка и Яшка то рычали, то скулили – в зависимости от того, как мотало по ухабам и ямам несчастную старушку «ауди»…
Рассказал еще о том, что Влада еще дважды пыталась выйти замуж, – но уже холоднее, с «испытательным сроком» в виде только-только входящего тогда в моду временного совместного проживания.
О том еще, что в нечастых воспоминаниях имена этих временных своих спутников она не называла – обходилась условными: «Номер раз» и «Номер два». Любопытно, что с «Номером раз» прожила год, а с «Номером два» в точности два, но не потому, по ее словам, что он был вдвое лучше – просто научилась сдерживаться и не рычать: «А пошел бы ты…» при первом же желании это сделать.
И о том рассказал, что ему, Стасу, когда они наконец соединились, она такое говорила часто и легко, а до соединения писала ему такое часто и легко. Сначала на бумаге, потом по электронной почте, зачаточно появившейся в России уже в середине 93-го. Писала так, хотя чувствовали оба: по любому из упоминаемых ею адресов он пойдет, если придется, не один, она все равно поплетется следом. Когда же, после того как соединились, говорила: «Рукотворный, ты невозможен, мы расстаемся», то знали, опять же оба: не выдержит, позвонит через два-три дня, прошепчет: «Это я-я-я…», и они опять начнут с якобы чистого листа, быстро, впрочем, покрывающегося все теми же помарками, каракулями и кляксами.
Вот только вскрики ее во время близости, возобновлявшейся после дурацких этих перерывов, поначалу будут звучать будто бы за поворотом, издалека, напоследок.
В минувшие с той осени годы вместилось многое, но в Веве, в молчаливом рассказе своем, Стас перескочил вдруг далеко вперед, в предновогодние дни 2000 года.
Тот час в женевском аэропорту, когда до посадки на московский рейс оставалось совсем ничего, но самолет из Лос-Анджелеса, которым летел Стас, задерживался, был для Влады наполнен одним и тем же кошмарным видением: бабуля валится на проезжую часть, покрытую разбитым асфальтом, в ямках которого мутно поблескивает пыльный лед, а пока еще уцелевшие места черны, бесснежны, но уже в трещинах – лед заблестит в них не сегодня, так завтра.
Бабуля валится – и бьется в судорогах почти что уже под колесами «Ленд Крузера», черного и неудержимого.
«Почему эпилепсия?! – кричала Влада, зачем-то придерживая живот, вовсе не тяжелый; с ее безотказными, тренированными, пластичными мышцами он и с тройней не был бы тяжелым, а уж с одним-то… – Разве у бабушки была эпилепсия?!»
«Всю жизнь, – отвечал голос двоюродной бабушкиной племянницы. – Ты что, не знала?» – и явственно слышалось непроизнесенное: «Ага, бросила ее, сбежала!» Потом с той же интонацией: «Поэтому она и в экспедициях никогда не бывала, боялась приступов». А потом опять и опять: «“Ленд Крузер”! Черный!» – и в этом упорном повторении слышалась явная радость по поводу того, что кичливо раздувшиеся шины «мишлен» в долю секунды волшебно приблизили продажу загодя отписанной ей, – кстати, по настоянию Влады, – квартиры.
Лос-анджелесский наконец сел. Они даже не очень-то и спешили к выходу, и Стас успел сказать:
– Ни о чем не беспокойтесь, я буду дочь любить. Как свою. Лучше, чем свою.
– Любить? Ты?
– Да, я. Буду любить, как положено настоящему отцу: больше, чем математику, философию, литературу, астрологию и стратегии инвестирования, вместе взятые.
А потом, когда уже летели:
– Шестнадцать лет назад вот так же, почти сутки, провел в летаках[51]51
Летак – принятое у авиаторов ласковое название самолетов. Стас считал его не только более русским, но и более точным, нежели «борт», происшедшее от английского «board», звучащего в переговорах пилотов с диспетчерами.
[Закрыть]: сначала Якутск – Москва, потом Москва – Якутск. С мамой рядом сидел дядя Мамед, утешал ее, а мне было горько, оттого что никто не утешает меня, хотя мое горе даже сильнее маминого. Знаете, мать меня, конечно же, любила, но не самозабвенно, не как бабушка Леа. Будто бы строго-настрого разделила свои эмоции и чувства: кержацкая требовательность досталась мне, еврейская страстность – дяде Мамеду.
– Ты ее ревновал?
– Ничуть. Довольно рано понял, что моего ничтожного отца и его омерзительную родню она ненавидит со староверческой непреклонностью и еврейским упорством, а потому ко мне всегда будет относиться с некой опаской: не в них ли я удался. Даже когда учителя заливались в похвалах моим способностям, она говорила: «Ленив. Трудится мало». И была, кстати, права. Ленив.
– Зачем на себя наговаривать, Рукотворный? Ты же трудоголик!
– Только когда интересно. А для староверов это кощунственно, у них работать, как и молиться, положено всегда и истово. Они же, по сути своей, протестанты, поэтому…
– Рукотворный, забудь о староверах и протестантах. О Ницше и прочих забудь. Мне до родов – всего два месяца, меня нельзя напрягать. Рассказывай мне о людях: маме, бабушке, дяде Мамеде, названных сестрах. О детстве рассказывай…
Что ж, он не умолкал, заговаривая ее боль и страх.
Развлекал, боясь, как бы она опять не спросила, что же все-таки вынудило его стерилизоваться – и ему бы опять пришлось ответить: «Не хочу размножаться в стаде современного человечества», что обычно вызывало у нее приступ гнева, и уловка удавалась.
Но сейчас, после сказанного им в женевском аэропорту, не удалась бы.
И вот он тянул время, повествуя со смешными подробностями о том, как: дядя Мамед, услышав однажды за ужином его разглагольствования по поводу связи философии Ницше с процессами тектонических сдвигов земной коры, сказал матери восхищенно: «Слушай, я ничего не понял, но ты родила гения!» – а мать уточнила со счастливой улыбкой: «Нет, Мамиш, он был обычным, а гением стал после того, как ты у нас появился»; и о том, как бабушка Леа опрометчиво заявила, что сойдет в гроб не раньше, чем Стас начнет свободно общаться на трех языках, и он получил счастливую возможность, как бы продлевая ее дни, манкировать не нравящимся ему немецким; а еще про то, что пышные восточные красавицы Гюльнара, Тамилла и Нигяр, дочери дяди Мамеда, узнав, что их названный брат столько лет добивается расположения какой-то воронежской девчонки, без конца выскакивающей замуж за кого-нибудь другого, стали жалостливо и насмешливо называть его Меджнунчиком[52]52
Меджнун – герой истории о трагической любви «Лейли и Меджнун (Маджнун)», ставшей основой сюжета выдающихся поэм на фарси (Низами Гянджеви, Рудаки), тюркско-азербайджанском языке (Физули); опер (Узеир Гаджибеков) и фильмов. Существует даже романтическая версия о том, что Шекспир при создании «Ромео и Джульетты» неоднократно перечитывал перевод Низами.
[Закрыть].
И даже рассказал, потеряв осторожность, как Тамилла, поя его вкусным чаем под божественную пахлаву, наставляла: «Меджнунчик, для того чтобы эта твоя Влада тебя полюбила, умных разговоров, клянусь, недостаточно. Ты вот как на нее смотришь? Ты, наверное, на нее смотришь так, как одна амеба обыкновенная, правда, очень умная, смотрит на другую амебу обыкновенную, не такую умную. Конечно, она от этого за другого замуж выходит! На мне вот сегодня кофточка с декольте, так ты ни разу за вырез не попробовал заглянуть. Ну и что с того, что как брат мне, заглянул бы и покраснел. И я бы покраснела, но мне было бы приятно. А то, что даже не пытаешься заглянуть, мне неприятно, и любой женщине было бы неприятно».
И он заглянул – и так ему увиденное понравилось, что покраснел не просто, а густо, запунцовел даже, даже зарделся. И схватил ее на руки, и понес в спальню. А она причитала: «Дурак, неправильно ты все понял…», но потом устроила ему феерию, иногда, впрочем, шепча с сытой и нежной улыбкой полного счастливого удовлетворения: «Ты дурак, Меджнунчик, совсем все неправильно понял».
Однако, встав с постели, они как по команде сделали вид, будто ничего, совсем ничего, не произошло – и в дальнейшем Стас пожимал руку всегда весьма занятого и постоянно очень преуспевающего мужа Тамиллы без малейших угрызений совести.
Больше того, с превеликой благодарностью пожимал, потому что, наученный его женой и потому прозревший, через несколько дней после произошедшего поехал в Воронеж ради двух сумасшедших авантюр.
И первая из них заключалась вот в чем: дождался, пока начинающий рекламщик (муж Влады, тот, что «Номер два»), выскочил утром из дома; в ответ на естественный вопрос Влады «Кто там?» чуть было не высадил дверь, а в ответ на второй, не менее естественный: «Тебе кто разрешил без спросу являться?» – сгреб в охапку и понес в спальню (она же столовая, она же гостиная и кабинет на два компьютера).
Понес в еще не застеленную и не остывшую супружескую постель.
Это была легко удавшаяся авантюра. О второй, труднее удавшейся, чуть позже.
Когда он нес ее, стиснув так, что не шевельнуться, она оказалась не в заурядной съемной квартире в спальном районе Воронежа, а на Камчатке, на куче лапника, в окружении сосен и елей, растущих с почти равномерной густотой, и берез, попадавшихся редко, однако столь живучих, что даже в конце января умудрились сохранить под тончайшей наледью часть листвы, – желтой, но с пятнами упрямой зелени.
А еще в Гродно она оказалась, в той ночи, когда дышала в одном ритме со Стасом… а также, что несколько странно звучит, в одном ритме с Сашкой, Пашкой, Мишкой и Яшкой… И, что совсем уже невозможно понять, в одном ритме с Беловежской Пущей, вплотную подступившей к заброшенной мельнице.
Все, что Стас рассказывал тогда в самолете, Влада выслушала с неослабевающим вниманием, – она умела так слушать, когда речь шла о том, на что можно было, следуя методе советских критиков, навесить ярлык «Из гущи жизни».
Но неизменно переполняясь яростным отрицанием, если Стас впадал в то, что расценивалось ею как «бесплодное умствование».
Нет, она не завидовала счастливому детству своего вахлака, своего Рукотворного, – детству, в котором бабушка заставляла его говорить, перескакивая с русских фраз на английские, французские или немецкие.
Она не завидовала тому, что его мать и «заграничная» бабушка составили для него программу чтения, согласно которой «Войну и мир» он обязан был прочесть в тринадцать лет («В тринадцать лет, – говорила бабушка, – еврейским мальчикам справляют бар-мицву[53]53
Бар-мицва – достижение еврейским мальчиком религиозного совершеннолетия.
[Закрыть], а какое совершеннолетие без Толстого?»); и тому, что каждое воскресенье он обязан был посещать Большой или концерты в консерватории, а в Третьяковку и Пушкинский ходил субботними вечерами как на работу, подробно отчитываясь перед сном, какого художника или какой период изучал в этот раз.
Но ее бесило, что этот огромный отпущенный ему Богом капитал используется «как-то не так», тратится на «бесплодные умствования» (хотя, какими бывают «плодоносные умствования», она не знала).
Ее бесило, что они всегда втроем: едят с Ницше, гуляют с Ницше, едва ли не любовью занимаются при деятельном участии Ницше.
Ее бесило, что, валяясь на диване и уставившись в ноутбук, он зарабатывает гигантские деньги недоступным ее разумению способом: вкладывает капитал в акции второго, третьего, пятого, десятого эшелонов, – послушай, Господи, останови Ты всю эту спекулятивную движуху! Сделай, Господи, чтобы так случилось, раз уж зачем-то попустительствовал тому, чтобы бомбы останавливали движение эшелонов с ранеными, женщинами и детьми!.. Вкладывает, лениво выжидает, а потом продает в тот единственный момент, когда можно сорвать капиталы-штрих, где каждый штрих означает едва ли не удвоение.
И при этом сноб, засранец, вахлак, не радуется, а цедит презрительно: «Быдлячьи забавы, даже совестно участвовать, ей-богу! Почитаю, чтобы очиститься, Кьеркегора (а это четвертый, который всегда с ними; пятый – Витгенштейн, шестой – Хайдеггер, седьмой – Сартр, чтоб им всем!), поищу перекличку с Фридрихом (Фридрих он для него, видите ли, чувствует себя равным Ницше, хотя сам-то ни строчки не написал!). А еще лучше… Еще лучше: идите ко мне, я ненавижу вас сейчас особенно остро…»
И ведь шла!
Не как к победоносному самцу, а просто потому, что для обхвата этими медвежьими лапами была рождена и предназначена.
Что бесило удесятеренно!
И чувствовала себя рядом с ним простолюдинкой, которую государь полюбил за совершенной формы и редкостной упругости попу. Да какое там к черту «полюбил»?! – просто интересно ему над нею с высоты своего величия посмеиваться, даже на «вы» называет, потому что на «ты» – только с ровней, особенно если эта ровня порадует властелина филеем еще более упругим.
Или – вахлак, засранец снисходит до нее, как снисходила до народа совестливая аристократия, которой вечно какого-то рожна не хватало, и в результате на него-то ее и насаживали?[54]54
Рожон – кол, который для защиты территории от пеших и конных наклонно зарывали в землю заостренным концом наружу. Отсюда «лезть на рожон», то есть неоправданно рисковать.
[Закрыть]
Влада слушала так внимательно, что забыла на секунду о гибели бабушки и даже похихикала над тем, каким образом незнакомая ей Тамилла их со Стасом соединила. Однако, когда самолет выпустил шасси и уже примерился к посадочной полосе, как баклан, мечтающий отдохнуть на с трудом различимой палубе, спросила безразлично:
– Все время путаю, Тамилла – это та из трех сестер, которая астролог для избранных?
– Да.
– Это она сказала тебе что-то такое, отчего ты стал оберегать меня от беременности, а потом и вовсе стерилизовался?
– Да.
Это «да» совпало с ударом колес о бетон – и раздались аплодисменты, конечно же благодарящие пилотов за то, что доставили живыми, но словно как «Спасибо!» Стасу, решившемуся на унизительную операцию.
И он уже напрягся, ожидая страшного: «Так что она все же сказала?», однако Влада спросила совсем другое, хотя и так же безразлично:
– Ты меня любишь?
И подумала, что если он заведет в очередной раз волынку про Заратустру и признаки истинной любви, то она умрет, не откладывая ни на секунду, – и на его совести государя и философа-мыслителя будет двойное убийство.
Но Стас ответил:
– Да, я тебя люблю!
И Влада от этого «да», от сказанного впервые «тебя» почувствовала себя абсолютно счастливой.
Самолет катил к аэровокзалу, и в темноте казалось, будто он кружит на одном и том же малом пятачке, сомневаясь, нужна ли ему, гордому баклану, эта скучная палуба; не взмыть ли обратно в небо, где гораздо труднее, но и неизмеримо интереснее. А Стас вспоминал, как Тамилла, от души поздравив «Меджнунчика» с обретением долгожданной «Лейли», взялась составлять ее натальную карту. Возгласила:
– Так! Значит, родилась 19 декабря 1970 года в Воронеже, – и с некоторой завистью, – двадцать семь, какая молоденькая!
Иногда бормотала что-то отрывочное и непонятное: «Бесплодная Луна в соединении с Лилит на куспиде пятого дома… И Плутон в том же доме… Да что ж это такое: Солнце в Стрельце в седьмом… О Аллах! Оппозиция Венеры в Скорпионе в шестом доме, Сатурн в Тельце – в двенадцатом… Не может же так быть, чтобы одно к одному… Еще раз проверю…»
Наверное, не раз и не два проверила – и Стас почти задремал…
Как вдруг заголосила:
– Ой, все-все плохо!
…Выпалила самое страшное – и побежала в ванную.
Когда Стас в своем молчаливом рассказе вспомнил еще, как отревевшаяся в ванной Тамилла позвонила сестрам, те примчались и, – в самом прямом смысле слова, – валялись в ногах у Меджнунчика, умоляя забыть эту проклятую, эту «порченую» «Лейли» с такой ужасной натальной картой, бабушка Леа спросила: «Маленький мой, а что все же тебя в этой девушке так привлекало?»
Эпизод пятый
Самые деятельные народы несут в себе наибольшую усталость, их беспокойство есть слабость, в них нет достаточного содержания, чтобы просто ждать и лениться.
Фридрих Ницше
Стас. Итоговая вероятность моей встречи с нею, – подсчитывал неоднократно, – миллионные доли процента или даже того меньше.
Я жил себе в свое удовольствие: валялся на диване, читал, думал, иногда развлекался, толстел, а всемилостивейший бог Случая что-то там за меня связывал, что-то развязывал.
Влада завоевывала место под солнцем, что-то строила, а что-то, наоборот, крушила, – ну а он, посмеиваясь, направлял ее в ту сторону, куда ей надо бежать, чтобы встретиться со мной.
Верить ли при этом в благое предназначение любви – не знаю…
Зато поверил в гипотезу о множественности Вселенных: будто и Влада, и я наличествуем в громадном их количестве, однако только в одной, в нашей, пошли по пересекающимся дорогам. Другие вселенные стал называть «выселенными», а английское «универсум» заменил на «универсам» и очень этой придумкой гордился. Решил, что если в выселенных все так же, как и в нашей Вселенной, только рядом со мной нет Влады, то, значит, в них никогда не было ни Шекспира, ни Пушкина, ни Стендаля, ни Лермонтова. Толстого, Чехова, Набокова, Ницше, Окуджавы не было тоже, поэтому нам с Владой и незачем было встречаться в каких-то пошлых универсамах, в которых навалены груды всякой всячины, а любимых строк и страниц нет.
А в нашей Вселенной есть. Еще в ней есть Монтрё… есть клиника… Есть одно абсолютно достоверное: с одиннадцати до часу я уже был у Влады; ровно в половине пятого уеду отсюда, чтобы пробыть с нею еще два часа. И завтра будет то же самое, и всегда.
Сэлинджер же, вглядываясь в Леа, представлял свою жизнь, какой бы она могла бы сложиться, забери он в 38-м к себе в Штаты самозабвенно отдавшуюся ему в Вене девушку.
О, родители были бы от этой его женитьбы в восторге! Они бы умолили молодых поскорее одарить их внуками и внучками – и к моменту нападения джапов[55]55
Джапы – принятое в США, особенно в годы Второй мировой войны, жаргонное прозвище японцев.
[Закрыть] на Перл-Харбор Леа успела бы укомплектовать их образцовую семью двумя как минимум детьми – мальчиком и девочкой. На войну бы он, так замечательно обремененный, не запросился бы; роман Уны с фигляром (а встретилась бы ему Уна? а назвал бы он тогла фигляром несомненно выдающегося комика Чарли Чаплина?) никак бы его не потряс, оргазмы Сильвии не стали бы смыслом существования сержанта Сэлинджера – и тогда…
«Н-е-е-т!.. – возопил он в ужасе; мысленно возопил, но с силой, многократно превышающей мощь связок, – н-е-е-т! Тогда бы не было «The Perfect Day…»! Не было бы меня-писателя!.. И не было бы никакого смысла в моей сегодняшней встрече с этой женщиной, которую я оставил в Вене и умчался за океан, гордый тем, что так романтично стал мужчиной!»
Трудно сказать, «услышала» ли Леа этот вопль, но мерцание ее облика, подобное сослагательным «ах, если бы», уступило место той четкости и определенности, что соответствуют беспощадно-горькому «Так было и по-другому быть не могло». И от этого сердце Сэлинджера сжалось гораздо сильнее, чем тогда, в 38-м, когда он поднялся на борт трансатлантического лайнера; сильнее, чем в 45-м, когда, посетив Вену, решил, будто «знакомая девчонка» погибла, как и вся семья его дальних родственников, как еще миллионы чьих-то родственников, близких и дальних.
Да, сильнее сжалось, и в этом стеснении была благодарность к Леа за то, что выжила; а еще была благодарность за то, что не помешала ему стать писателем, и – одновременно – слепая ярость из-за того, что не его ребенка вынашивала.
Ярость дурная хотя бы потому, что помнил до мельчайших оттенков тогдашних своих ощущений, как извергался на шелковистую кожу ее живота.
Джей Ди. Каким он был, дедушка Рукотворного?
Леа. Непохожим на тебя.
Джей Ди. Ты Там с ним счастлива?
Леа. Да. Тебе больно это слышать?
Джей Ди. Да.
Леа. Вот и хорошо… Он невысокий, поразительно крепкий и соразмерный. В военной форме – без погон, однако на петлицах и рукавах гимнастерки ярко-красные знаки отличия. Темно-синие галифе пузырятся, яловые сапоги отдраены до блеска хромовых. Волосы подстрижены очень коротко, называется это «ежик», но густые его волосы, скорее напоминают не ежа, а поле, покрытое стерней после уборки очень-очень богатого урожая. Губы всегда плотно сжаты, глаза светлые и словно бы прикидывают, где лучше установить пулеметы.
Джей Ди. Стойкий и упорный вояка?
Леа. Да. И жутко ревнивый. Меня называет «Милка ты моя» – так у них в детдоме обращались к девочкам… ну, которые нравятся, даже очень нравятся. (С вызовом.) А с теми, с которыми вдруг захотелось… где-нибудь в уголочке и очень по-быстрому, по-другому говорили: «Поканали, шмара, я для тебя леденцы на раздатке вынул»[56]56
Канать – идти; вынуть – украсть (блатн.).
[Закрыть].Джей Ди. Вот как! Ты усвоила его лексику?
Леа. Я заново пережила с ним каждый день его жизни, той, что проходила без меня. А он со мной пережил такую же мою. Ту, что без него.
Джей Ди. Когда же вы успевали заниматься любовью?
Леа. Поверь, успевали.
Джей Ди. И так о многом говорили?
Леа. Да.
Джей Ди (с трудом). И о нашей ночи – тоже?
Леа. Да. Конечно. А как же иначе?
Джей Ди. Он меня ненавидит?
Леа (холодно). Джерри, ты ведь когда-нибудь тоже попадешь туда. Там у него и спросишь.
Джей Ди. Значит, ненавидит.
Стас. А что, может быть иначе? Он пожертвовал собою ради женщины, которая была для тебя всего лишь типажом для не очень удавшегося рассказа. Может, скажешь еще, что он должен быть тебе благодарен? Ведь поступи ты после той ночи в Вене по-другому, бабушка уехала бы в Америку и не встретилась с ним.
Джей Ди. Пожалуй, скажу, но не о его гипотетической ко мне благодарности, а о другом. О том, что твой дед герой, это несомненно… Но, главное, о том скажу, что прирожденный воин, рожденный для подвигов, не сможет стать большим писателем, а большой писатель, если он никуда не сворачивает со своей дороги, никогда не полезет в герои.
Леа. Он прав, мой мальчик, уж не знаю, к счастью ли для нас с тобою или нет, но прав. И не знаю, дурой ли я была, полюбив его на всю жизнь, или судьба меня этим в полном смысле слова наградила.
Джей Ди. Леа, неужели ты так страдала от того, что меня полюбила?
Леа. Да. Но, страдая, все же любила. И в конце жизни поняла, что люблю уже не тебя и даже не твою замечательную прозу, а, скорее, свои же страдания. Но, как ни странно, даже и от этого была счастлива. Тебе это не понять.
Джей Ди. Поняв тебя, пойму и это. А ты, Рукотворный, не мой внук, ты ведь тоже страдаешь. Счастлив ли?
Стас. Вот уже почти четыре года, как я каждый день у нее – с одиннадцати до часу и с пяти до семи, потому что порядки в клинике строгие и посещения разрешены только в эти часы. Она ни разу не вспомнила, кто я, как меня зовут, зато помнит мои руки. Садится ко мне на колени, я ее обхватываю – и мы молчим. Каждый день. Два дополуденных часа, а потом, под вечер, еще два. Когда нет дождя, снегопада или сильного мороза – в парке. Когда плохая погода – в зимнем саду. У нас там укромный уголок, его никогда никто не занимает. А в парке скамейка, ее тоже никогда никто не занимает. Мы сидим, прижавшись друг к другу так тесно, что иногда начинаем задыхаться.
Директор клиники недавно поинтересовался, на сколько лет мне хватит денег содержать у них Владу так же роскошно. Я ответил: «Лет на пятьдесят, если вы не будете взвинчивать цены». А он мне торжественно: «Для нее цены не повысятся ни на франк, даже если она пробудет здесь все эти пятьдесят лет!» Я возразил: «Позвольте, разве наличие вечных пациентов не ставит под сомнение квалификацию ваших врачей?» – «Нет, такие пациенты лишь свидетельствуют о существовании прекрасных болезней, излечение от которых невозможно. Любви, например». Почти по Маяковскому, да?[57]57
«Мама! Ваш сын прекрасно болен!» (В. Маяковский. Облако в штанах).
[Закрыть] Хотя что ему поэзия, этому эффективному управленцу?Она стала для меня регулярно посещаемым мемориалом, но я еще надеюсь, дважды в день надеюсь, что приду – и опять увижу свою прежнюю задорную «дворнягу». Не знавшую отца, отвергнутую матерью, выращенную стоически скрывавшей от нее свою болезнь бабушкой, – но при всем при том несущую в себе частицу Христа. Часто думаю, перебираю: кого я знаю, в ком еще есть частица Христа? Мало таких. Ты, бабуля, мама, дядя Мамед, его дочери… Пожалуй, больше никого, даже сам я, наверное, не такой… Но получилось, что на Камчатке рядом со мной случайно оказалась такая.
Да, страдаю. Да, счастлив.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.