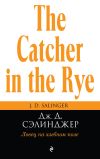Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Вот почему в те три дня, что пришлось ждать напарника, она не отрывалась от микроскопа, пользуясь постоянной его доступностью (не то что расписанные поминутно лабораторки в универе!), и всматривалась в добытые кем-то и когда-то образцы. В общем, тренировалась и наслаждалась – ей ли привыкать к изматывающим нагрузкам!
Вот почему и напарник виделся ей в мечтах настоящим геологом: стройным, слегка снисходительным, рыцарственным… Однако то, что в реальности он оказался вахлаком (успела все же бросить взгляд, Стасом не замеченный), да еще и наглым вахлаком, – не сильно-то и расстроило…
В конце концов, лишь только вертолет переместит их обратно в Анавгай, вычеркнет она по-медвежьи огромного жиропупа-москвича, отсутствием стройной фигуры вольно или невольно ее предавшего, из списка живущих!
Вычеркнет, ей ли привыкать вычеркивать предавших?
В первые два часа глаза упорно слипались, но в поле его зрения все равно маячила ее «пятая точка опоры», как называют это симпатичное (у женщин!) место альпинисты.
В первые два часа Стас мысленно употреблял другое, гораздо более ядреное, название этого же места, однако постепенно просыпался, разогревался, убеждался, что не сдохнет, что дойдет – и свежим воздухом надышится, и образцы соберет, и бутерброды съест, и сгущенку из банки выцедит, чайком ее из фляги запивая, – а там и вертолет… А потому ладно, пусть уж впереди, метрах в семи, виднеется прикрытая плотной курткой на синтепоне пятая точка, при каждом движении молчаливой спутницы демонстрирующая, впрочем, не точечность, а скорее приятную сферичность.
Даже и не спутницы, а «идущей впереди», целеустремленной, как пионервожатая, задумавшая доконать свой отряд трудностями сегодняшнего похода, дабы завтра «эти чертовы раздолбаи» не имели бы сил на буянство и дали ей возможность заняться, наконец, собой: простирнуть кое-что, голову помыть, ногти в порядок привести, поворковать по телефону о любви с кем-то далеким и высокодуховным, а потом заняться оной с физруком, близким и отменно мускулистым.
Игривые мысли взбодрили Стаса окончательно, и он впустил в сознание могучий хвойный лес с раскиданными там и тут огромными валунами и камнями, торчащими из земли наподобие обломков зубов ощерившегося великана… и тыльную сторону «пионервожатой» впустил – не только ее пятую точку, как прежде, а всю, от помпончика на шапочке до каблуков туристско-армейских ботинок. Что ж, впущенное оказалось вроде и ничего.
Все вроде и ничего было у этой диковатой особи, обладающей способностью гадости излагать отчетливо и громко, а что-то нейтральное проборматывать неразборчиво.
Например, в кабине вертолета, за минуту до того, как двигатель затих, сделал попытку установить хоть какие-то отношения:
– Ладно, давайте знакомиться! Я – Стас!
– Вл… – и то ли «да», то ли все еще тарахтело над головой.
Однако, скорее всего, Влада. Дурацкое имя, наверное, уменьшительное от Владиславы. В Москве такое имя приобрести практически невозможно, но в Воронеже, который, как известно, не догонишь…
Особо изощренной гадостью, почему-то, воспринималось позавчерашнее согласие особи отдаться ему лишь через двадцать пять лет – намекнула, стерва, что, сорвав все отпущенные на ее долю дурманно-ароматные цветы удовольствия, напоследок довольствуется им, сорняком, проросшим из кучи дерьма. Наверное, поэтому и на глаза ей до того нельзя будет попадаться, чтобы облаком исходящей от него вони не оскорбить тончайшее ее обоняние.
В общем, пошла бы она!
Она и шла. Успевала отбежать в сторону, сколоть кусок породы, а потом почти моментально восстанавливала дистанцию в семь метров, словно предписанную неведомым Стасу уставом. Ни разу не обернулась, но когда он пару раз тоже отходил к чему-нибудь скальному и отбивал куски плоским носком геологического молотка, то она останавливалась, словно чувствовала спиной незапланированное его отдаление. И ждала, – но стоило ему вернуться на привычную позицию ведомого, шла дальше.
Шла, все так же легко и все более восторгаясь тайгой и разнообразными видами пород, словно бы зазывающих ее к своим красотам с усердием торговцев на восточных базарах; шла, наслаждаясь неубывающим запасом сил и водой, которую отхлебывала из бутыли.
Вдруг остановилась.
– Вот эта поляна!
Еще раз сверилась по карте и компасу.
– Точно, дошли. Вертолет через час, поброжу немного. Далеко не уйду, не волнуйся.
Неожиданно для Стаса, без его просьб и намеков, собрала пышную охапку елового и соснового лапника, и он, как бы невзначай, улегся. Правда, не раскинулся по-барски, а, напротив, свернулся крендельком-калачиком, поскольку солнце почти не пригревало, и ощущение было, как внутри совсем недавно ожившей печи, куда нетерпеливый пекарь тот самый «кренделек-калачик» поместил.
Улегся, почему-то не сомневаясь, что она не ждет благодарности, заранее сама для себя решив, будто за него, беспомощного, отвечает. Уже в дремоте усмехнулся, представив явную, но почему-то приятную глупость: перед посадкой в вертолет Влада, совсем уже по-матерински, посоветует ему отойти оправиться («На горшочек сходим?» – спрашивала мать; именно «сходим», словно собиралась полноценно участвовать в процессе… однако ограничивалась тем, что с глубочайшим удовлетворением прислушивалась к журчанию струи); а в недолгое время полета умудрится несколько раз спросить, не укачивает ли, не сильно ли проголодался…
Но забудет о его существовании через пять минут после приземления в Анавгае.
…Проснулся – наверное, от холода, хотя облачен был добротно: шерстяное нижнее белье; ватные рыбацкие штаны с кожзамовскими наколенниками; куртка двухслойная, внутренняя часть на молнии, внешняя – на прочно скрепляющихся кнопочных застежках; на голове – завязанная по-пиратски косынка, а поверх нее – вязаная, толстой шерсти, шапка; на ногах – армейские ботинки для спецназа, зашнуровывающиеся до середины икры.
Солнце заходило, ветер совсем стих, сосны и ели были недвижны, как египетские пирамиды, и казались почти столь же вечными. Вполне можно было ощутить себя погребенным в усыпальнице, находящейся почти уже в царстве Аида – и вполне уместно было бы запеть из финального дуэта оперы «Аида»: «O terra, addio; addio valle di pianti»[33]33
«Прощай, земля, прощай, юдоль слез» (итал.).
[Закрыть]; вот только, согласно партитуре, божественной красоты тему должна первой повести сопрано, но спутница его на что-то божественное разве способна?
Однако это позже Стас пытался сдобрить пережитый им тогда ужас чем-то, смахивающим на юмор – так на подпаленный шашлык щедро выдавливается дешевый кетчуп.
Уже значительно позже пытался, а тогда…
– Где вертолет?! – завопил он. – Где вертолет, куда вы меня привели, дура самонадеянная?!
Та молча сунула ему под нос карту.
Потом показала компас – и стрелка засвидетельствовала, что направление к желанной конечной точке перепутано не было.
Все так же молча Влада указала еще и на сосну, самую мощную из окаймляющих поляну, – и Стас, несмотря на быстро сгущающиеся сумерки, разглядел вырезанные на стволе пропеллер и восклицательный знак.
Эпизод второй
Окутайте себя возвышенным, этой мантией безобразного.
Фридрих Ницше
В Веве, в том же уличном кафе, тем же днем, 27 августа 2006 года, Стас, молча рассказывая Джей Ди Сэлинджеру о случившемся на Камчатке, все никак не мог подобрать слова, чтобы описать то свое давнее состояние, когда стало ясно, что придется провести, одну как минимум ночь под открытым небом.
Скорее всего то состояние называлось оторопью, но поймет ли Джей Ди это слово? Среди редких сведений о жизни писателя вроде бы мелькнуло когда-то, что тот изучает русский, чтобы читать в подлиннике Гоголя и Толстого, но достаточно ли часто встречается в этих текстах слово «оторопь» и запомнил ли его Сэлинджер?
Да и вообще воспринимает ли он что-нибудь из говоримого ему мысленно, да еще и по-русски?
Стас. Безусловно, ты был и есть фантастически популярен, но, по моему мнению, до уровня того подлинно великого, что было создано в XIX и XX веках, не дотянул.
Вот тут Сэлинджер его прервал, заговорив молча, но так «слышимо», что звуки голоса были бы, пожалуй, уже лишними:
Джей Ди. Не затруднит ли тебя привести примеры того, чему повезло попасть в твой перечень подлинно великого?
Стас (с вызовом). Ничуть не затруднит! «Красное и черное», «Евгения Гранде», «Война и мир», «Мартин Иден», «Испанская баллада», «Приглашение на казнь», «Мастер и Маргарита». Достаточно? Впрочем, осталось совсем немного, названий пять-шесть, не больше.
Джей Ди (будто бы подсказывая). Что-нибудь из Пруста, Джойса, Фолкнера?
Стас. Ни в коем случае! Из Сартра, Стейнбека и Брэдбери, о которых ты, по крайней мере, слышал. Из Катаева, Искандера и Астафьева, о которых, конечно же, не слышал…
Джей Ди. Только не нервничай так и не старайся меня уязвить, это бесполезно.
Стас (примирительно). Ладно, не обижайся. Лучше ответь: как бы ты описал свои впечатления от нашей встречи, которую так точно предсказала бабушка Леа?
Джей Ди. Глаза еврейские, темно-карие, все остальное – скорее славянское. Сравнительно молод. Очень взволнован, хотя тело, потерявшее форму в тот самый миг, как заполнило плетеное кресло, неподвижно. При таком волнении ладони должны быть потными, но у него – тебя то есть – они сухие, и, когда случайно касаются скатерти, он дергается, как от разряда дефибриллятора. И непроизвольно сжимает кулаки, пытаясь отделить сухость ладоней от сухости полотна, хрусткого от обилия крахмала. Однако вскоре опять обмякает; его огромные, похожие на медвежьи, лапы, ищут покойное место на столе, но опять все та же чертова скатерть, – и все повторяется.
Этим бы ограничился. Позволил бы себе шагнуть чуть в сторону, вроде бы вспомнив о гораздо более для меня интересном.
Например, о таком: «Швейцария, в которой Чарли Чаплин заточил Уну О’Нил, украденную у меня девушку, держится за былые приметы бюргерского быта упорнее, чем за легендарные традиции хранения банковской тайны; и пожалуйста: 2006 год, во всем мире пластик и синтетика, а тут, в каком-то захудалом уличном кафе, белоснежные льняные скатерти и чашки из чуть ли не севрского фарфора.
У Уны получилось неукоснительно исполнить предназначение бюргерши и родить своему престарелому мужу восьмерых детей, но вот парадокс: в Веве, где старость – смысл сущего, свежесть Уны, ее предрасположенность к соитию, зачатию и вынашиванию казались неприличными даже ей самой. Вот почему она улыбалась репортерам с миленькой мольбой о снисхождении, изображая губками безотказную готовность воскликнуть: “Sorry!”
Что же поделаешь, с бездарным кривлякой жить – бездарной кривлякой стать».
…Захлебнулся бы желчью, переждал жжение в пищеводе и гортани, потом в нескольких длинных, но динамичных фразах описал бы что-нибудь нейтральненькое, например, краски покидающего окрестности Женевского озера лета, – и вернулся бы к тебе: «Этому парню все же под сорок, он уже, наверное, в кризисе среднего возраста и терзаем ощущением, будто рядом с его домом расползлась огромная помойка. И хотя освежители воздуха распространяют аромат соснового бора, вонь от гниения отходов все равно угнездилась везде: и в библиотечном шкафу с любимыми книгами, и в кухонном шкафчике с до блеска вымытой посудой.
Может быть, парень как-то по-особому, экзистенциально нетрадиционен?
Но ведь то, что раньше считалось ущербностью, теперь воспринимается чуть ли не как метка Господня – и былые отверженные уверены теперь в своем превосходстве! Они, как ландскнехты, ненароком оказавшиеся в первых рядах трусоватого наемного войска, готовы требовать удвоения жалованья только за факт нахождения в этих самых рядах! Причем вне зависимости от исхода сражения…»
Стас. Отличное описание! Только не меня, а склонного к суициду невротика, подобного Симору из рассказа «A Perfect Day for Bananafish»! Ты отправил его в нети совсем молодым, на тридцать втором году жизни, и проделал это вне каких бы то ни было логических обоснований. Более того, сначала отправил, а потом, словно спохватившись, тринадцать лет горячо и красочно описывал, каким этот самоубийца был гениальным поэтом, провидцем и богознатцем.
Вообще пресловутая магия твоей писанины именно в том, что она – вне какого бы то ни было подобия логики. Только в этом ее притягательность. «Дурь» – вот что такое твоя писанина. Первыми затягивались критики, а читатели до сих пор досмаливают бычки. Завивают дымок колечками, пытаются уловить сходство между собою и каким-нибудь твоим персонажем.
И я – буду правдив! – пытался. Пока однажды Влада не одарила меня «моментом истины», сказав: «Ты же – Стас Рукотворный!»
Твои, Джей Ди, болтливые ирландские, со стороны матери, предки тебя бы просветили: Спас Нерукотворный – это лик Христа, возникший на «Плате Вероники».
Твои же не менее болтливые, но еврейские предки, со стороны отца, объяснили бы, что Спас Нерукотворный – одно из проявлений христианского идолопоклонства.
И ты, вводимый этой дьявольской смесью предков в грех суесловия, непременно посвятил бы объяснению восклицания Влады страницы две, не менее. Однако все просто: «Стас – Спас» – даже и не рифма, а примитивное созвучие; говоря «Рукотворный», моя любимая подразумевала «пальцем деланный».
И впервые за время поединка их взглядов, Стас «заговорил» с Сэлинджером о самом для себя насущном.
Насущном с того самого момента, как в его сознание ворвались неподвижно склонившаяся над микроскопом женская фигура и грива каштанового цвета волос, взвихрившаяся в том самом порыве, который в точности соответствует глаголу «ворвались».
Заговорил с той исповедальностью, которая зиждется на уверенности, что обрел наконец слушателя – настоящего, а не проговаривающего утешительные банальности; не штатного успокоителя – но того, кто сумеет понять.
Стас. Похоже, никто, кроме меня, тебя не узнал. Более того, даже если бы ты поминутно вскрикивал: «Это я!», никто бы внимания не обратил. Но я обратил бы – научен, приучен, выдрессирован. Тем, что Влада через два-три дня после каждого из бурных наших расставаний звонила – правда, не восклицала, не вскрикивала, а шептала это же самое: «Это я…»
Вскрики были потом, когда ей опять становилось хорошо в нашей близости, однако и тогда они звучали будто бы напоследок, издалека, за поворотом.
И только после последнего прощания, – совсем окончательного, – позвонила не вскоре, а через долгих полгода. И не прошептала, а простонала: «Это-о-о я-я-я-я…»
Простонала так, словно в это самое мгновенье взгромоздила на свои широкие плечи и крепкую прямую спину пловчихи, волейболистки и хрен знает кого еще огромный крест, смастеренный из пиратинеры, самой тяжелой и твердой на свете древесины, из которой и крест-то хрен смастеришь!
…Вот уже четыре года, как она во всемирно известной клинике в Монтрё, это неподалеку. Я, как всегда, был у нее с одиннадцати до часу и, как всегда, в половине пятого поеду опять…
В общем, оказалось, что крест был взвален на меня!
Новелла третья. Так говорю я
Вертолета не оказалось и в начальной точке маршрута, куда они, встав затемно, добежали за четыре часа.
Со смурного неба на сопки, сосны и ели не падал ни один звук…
– Все равно нас будут искать, поэтому надо идти на юго-запад, к Охотскому морю, – решила Влада, изучив карту. – Там равнина и подлесок, мою красную куртку с воздуха заметят, а здесь, среди густого леса – нет. У моря свернем на юг и – к поселку Ичинский. Там большой рыбокомбинат, а от него вдоль берега – поселки с причалами, вряд ли совсем безлюдные. По крайности, воду, припасы кой-какие и дрова наверняка найдем.
– Сколько идти? – спросил он, удивляясь, как много узнала она про Камчатку. Словно бы предвидела, что на самом краю самой безалаберной в мире страны может случиться что угодно.
– До берега километров сто. За пять дней должны дойти, кровь из носу. Морозы некрепкие, снег сухой. Дойдем. И еще день до ближайшего причала. Что у тебя осталось из еды?
– Шесть сухарей. И плитка шоколада.
– А у меня восемь. И тоже плитка. Не помрем.
– Подождите, Влада. У вас еще должна быть банка сгущенки… я не претендую, но…
– Не было у меня никакой сгущенки. Получила то, что выдали: десять сухарей, шоколад. В бутыль воды набрала.
И Стасу стало стыдно за то, что ему, москвичу, протеже министра, вручили дефицитную сгущенку, а ей, приехавшей из какого-то там захолустного Воронежа, ничьей не протеже – нет.
Заодно стало стыдно и за то, что, размышляя о ее заднице и о том, насколько вся она в стремительности своей похожа на забавляющуюся с физруком пионервожатую, сделал две диаметрально противоположные дырочки в донышке алюминиевой банки и потягивал тягучую сладость то из одной, то из другой, – до сих пор язык помнит, как укладывалась на него лакомая струйка, как быстро потом смывалась вкусным чаем.
«Индийский, три слона, – похвасталась раздатчица, она же и повариха, она же и кладовщица в столовой. А хвастаясь, волновалась, оценил он ее рвение, равнозначное привету товарищу Курбанбекову. Надеялась, что квартальная премия вслед за этим воспоследует, – на что большее рассчитывают в такой глуши? – Сахарку я столько насыпала, чтобы вам, сгущенку запивая, приторно не было».
А у Влады не было ни сгущенки, ни чая. Она даже внимания не обратила на обжорство навязанного ей спутника, а хлопотала, устраивая на ночлег – сначала его устраивая, потом себя; и костерок развела поближе к нему, и извинялась, что впопыхах собиралась, – вот и сунула в карман практически пустой коробок спичек.
Стыд остро пронзил Стаса и так резко ударил по нервам, что внезапно, словно бы под гулким куполом, в вакуумной пустоте, прозвучало в его голове слово «ressentiment» – озлобленность, в переводе с французского. Важное для неистового богоборца Фридриха Ницше понятие, которое служило, по его мнению, основой для лживого иудео-христианского понимания права, справедливости и морали.
Наверное, потому прозвучало, что во Владе ничего от ressentiment не было и не взывала она к справедливости, которую обычно воспринимают как торгашеский принцип возмещения ущерба: «Мне – не меньше, чем прочим, а лучше, чтобы побольше!» И Стас вдруг понял, что будет и двадцать пять лет дожидаться, и полвека, если понадобится, пока не врастут они с Владой друг в друга так, чтобы трудно стало определить, где он, а где она. Так врастут, словно целокупностью родились и ею же мечтают умереть.
Кажется, ощущение: «Вот она!», ставшее смыслом существования, называется маниакальностью? – Пусть! Возможно, сама же Влада так это и назовет. Но он-то теперь знает, почему два года перед встречей с нею не читал ничего, кроме математических монографий и двухтомника Ницше; знает, зачем они с Владой встретились – вопреки всем законам теории случайных событий, случайных величин и даже случайных процессов. Затем, понял он, встретились, что его чувство к ней будет радостным служением сверхчеловека, что оно будет больше обычной любви, от которой всегда почему-то ждут счастья! Но никогда его в «желаемых объемах» не получают – и с ужасающей психологов неизбежностью все заканчивается либо тупой привычкой к давнему ярму, либо ressentiment.
И потому, в преддверии неизбежной гибели в предстоящем шестидневном изнуряющем и бессмысленном походе к Охотскому морю, потому, охваченный жертвенностью (быть может, запоздалой, поскольку сгущенка съедена, а чай выпит) и готовый к героическому и безнадежному служению (ведь его чувство к Владе началось с поглотившего его раскаяния, а не с призывных вибраций ее голоса и заманивающих самца телодвижений!), сказал решительно:
– Готов, пошли! За вами – хоть к Охотскому морю, хоть к Берингову!
И мужество Стаса, и его неожиданно вспыхнувшая привязанность к Владе имели, таким образом, «книжное» происхождение, многократно обруганное любителями «правды жизни». Что ж, так бывает: всплывает что-нибудь прочитанное в великих книгах или увиденное в великих картинах (в глазах врубелевских Демона или Царевны Лебеди например) – и становится ясно: истина в этом, и от нее отступать нельзя.
Проповеди не убеждают, но рожденные кем-то в мучительно трудном поиске и вплетенные в тончайшую ткань художественности истины становятся словно бы собственными.
Вот только тех, кто способен так прочитать и так увидеть, во все времена было немного, а сейчас есть еще меньше, но скоро будет совсем мало.
Не шли, а брели.
И не пять дней, а десять, потому что на второй день, неловко перебираясь через поваленную бурей сосну, Стас запутался в еще не окончательно облысевших ветвях, упал, не сумев выдернуть ступню из беспощадных тисков – и то ли порвал связку, то ли по-особому сильно потянул не привыкшую к долгой ходьбе мышцу. И больше ступать на всю подошву правой ноги уже не мог, да и, ступая на носок, часто, как ни старался удержаться, ойкал. Иногда даже вскрикивал, и тогда Влада бормотала беспомощно и зло:
– Да терпи же… Мужик ты или нет, в конце концов?
И раз за разом он пугался того, что она его бросит. Просто решит окончательно, что пора, – и, скинув его руку со своего прямого сильного плеча, уйдет. Не оглядываясь.
Неизменно бодрая пионервожатая, наплевавшая на навязанного ее попечению великовозрастного младенца.
И будет права, потому что каждый – за себя, потому что у нее одной хватит сил проходить по двадцать километров в день. И даже если, выйдя на берег Охотского моря, людей не встретит, то зашагает все так же бодро на юг, до ближайшего рыбацкого поселка, где скажет равнодушно: «Там, среди сопок, мой случайный попутчик замерз», – а ведь он к тому времени уже действительно замерзнет, так и не успев поделиться с нею своим открытием: не случайным попутчиком, а мужем и отцом ее детей назначено ему быть.
Но если она продолжит брести, перекинув через левое плечо рюкзак (из которого, дура упрямая, собранные ею образцы так и не выкинула, да еще и взятые Стасом туда же впихнула), а правое отдав ему для опоры при каждом его шаге, – то сил ей на эту зряшную работу хватит едва ли до вечера.
Ну, может, учитывая фантастическую ее выносливость, еще и на завтра хватит – при том, что проходят они не двадцать километров в день, а дай бог, чтобы десять.
Перед вторым ночлегом, когда Стас еще был о двух ногах, Влада сказала:
– Спать теперь будем вместе, так теплее, – и, заметив, как он обрадовался, предостерегла, – но чтоб без глупостей!
Натаскала огромное множество лапника, а Стас, понимая, что, как бы ни старался, лепта, им внесенная, окажется в этом множестве позорно малой, постарался собрать из пушистых ветвей высокое ложе, похожее на ожидающие новобрачных перины. По периметру навалил сугробы, снег был на диво пушистым и чистым, – господи, каким же он был чистым! – будто бы погода и природа решили показать этим двум молодым глупцам, последующие двенадцать лет то расстающимся, то вновь бросающимся друг к другу, какой должна быть белизна подвенечного платья и расстилаемых на первую брачную ночь простыней.
Влада одобрительно кивнула, и он от этого стал счастлив почти безоблачно.
…Достала по одному сухарю (Стасу в столовке геологов дали первосортные, сдобные и даже с изюмом; Владе же – попроще, а вместо редких клякс изюма виднелись частые точечки мака); посиневшими от холода губами захватила с ладони пригоршню снега, и челюсти ее заходили с завидной быстротой.
Он мысленно сказал себе: «Здравствуй, ангина!» – так мать отвечала когда-то на его просьбы купить мороженое, – однако вскоре убедился, что пушистый снег леденит разве что зубы, зато размягчает сухарь много быстрее, нежели собственная слюна, ставшая после тяжелого дня неподатливо вязкой.
Так и поужинали, после чего Влада бесконечно долго заталкивала снег в бутыль – и занималась этим до тех пор, пока слегка подтаивающего белого пуха не набралось внутри почти по горлышко.
Стас удивлялся, но так и не решился спросить, зачем она это делает – ведь и умыться, и жажду утолять можно у любого сугроба…
Потом легли, постелив его куртку и укрывшись ее красной. «Чтобы с воздуха было заметнее» – понял он и восхитился ее предусмотрительностью. А еще более восхитился тем, что Влада, укрывшись воротником, капюшоном, плечами и рукавами куртки, вынуждена была изо всех сил к нему, укрытому полами, прижаться и молчаливо согласилась терпеть его толстую руку на своем боку и бедре, ибо иначе, эта тяжелая теплая рука отдавала бы свое тепло не ей, – а значит, к черту стыдливость!
Бутылку же положила между ними. «Меч, – подумал Стас, – который рыцарь, дабы подчеркнуть неприкосновенность вынужденной разделить с ним ложе дамы, клал между собою и нею, выглядел, конечно же, не в пример романтичнее. Да и не украл бы он столько драгоценного тепла, а ведь любая калория, которую в Москве безрассудно швыряешь космосу на прожор, здесь может еще дать силы утром подняться. А нехватка именно этой калории, потраченной на обогрев сотни граммов талой воды, обернется последним оцепенением».
Утром Влада скомандовала: «Не оборачивайся!» и отошла на несколько десятков шагов за спину ему, лежащему, – кстати, достаточно далеко отошла, однако он, потерявший такой надежный источник тепла, проснулся окончательно и услышал, как сперва «не вода», а потом и вода тонкой струйкой полились в охотно образующиеся ямки.
Услышал – и с внезапным умилением вспомнил, как по утрам в их прежней коммунальной квартире не проспавшиеся, а то и не протрезвевшие обитательницы разогревали воду и молча, без «спасибо» и «пожалуйста», вручали очередной собравшейся в вечно промозглую ванную тазик, над которым вился парок… хотя накануне вечером вполне могли остервенело грызться, скандалить и даже вцепляться друг другу в волосы. Вспомнил – и только теперь понял, что была, черт возьми, в этом почти ритуале какая-то диктуемая инстинктами забота о жизнеспособности племени: а вдруг подфартит соседке, найдет надежного мужика, да и захотят они завести мальца или малявку! Надо, чтобы смогли здоровеньких завести, а для того все у нее там должно быть чистеньким и сработать как положено – и неважно, что не далее как вчера надсадным ором честили ее же, непутевую, курвой и шалашовкой.
Слово «шалашовка», кстати, Стасу, совсем еще тогда отроку не от мира сего, нравилось гораздо больше, нежели «курва». В слове этом, которое мать повторять не разрешала, было что-то от хлипкого соломенного сооружения, приютившего Ленина незадолго до революции, – и кто знает, вдруг такой же путь, из шалаша в Кремль, повторит и заклейменная толстушка из комнаты напротив?
…Но это было чудовищно давно, до того, как нога, несмотря на холодные компрессы, опухала все сильнее; до того как он каждое утро говорил ей одно и то же: «Сегодня уж точно идти не смогу. Бросьте вы меня, вдруг успеете дойти до людей, расскажете, где я. Они придут и…»
И замолкал, потому что ничего, кроме: «…найдут мой хладный труп», на язык не просилось.
И боялся, что она кивнет в ответ. Боялся, потому что знал: если она прямо сейчас оставит ему два-три сухаря и почти нетронутую плитку шоколада; если пойдет все тем же упругим, бодрым шагом пионервожатой, то ей предстоит еще работы невпроворот, и возвышающих разговоров о любви минуты, и обыденного секса часы, и хлопот о семействе годы, а у него ни малейшего шанса ни на что, кроме погружения в смертный холод, не останется.
Однако «дерево вариантов», на котором: для него уготован только голый и почерневший сук под названием «смерть», а для нее на ветке, зовущейся просто и бесхитростно «бегство», жизнерадостно шумит зеленая листва, – это жутковатое «дерево вариантов» не казалось ему ни возмездием, ни наказанием, ни даже вопиющей несправедливостью: если Боливар не может вынести двоих[34]34
«Боливар не выдержит двоих» – крылатая фраза из кинофильма Л. Гайдая «Деловые люди» по мотивам рассказов О’Генри.
[Закрыть], то это беда не двоих, а одного – того, под кем нет коня.
И он не роптал. Он только умолял ее мысленно, чтобы и в это утро она пробурчала обычное: «Хватит чушь молоть, поднимайся, пора!» – и тогда еще один день, – третий, четвертый, пятый… девятый, – он будет опираться на ее прямое, сильное плечо.
Тогда еще одну ночь, – третью, четвертую, пятую… отгородившись от вселенского холода спасительной красной курткой на толстом слое синтепона, они станут друг друга согревать.
А днем побредут по воображаемой синусоиде: вверх на сопку, вниз по сопке.
А ели и сосны, все без исключения – и устремленные ввысь, и наклоненные, замахнувшиеся на вечность и уже почти павшие, – будут равнодушно наблюдать за трепыханиями этой бредущей куда-то парочки…
Впрочем, в реальности нет никакой синусоиды, есть только эти ели и сосны – устремленные ввысь и и уже почти павшие…
Еще есть бьющая молоточком боль в ноге. Тупая и чуть затихающая в промежутках между шагами вверх, но быстрая и острая, под тяжестью всех его ста сорока килограммов, когда идут вниз. Она-то, эта боль, и дает почувствовать разницу между подъемом и спуском. Она и еще то, что на подъемах он лишь ойкает, а на спусках иногда кричит – и тогда Влада бормочет неизменное:
– Да терпи же… Мужик ты или нет, в конце концов?
И в голосе ее с каждым разом все слышнее слезы.
А десятую ночь они провели почти на равнине, во всяком случае ставшие редкими деревья казались засмотревшимися на странную парочку зеваками, отбившимися от основной массы сородичей.
Осталось три сухаря, шоколад закончился. Сказывалось обезвоживание: силы убывали, слюна сглатывалась все труднее, а пригоршни снега, повлажневшего из-за близости моря, уже не спасали.
Когда эта ночь почти прошла, уже под утро, Стасу показалось, что Влада плачет. Но проснуться было трудно и потому, цепляясь за остатки сна, он поначалу уговаривал себя, что ничего подобного плачу эта пионервожатая не знает с раннего детства… а потом все же понял: и вправду плачет – не очень слезливо, но поскуливая.
– Что случилось? – пробормотал он. – Что с вами?
Ответила шепотом, прерывающимся частыми всхлипами:
– М-м-есячные начались… Не смогу идти, бо-о-лит з-з-верски-и…
– Так оставьте же меня, наконец! – сказал, вновь гордясь своей самоотверженностью. – Одна-то вы сможете поплестись как-нибудь.
– С-слушай, нам, может, скоро помирать… Ты переста-а-а-нешь коогда-нибудь чу-у-ушь молоть?
И тут Стас ощутил, – ясно и безнадежно, как ощущают в провидческих снах – на каких тоненьких нитях, нет, на какой одной тоненькой нити висит их существование, и даже «увидел» ножнички, почему-то маленькие, маникюрные, которые не смогут, конечно же, одолеть эту нить одним смыканием рабочих поверхностей, а будут щелкать еще день или два, тупя свои лезвия (кажется, у ножниц они называются жалами), злорадно щелкать, зная, что если не перережут, так перетрут, поскольку терпение и труд, как известно, перетрут абсолютно все.
Странно не то, что в голове его не мелькнуло: «Как же теперь быть, что же делать?..» – слишком он был обессилен, чтобы эти слова «быть» и «делать» означали что-то, кроме отвлеченного звучания. Странно другое: ведь ему тоже хотелось плакать, – тогда почему же в голове крутилась эта бессвязность про рабочие поверхности, жала, терпение и труд? Почему, постигающий мир и самого себя в нем, через любимые книги, вспомнил вдруг из Сэлинджера: «…Ты что, не знаешь – послушай меня, а? – ты что, не знаешь, кто на самом деле эта Дородная Тетка?.. Ах, дружок. Ах, дружок. Это сам Христос. Сам Христос, дружочек?»[35]35
Рассказ «Зуи».
[Закрыть]
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.