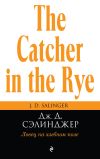Текст книги "Баку – Воронеж: не догонишь. Молчание Сэлинджера, или Роман о влюбленных рыбках-бананках"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
«Расстояние по воде от Монтрё до Сен-Жингольфа на километр больше расстояния от Веве, но я хитрее тебя, Рукотворный, и возьму значительно севернее! Через час с небольшим, – а что для меня час с небольшим, проплыв семь километров, – а что для меня семь километров! – я пересеку проходящую по воде франко-швейцарскую границу, и науськанная тобою полиция Веве станет бессильной! А семь с половиной километров от Веве до Монтрё одолею всего за десять минут, тем более что хорошо знакомая дорога ранним утром будет пуста: возьму налево, на Рю-де-Коммюно, затем направо, в сторону Рю дю Кло, за две минуты проскочу свободный от светофоров и поворотов километр по Рут де Шайли – и в зеркале заднего вида исчезнет блекло-оранжевое здание с башенкой comme une balise…»[68]68
Подобной маяку (фр.).
[Закрыть]
Совсем еще недавно, в те времена, когда она считала Рукотворного даром судьбы, когда его вывихнутая на Камчатке нога вспоминалась ею как призванное сблизить их несчастье, а не как сатанински хитрое испытание ее стойкости и неспособности предавать, когда мельница, упорно делающая свое ставшее никому не нужным дело, была символом их с Рукотворным верности друг другу – верности вопреки всему и несмотря на… когда скупка акций вспоминалась как единичное грехопадение, необходимое, чтобы жить безбедно и родить кучу детей, которым не грозила бы никакая эпилепсия… когда лекция в Праге была неприличным жестом гения в сторону крыс-трупожоров, разжиревших на руинах павшей страны… Совсем еще недавно, в те светящиеся от переполнявших ее иллюзий времена, она часто мечтала, как Рукотворный добудет наконец столько денег, что перестанет участвовать в биржевых безобразиях и купит этот дом. Станет проводить рассветные и закатные часы на вкруговую застекленной веранде «маяка» и писать что-нибудь гениальное. Не все же ему восхищаться чужой гениальностью, пора и свою собственную миру продемонстрировать!
Детям на веранду вход будет запрещен – чтобы не отвлекали.
«А мне? Неужели тоже запрещен?» – ластилась Влада к своему ленивому, доброму сенбернару… А теперь бежит от него…
И вот уже в зеркале заднего вида исчезло блекло-оранжевое здание с башенкой comme une balise… Полицейская машина с мигалками не появилась, сирена не взвыла – можно считать, что они с Леа уже чуть-чуть сбежали.
– А почему мне-то вход на веранду будет запрещен? Я же буду вести себя тихо…
– На французском берегу, куда кальвинизм не проник, такая же башенка была бы круглой, здесь же она выложена шестиугольной.
– И что?
– А то, что на французском берегу она выглядела бы фаллическим символом…
– Какая прелесть!
– Вот-вот! Как только ты появишься на веранде, мне станет казаться, что я не в храме возвышенных размышлений, а на французском берегу.
– Ой станет, ой станет!
Это же была такая веселая игра! Не хотела она его ежеминутно! И ежечасно не хотела – вполне хватало ночей. И не приманивание этого гения считала целью своего существования, а служение ему и их детям… Размечталась! Дворняга, безотцовщина, падчерица при родной матери, несостоявшийся геолог, так и не прочитавшая Ницше и Сартра недоучка! А еще и носитель генетического уродства, внедрившая чудовищную болезнь в свою несчастную дочь; дура, сумевшая в прилепившемся к ней на Камчатке вахлаке разглядеть гения, но не сумевшая предугадать, что для нее и дочери он станет злым гением…
Что ж, зато теперь, чтобы убежать от него, она переплывет Женевское озеро, пересечет пол-Европы и окажется там, где им, дворнягам, только и место – в глухом переулке имени глухого Бетховена, где Леа навсегда будет спасена от колес черного «Ленд Крузера», заранее, по воле злых звезд и наущению злой ведьмы Тамиллы, припасенного Рукотворным.
«Но хрен вам всем! – думала она, вцепившись в баранку автомобиля так, словно готовилась яростно изгрызть ее, так же как в детстве, изголодавшись, изгрызала старые сушки. – Хрен тебе, предатель Рукотворный! И тебе, ведьма Тамилла! И вам, проклятые звезды моей и доченьки судьбы! Мы все равно сбежим! Или сдохнем!»
И уже представляла, как они укроются в переулке имени того, кто был генетически отягощен даже не эпилепсией, а сифилисом, но сумел все перетерпеть и доказать, что на таких больных дворнягах держится мир.
Эпизод восьмой
Мифом о нежном герое… веет от его тихого образа, и, как серафим, витает он над нашим тяжелым и смятенным миром.
Стефан Цвейг
Стас. Меня до сих пор трясет, когда это представляю: май, вода градусов шестнадцать, а проплыла она километров восемь, не меньше.
Джей Ди. Неужели девочка ни разу не заплакала?
Стас. Кто теперь это может знать? Может быть, плакала все время, и это Владу, наоборот, подстегивало, вместо того чтобы заставить опамятоваться… У капитана одного из пяти курсирующих по озеру колесных пароходиков был бинокль с десятикратным увеличением. Он разглядел за спиной Влады головку ребенка, вызвал полицию, и когда подоспел полицейский катер, Леа от переохлаждения признаков жизни уже не подавала. Хотя при вскрытии потом выяснилось, что еще дышала… На требование немедленно подняться на борт Влада спросила: «Разве мы еще в Швейцарии?» – наверное, пересечение этой абсолютно условной линии в ее помраченном сознании отождествлялось с успешным бегством…
Джей Ди. От кого, от чего?!
Стас (с трудом). Наверное, от меня… потому что когда ей ответили утвердительно, она крикнула: «Рукотворный, живыми мы тебе не достанемся!» И нырнула…
Один из полицейских, опытный подводный пловец, нырнул с аквалангом и сумел перехватить ее на довольно большой глубине. Была едва жива, но отбивалась, стремилась погрузиться еще глубже… Она иногда говорила, что из всех возможностей убить себя признаёт лишь способ Мартина Идена…[69]69
В романе Джека Лондона «Мартин Иден» герой покончил с собой, намеренно нырнув на такую глубину, с которой уже не хватило сил подняться.
[Закрыть] Посмеивался, думал, выпендривается… Я вообще слишком часто над нею посмеивался.
Дознавателей было двое: пожилая, расплывшаяся тетка и атлетически сложенный, словно бы в укор патронессе, молодой парень. «Дочь спасала… – втолковывала им Влада, – и себя, конечно, тоже. Так дочь-то без меня как, по-вашему, вырастет? Круглой сиротой, что ли? Да нет уж, хватит того, что я сама сиротством объелась! Хорошо еще, добрая бабушка у меня была, а у Леа я одна, и за мать, и за отца, и за бабушек-дедушек. И единственным способом спастись было добраться до безопасного места. До Воронежа, знаете такой город? Не знаете?! – и подумала, что придурки они позорные. – До переулка имени Бетховена добраться, хоть композитора такого знаете?»
Слава богу, композитора такого знали!
«Там бы нас Рукотворный точно не достал… Кто такой Рукотворный? – главный наш с Леа враг, мой муж, но не ее отец… Отстаньте от меня, какая вам разница, кто ее отец?! Дело в том, что в переулок Бетховена “Ленд Крузер” не втиснется… Что значит, какой “Ленд Крузер”? – вы мозги-то включите! – тот самый, что мою бабушку убил. Дождался приступа эпилепсии – и наехал! Потому что им Тамилла и Рукотворный дистанционно управляли. Но Рукотворный раньше был хороший, честное слово, а потом попал под влияние звезд и ведьмы Тамиллы и теперь на 66 процентов состоит из мирового зла…»
Налившаяся молоком грудь уже болела и горела, и она потребовала: «Срочно принесите Леа, ее кормить пора!»
Стас. Позже, на дисциплинарной комиссии, этот идиот каялся, будто сам не понимает, почему кинулся к Владе, схватил ее за грудки и заорал: «Сука русская, долго ты будешь нам мозги парить?! Заплыв устроила, дочь свою убила, а теперь надеешься в психушке отсидеться?!» А женщина-дознаватель дала показания, что до того, как прозвучали слова «дочь свою убила» глаза у Влады были странные, но живые, а после – налились кровью и стали лишены какого бы то ни было выражения. Будто бы осознав наконец, что произошло, мозг скрылся от мира за однотонно-багровым плотным занавесом.
Джей Ди. Что ж, в эту секунду Владе твоей повезло… А дальше?
Стас. По представлению прокурора, поддержанному дисциплинарной комиссией, парня уволили из полиции с пожизненным запретом работать в органах власти любого уровня. За то, что не просто назвал подследственную «сукой», так еще и «русской сукой» – а упоминание в негативном контексте этнической принадлежности гражданина Швейцарии рассматривается для должностного лица как проступок на грани преступления.
Прокурор же и настоял на тщательном обследовании Влады. Были привлечены лучшие психиатры, их заключение надежд ни на что хорошее не оставило: временное выпадение из реальности, когда все действия подследственной определялись навязчивыми страхами и ирреальными надеждами, теперь сменилось абсолютным отстранением. Окружающих она не узнает, знание языков свелось к пониманию небольшого количества русских слов; командам, относящимся к гигиеническим и элементарным бытовым действиям, подчиняется, но все остальные не воспринимает. Подлежит содержанию, возможно, пожизненному, в психиатрической клинике.
И все тот же прокурор, странно, мне даже не понадобилось нанимать адвоката, добился разрешения суда на содержание Влады не в государственной клинике, а в той, на весь мир знаменитой, что в Монтрё.
Денег хватит надолго… навсегда… в биржевых операциях мне по-прежнему везет фантастически, такая вот компенсация всего.
Условия у нее там замечательные: большая отдельная палата с панорамным окном, диетическое и очень качественное питание; долгие прогулки в потрясающей красоты парке, персонал приветлив и вышколен. Впрочем, она, по-моему, ничего этого не замечает, хотя выглядит вполне ухоженной и опрятной. Но отсутствующей, понимаешь?
Время приблизилось к половине пятого, надо было уезжать, а ведь Стас мог бы рассказать еще многое.
О том, например, что Влада и его, скорее всего, не узнает, во всяком случае по имени или прозвищем ни разу не назвала. Однако намертво привязана к его рукам и запаху: дважды в день, лишь только он усаживается в парке или в зимнем саду клиники, она тут же, совершенно по-детски, вскарабкивается к нему на колени. Утыкается носом в грудь, чуть ли не сама обвивает вкруг себя его руки и издает писк мышонка, счастливо набредшего на кусочек сыра.
Наверное, он представляется ей отцом, которого она никогда не знала, но обрела в теперешнем блаженном безумии – и чем крепче его объятья, тем чаще она поднимает голову и взглядывает на него с тихой бессмысленной улыбкой.
Иногда, если уж быть совсем откровенным, ему кажется, будто она вспоминает их возвращение в Москву после скупки акций концерна «Мощность», но ведь тогда у них была долгая и сладкая физическая близость, а если б сейчас к нему вдруг пришла поганая решимость овладеть ею, она закричала бы, как ребенок, которого пытаются изнасиловать…
Но когда однажды он почему-то запаздывал, Влада стала молча кидаться на прочные стекла панорамного окна палаты с явным намерением разбить себе голову – и только инъекция сильнейшего успокоительного ее утихомирила. А когда проснулась и увидела его сидящим возле кровати, то потянулась с хрустом и тут же – не вскарабкалась даже, а прыгнула к нему на колени, – ее мыщцы чудом сохраняли свою потрясающую пластичность и силу. А в писке ее, вдвое, против обычного, длительном, кроме ликования, еще ясно слышалось: «Слава богу, это был всего лишь страшный сон!».
О том, например, рассказать, что как-то раз, особенно ясно поняв, что теперь на всю свою жизнь – без перерывов на праздники и болезни – привязан к посещениям клиники дважды в день, с десяти до полудня и с пяти до семи, взбунтовался. И задумал отомстить: подстерег того самого сотрудника полиции, уже год как из рядов изгнанного и спивающегося, схватил его за грудки и затряс – с острым желанием вытрясти из него душу подобно тому, как тот вытряс из Влады остатки разума. А парень только бормотал: «Убейте меня, месье, мне все равно скоро не на что будет жить…» – и так это было противно, что Стас в конце концов остыл. А остыв, заплатил клинике в Монтрё еще и за излечение Мориса от пагубной тяги к алкоголю, а потом одолжил ему кругленькую сумму, дабы тот арендовал и переоборудовал помещение этого самого кафе на улице Жан-Жака Руссо, 5. И приобрел сборно-разборную летнюю веранду, на которой они с Сэлинджером сейчас молчат.
И вот почти уже четыре года ежедневно пьет здесь кофе в счет долга Мориса. Дивно «прибыльная» коммерция, профит сравним разве что с «бульоном от варки яиц».
Но ничего такого не рассказал, потому что Морис, бывший дознаватель отделения полиции, общего для городков Веве и Монтрё, арендатор и единственный официант кафе, принес последнюю на сегодня чашечку кофе.
Приближалось время вечернего наплыва посетителей: сначала скучных клерков из отделения банка Lombard Odier, расположенного в этом же здании; потом еще более скучных и чрезвычайно экономных старичков и старушек, – и Морис, поставив чашечку на столик, позволил себе глубоко вздохнуть.
Этот вздох, эта непроизвольная вегетативная реакция, чуть-чуть освободила сердце от стискивающей его злобы. Впрочем, сегодня Морис злился уже не на злосчастную свою судьбу, заставляющую его сбиваться с ног, обихаживая изрядно надоевших посетителей, и не дающую, пока не возвращен пусть беспроцентный, но все же долг, нанять помощника. И даже не на «русскую суку», из-за которой была потеряна казавшаяся теперь райской служба в полиции, привычно злился, а на свою подружку Николь, запаздывающую, черт бы ее побрал, так сильно, что старик Сэлинджер того и гляди покинет кафе, отправится в Женеву, или в Лозанну, или на тот свет, куда ему давно уже пора. И сулящей много денег сенсации вполне может не случиться.
Но вот Николь, нелюбимая, но привычная, как утренняя зевота, появилась на веранде. Некрасивая по-особому, по-парижски, с тем налетом слегка вызывающей сексуальности, который был свойственен Парижу в те времена, когда он мог еще претендовать на звание «столицы мира» и «праздника, который всегда с тобой»[70]70
«Праздник, который всегда с тобой» («A Moveable Feast») – книга воспоминаний Э. Хемингуэя о его жизни в Париже в 20-х годах прошлого века.
[Закрыть]. Волосы ее, кое-как расчесанные, сегодня поднабрались вдруг такой упругости, что не висели, как обычно, а слегка вздыбились. Вздыбились впервые, пожалуй, за все то время, что Морис знал ее – поначалу как утомленную собственным хищничеством акулу пера, платившую ему за слив информации о криминальных происшествиях; а потом, в развитие взаимовыгодных отношений «ты – мне, я – тебе», знал то ли как хроническую подружку, то ли как вот-вот невесту.
Но, более того, в этот странный августовский день на щеках подружки-невесты рдели конечно же не румяна (яркий макияж Николь считала уделом шлюх), а самый настоящий румянец – румянец той отчаянной решимости, с какой взбунтовавшаяся паства обвиняет некогда считавшихся праведными иерархов в посещении тайных притонов.
Морис (громко и торжественно). Месье Сэлинджер, ваш визит в мое кафе – это грандиозное для меня событие, поэтому я и попросил мадемуазель Николь, лучшую журналистку кантона Во, сделать несколько снимков на память.
Тут только заметил, что, вопреки его ясным указаниям, эта чуть было не опоздавшая дура принеслась с пустыми руками: ни фотоаппарата, ни камеры, ни даже подаренного им недавно безумно дорогого мобильного телефона, делающего снимки, правда, довольно плохого качества… И выругался мысленно, и поклялся – в который уж раз! – дать ей отставку немедленно.
Джей Ди (громко и неприязненно). У меня – скверный французский, однако надеюсь, мое заявление будет вам понятно. В Европе я – по личным делам и не заинтересован в том, чтобы публика об этом знала. Не общаюсь с представителями прессы, поэтому на появление в средствах массовой информации, включая интернет, фотографий с моим изображением, не находящихся в распоряжении моего агента, давным-давно наложен запрет. За попытки его обойти ваши хозяева и вы лично, мадемуазель, будете подвергнуты большим штрафам. Всего доброго!
Стас поднялся: быть свидетелем перепалки между человеком, который сорок три года разжигает любопытство поклонников, но упорно не признает себя медийной персоной, и настырной представительницей этих самых медиа ему совсем не хотелось, да и пора было отправляться к Владе… Однако Николь обратилась к нему так умоляюще, что уйти он не смог.
Николь. Минуточку, месье Стас… кажется, вас зовут именно Стас… задержитесь ненадолго! Каюсь, когда Морис сказал мне, что в его кафе каким-то чудом забрел Сэлинджер, клятая журналистская привычка заставила сорваться с места – и плевать бы мне и редактору было на любые штрафы: уже завтра утром фотографии мэтра во всех ракурсах красовались бы на первой полосе. Но потом вспомнила, что в это самое время вы, месье, поглощаете здесь огромное количество кофе, что губительно для сердца, поэтому, умоляю вас, покажитесь врачу! И подумала: «Судьба! К черту сенсацию, пора ему сказать!» Подумала, что не желаю гоняться за свежими снимками и невнятным бормотанием человека, который не может не знать, как, прочитав его вещи, молодежь мучается: отвергать ли окружающую нас мерзость подобно Холдену Колфилду, пустить ли себе пулю в лоб подобно Симору Глассу или смириться и жить, как все? К примеру, так, как это получилось у легендарного автора, который использовал дарованный ему громадный талант, заколотил кучу бабла на том, что задал человечеству ряд проклятых вопросов, потом не дал ответа ни на один их них, послал всех к черту и ушел медитировать… Как же это удобно, боже мой! Какую долговечность сулит, ведь можно же дожить не только до девяноста, но и до ста, если вести себя умненько, а не так, как, скажем, наивный Сартр, который без конца ввязывался – ради тех, кто спрашивал его о чем-нибудь важном, – в бессмысленные бои то с дьяволом, то с Богом… О, я тоже бы хотела заколотить достаточно бабла, а потом навсегда удрать в созерцание собственного лобка, да вот, таланта, к несчастью, нет! Приходится поэтому заниматься плохой журналистикой. А для того, чтобы не одуреть от плохой журналистики – заниматься плохим сексом с Морисом, а чтобы не одуреть от плохого секса – мечтать впасть в какое-нибудь высокое безумие или хотя бы поверить, что оно вообще существует… Не в сумасшествие впасть, месье, теперь ведь модно быть слегка сумасшедшим, теперь каждый второй лечится от неврастении, истероидности, депрессии или аутизма, а в безумие впасть, в настоящее, бросающее вызов всему устоявшемуся безумие. В то, которое исчезло из мира, простите, месье, бога ради, что я вас задерживаю! Но меня буквально распирает, месье, и я не могу не сказать, что сумасшествие вашей жены – это всего лишь крайняя степень сумасшествия каждого из нас, желающего убить отца, или мать, или детей, или себя, в конце концов… Но ваше безумие – о! оно божественно высоко! На всю жизнь привязать себя к ежедневным, да что там, дважды в день, посещениям безнадежно отошедшей от реальности любимой… Месье, на это способны только описанные Достоевским идиоты… Месье, местные жители восхищаются вами и относятся к происходящему, как к чуду, уверяю вас! И ни одно журналистское перо, каким бы продажным оно ни было, не посмеет написать о вас ни слова; ни один язык, сколь бы трепливым и сплетнявым он ни был, не посмеет громко сказать о вас – только благоговейным шепотом, месье… Простите меня, что плачу… берегите себя… не пейте, пожалуйста, так много крепкого кофе!
И убежала, рыдая почти в голос, и волосы словно бы мигом взвихрились под струйками чистого альпийского воздуха. И напомнили Стасу и непокорную копну Влады, склонившейся над микроскопом в комнате для камеральных работ Анавгайской геологосъемочной партии. И еще напомнили колыхающиеся в толще воды Наташины волосы, словно бы помогающие ей удерживать голову на поверхности всегда неспокойного Тихого океана.
А Морис, приоткрыв рот, смотрел вслед Николь и думал потрясенно, что не он дал ей отставку, а она – ему.
И не заметил, как Сэлинджер, широким щедрым жестом бросив на столик стофранковую купюру, пошел в ту же сторону, что и Стас; не заметил, как он прошел мимо «порше», в который тот усаживался, и сказал вслух, впервые в жизни выговаривая русские слова, написание которых отлично помнил с тех времен, когда учился читать Толстого в подлиннике…
Не «Прощай, Рукотворный!» сказал, а «До свидания, Рукотворный!», поскольку был уверен, что свидание с внуком Леа состоится еще раз.
Эпилог
Через три года, в тот же день – 27 августа, Стас, направляясь к излюбленному своему месту на летней веранде все того же кафе, увидел Сэлинджера, который сидел в точности там же, где и при первой их встрече.
И вновь прихлебывал воду, а на поверхности стола красовались бумажные кружочки, которые подкладывали под принесенные ранее высокие стаканы.
И явно ждал…
Стас пригубил кофе и поморщился: не та крепость и не тот вкус, хотя рост цены неуклонен, как подъем вод альпийских рек даже после малоснежных зим. Следовало бы возмутиться, но еще прибавившему за прошедшие три года в весе Стасу было лень это делать, он лишь подумал, что в какой-нибудь из ближайших дней обязательно позовет бывшего инспектора полиции и назовет его жадным тупицей.
Перенеся тот факт, что Николь послала его к чертям собачьим, с подобающей мужчине сдержанностью, Морис вскоре выгодно женился. Жена его внесла, в качестве свадебного подарка, полную сумму долга на банковский счет Стаса; по ее же настоянию был нанят официант, и обожаемый муж почти перестал выходить из комнатки, где «ведет дела» – то есть проверяет счета и скучает.
Но в течение любого буднего дня одно событие заставляет Мориса отвлечься от «ведения дел»: в четверть второго, поднеся Стасу первую чашечку кофе, официант вглядывается в окна отделения банка Lombard Odier, после чего спешит в комнату шефа с сообщением: «Смотрят!» Это означает, что служащие банка наблюдали за приходом Стаса и теперь не сразу расходятся по рабочим местам; это означает, что в пять минут шестого клерки, как бы они ни спешили, завернут в кафе, – хотя и заворачивать-то не надо, просто толкнуть соседнюю дверь или, если на дворе не зима или холодно-слякотное межсезонье, не проходить мимо веранды, – и примутся в очередной раз обсуждать: «Неужели же вот так, до самой смерти?», «Что, он никогда не болеет или превозмогает гриппы, не укладываясь в постель?», «Способен ли на подобное кто-нибудь, кроме сумасшедших русских мужчин и сумасшедших японских собак?» – про пса породы акита-ину заговорили после того, как фильм с участием Ричарда Гира исторг слезы у миллионов зрителей во всем мире[71]71
Фильм «Hachi: A Dog’s Tale», в русском прокате «Хатико: самый верный друг».
[Закрыть].
А к половине шестого в кафе потянутся прочие посетители: жители Веве и туристы, которым гиды про Стаса иногда рассказывают, – потянутся, чтобы задать официанту, друг другу и Господу Богу все те же вопросы.
В этот раз Сэлинджер заговорил на русском – медленно и затрудненно.
– Ты, я вижу, и здесь стал легендой, Рукотворный. Или не замечаешь того?
А Стас ответил на «английском English», который показался старомодным даже Джей Ди, мастодонту из очень-очень прежнего поколения.
– Я не настолько отрешен от мира, чтобы не замечать. Хотя все на редкость деликатны: максимум что себе позволяют, – поздороваться. И в СМИ о Владе и обо мне – ни слова, Николь, та экзальтированная девица, оказалась права… А ты, наверное, написал о нас роман?
– А зачем же я, по-твоему, приехал?
– Со мной повидаться. И поговорить на этот раз по-настоящему.
– Как ни странно, и это тоже. – Джей Ди не выдержал напряжения, перешел на английский; на американский английский, на тот, который во многом и сложился благодаря его текстам. – А кроме того положил рукопись в сейф банка, откуда на тебя сейчас глазеют.
– А нельзя ли прочитать обо мне и моей жене хоть несколько страниц?
– Рукопись можно будет достать и опубликовать нескоро – таково мое нотариально заверенное распоряжение, и оно не отменимо. Теперь уже даже мною.
– Ладно, дождусь…
– Тогда уже с завтрашнего дня начинай избавляться от лишнего веса и перестань заглатывать столько кофе: дожидаться придется тридцать пять лет. Сейф откроют в столетнюю годовщину того, как мы с Хемом надирались в Париже, и он предложил завопить «Достиг!..» на весь свет, этот и тот, если какая-нибудь из наших вещей будет сделана на уровне Толстого. И мне почему-то кажется, что дух Хема прокричит там моему духу: «Достиг!..» – и я отвоюю наконец мою Леа у твоего деда. Все-таки мою, кто бы что ни думал. …Но расскажи, как ты жил с того дня, как мы здесь три с лишним часа смотрели друг на друга. Только учти, у меня уже нет сил на долгое общение, даже молчаливое, наверное, скоро умру.
Где-то с месяц назад директор клиники попросил Стаса задержаться после вечернего посещения. Пригласил в кабинет, старая дубовая мебель в котором решительно отвергала прогресс, раскручивающийся, как камень в праще Давида. Потому, наверное, и профессор, заведующий отделением, где находилась Влада, так любовно поглаживал на коленях полы халата, явно перешедшего к нему от очень далекого предшественника, но до хруста накрахмаленного и белого, как вершина Монблана.
– Мы в последнее время, – порадовал он Стаса, – очень осторожно заговорили о неожиданно возникших благих изменениях в состоянии вашей жены. Она несомненно реагирует на французскую и немецкую речь, она стала тщательно причесываться перед свиданиями с вами. Мы заменили ей умывальные принадлежности на более изысканные и мыло на более пахучее и красивой формы – это ее безусловно порадовало. Не подскажете, какие духи она любила?
– Pure Poison[72]72
Чистый яд (фр.).
[Закрыть] от Диора, – ответил Стас. – Она смеялась, когда я спрашивал, почему именно эти: «Потому что мечтаю стать ядовито красивой».
– Отлично! Мы попробуем поставить в ванной совсем маленький флакончик.
И через день Стас уже наслаждался любимым ароматом, истончающимся и исчезающим, как последняя крупная льдина на вскрывшейся реке… Но потом Влада опять растирала за ушными раковинами по крохотной маслянистой капле, – она и раньше расходовала духи чрезвычайно экономно, – и аромат возвращался сжимающим сердце воспоминанием.
Так продолжалось недели полторы, потом Стаса опять пригласили в кабинет директора.
– У нас странные новости, не очень понятно, хорошие или плохие, – сообщил профессор, – несколько дней назад ваша жена попросила – причем, на французском! – принести ей копию иконы Казанской Богоматери, очень почитаемой, как мы узнали из интернета, у вас в России. И теперь часто молится, стоя перед нею на коленях и произнося одну и ту же фразу… мы записали, послушайте, это действительно молитва?
Стас услышал голос Влады: «Матерь Божья, смилуйся, забери меня обратно. Матерь Божья, забери меня обратно…» – и ему стало тревожно.
– Следите за нею пристальней, – попросил он. – Боюсь, могут возобновиться попытки суицида.
А под вечер следующего дня солнце нежданно-негаданно заволокли грозовые тучи, но разрешение накапливаемого в атмосфере возбуждения долго откладывалось, томя неизвестностью.
В этих искусственных сумерках Влада, не забравшаяся, против ожидания, на колени к Стасу, а усевшаяся напротив него, выглядела будто бы изображенной на будущем своем портрете, если бы довелось ей дожить лет до шестидесяти. Эта женщина порадовала бы увидевшего портрет пусть слегка морщинистой, но здорового цвета кожей, и сверкающими глазами, и густыми, хотя и седыми, волосами.
Но тому, кто рассматривал бы портрет очень пристально, явились бы и спрятавшиеся в чуть опущенных уголках губ сиротство, и метания в поисках своего единственного, и разочарование в этом единственном. И долгие годы обретения простой, но ускользающей мудрости, заключающейся в том, что единственный – это не статуя божка, разбивающаяся, когда вдруг падает с пьедестала, а тот, кто появляется во всех твоих двенадцати жизнях для сотворения в них музыки и какофонии, радости и боли.
– Рукотворный, – шептала она, и Стасу казалось, будто этот шепот обуздывает и готовые вот-вот сверкнуть молнии, и готовый вот-вот раскатиться гром, – я ведь так старалась, чтобы ее головенка была поверх воды, и одела тепло, и в ткань водонепроницаемую завернула. И покормить успела, помнишь тот круглый понтон в Монтрё, с лесенкой, – прямо там и покормила. Она спала, виски-то я накануне хватанула порядочно, но голова у меня была ясная… Как это возможно, скажи: безумная, но ясная, – и все делалось продуманно… А нырнула, клянусь тебе, Рукотворный, не для того, чтобы ее убить, а чтобы вместе с нею умереть, ты это знаешь, правда, Рукотворный?
– Да, – шептал он ответно, – конечно, знаю…
И казалось, что после этого неминуемо должна сверкнуть молния, но нет, шепот Влады пока еще укрощал будущее буйство природы.
– Рукотворный, это ведь звезды тебе сказали, что мне детей иметь нельзя, потому ты и сделал операцию, ради меня сделал, собой пожертвовал. И ничего не сказал, да я бы все равно не поверила… Никогда до конца тебе не верила, наверное, потому, что чувствовала: не заслужила я такого, как ты, это мне Камчатка тебя подарила – просто так, от щедрот своих подарила, как первой встречной, как случайно подвернувшейся…
– Не смей так говорить, – шептал он, – ты в тысячи раз лучше меня, в тебе частичка Христа… А я… если бы ты знала, какое я ничтожество.
И должен был бы грянуть гром, но вновь ее ответный шепот отодвинул приближающуюся грозу:
– Да почему же ничтожество, ведь ты собой ради меня пожертвовал. А больше не надо жертвовать, хватит. Уезжай отсюда завтра же, опять в Калифорнию уезжай. У тебя там кто-то есть, да? Вот и хорошо, к ней и уезжай… Хватит ко мне ходить, больше я не буду к тебе на колени забираться, только вот сейчас… в последний раз… пристрой меня в какую-нибудь здешнюю государственную психушку, мне будет все равно, я Богородицу упросила и ничего больше не буду чувствовать, не буду знать, что девочку свою убила… Забери свои и мои деньги и уезжай, убегай от меня поскорее… Перестань плакать, глупый, лучше обними, чтобы как тогда, в поезде… не бойся, нас не потревожат, я попросила… здесь такие все хорошие, и ты хороший, самый лучший, я вас всех не заслужила… ничего, ничего, в последний раз можно.
Странно, как могло быть так хорошо, если все время плакал, если каждая слезинка, скатывавшаяся на дрожащие губы, была словно бы поминальным тостом: «За то, что было на Камчатке», «За то, что было на мельнице», «За дорогу из Гродно», «За дни и ночи скупки», «За лекцию на веранде ресторана “Каменный Стул”», «За ужин на вилле Бертрамка», «За встречу в женевском аэропорту»… Много слезинок-бокалов довелось испить… а потом, с ее вскриком, все было кончено, – со вскриком, в этот раз прозвучавшим не будто бы, а по сути, всего, из недоступного ему далека, за не видным ему поворотом.
И глаза ее опустели, и его больше не видели.
Вряд ли они вообще что-нибудь видели, – и, будто бы в ознаменование наступления этой ее вечной незрячести, на парк, на Монтрё, на весь кантон Во рухнул ливень, заключивший в себя все бешенство так и не засверкавших молний, весь гнев так и не грянувших громов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.