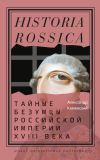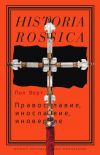Текст книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"

Автор книги: Михаил Долбилов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Михаил Дмитриевич Долбилов
Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II
Редакционная коллегия серии
HISTORIA ROSSICA
Е. Анисимов, В. Живов, А. Зорин, А. Каменский, Ю. Слёзкин, Р. Уортман
Рецензенты:
д-р ист. наук О.В. Будницкий, д-р ист. наук Л.Е. Горизонтов
В оформлении обложки использована литографированная карикатура на Александра II работы Джеймса Тиссо (1869)
© М. Долбилов, 2010
© «Новое литературное обозрение», 2010
Моим родителям
Слова признательности
Приступив в 1998 году к исследованию, результатом которого стала эта монография, я плохо представлял себе и масштаб предстоящей работы, и глубину залегания манящих архивных материалов, и линию развития темы, оказавшуюся довольно извилистой. На этом пути я неизменно получал советы, поддержку и ободрение со стороны многих людей.
В первую очередь я считаю долгом выразить сердечную благодарность Дариусу Сталюнасу. Сотрудничество со столь знающим, открытым к диалогу, отзывчивым и ироничным коллегой, да еще ближайшим соседом по аллоду – удача, которую фортуна нечасто дарит исследователю. С момента нашего знакомства в Вильнюсе в сентябре 2001-го Дариус щедро делился со мной идеями, гипотезами и ссылками на источники, заинтересованно и с должной критичностью вникал в мои тексты, помогал разобраться в перипетиях литовской истории. Со временем наши дискуссии вышли и на страницы публикаций. Этот постоянный обмен опытом в процессе исследования был для меня одним из важнейших стимулов к ревизии первоначальных подходов и целей, не давал успокоиться и опочить на однажды предложенных интерпретациях. Разумеется, сказанное ни в коем случае не означает, что на Дариусе лежит доля ответственности за излагаемые ниже мнения и оценки (а равно и за объем текста, с которым я грузно финиширую на своей дорожке нашего марафона).
Становлением в качестве исследователя имперской проблематики я во многих отношениях обязан Алексею Миллеру. Как историку, мыслящему по преимуществу эмпирически и порой стреноженному буквой источника, мне всегда было (и будет) полезно поучиться у него умению видеть прошлое в широком окоеме. Первые же беседы с Алексеем помогли мне уяснить, чем именно случай Северо-Западного края мог бы быть интересен с позиции изучения общеимперских тенденций. Это явилось своего рода открытием: то, что я воспринимал как краткосрочную любительскую экспедицию на периферию империи, обернулось участием в коллективном освоении нового историографического пространства. Совместная работа в 2002–2005 годах над томом о западных окраинах из серии «Окраины Российской империи», выявив как области согласия, так и точки расхождения между Алексеем и мною, определила многое в направлении и характере моих дальнейших поисков и в контекстуализации круга сюжетов, избранного для этой, ныне завершенной, книги.
Трудно переоценить значение, которое имело и имеет для меня профессиональное общение с Полом Вертом. В немалой степени под влиянием его работ и бесед с ним самим я сосредоточил свое исследование на вопросах религиозной политики в империи, отказавшись от выдвижения на первый план этнических факторов. Меня не перестают поражать эрудиция Пола в сложной истории имперской веротерпимости, его знание источников и видение скрытых связей и сходств там, где менее пытливый взгляд довольствовался бы констатацией случайности и бессистемности, особенно если речь идет о российской бюрократии. Живой интерес Пола к моему проекту не раз помогал мне выбираться целым и относительно невредимым из расселин авторских сомнений и разочарований.
На разных стадиях сбора материала и работы над текстом монографии я имел удовольствие обсуждать занимавшие меня вопросы и со многими другими коллегами. Некоторые из них дали себе труд ознакомиться с подготовительными версиями тех или иных фрагментов книги. С благодарностью назову тех, чьи советы, соображения, одобрительные отклики и критические замечания оказались особенно полезными и эвристичными. Это Елена Астафьева, Владимир Олегович Бобровников, Олег Витальевич Будницкий, Пол Бушкович, Владимир Викторович Ведерников, Хенрык Глембоцкий, Леонид Ефремович Горизонтов, Александр Николаевич Дмитриев, Михаил Владимирович Дмитриев, Майкл Дэвид-Фокс, Эрнест Зицер, Андрей Леонидович Зорин, Александр Борисович Каменский, Андреас Каппелер, Борис Иванович Колоницкий, Джон ЛеДонн, Эрик Лор, Ольга Евгеньевна Майорова, Кимитака Мацузато, Норихиро Наганава, Бенджамин Натанс (в роли анонимного рецензента, позднее любезно раскрывшего инкогнито), Анджей Новак, Маттео Пиччин, Александр Юрьевич Полунов, Екатерина Анатольевна Правилова, Михаил Алексеевич Прасолов (чье предложение дать книге метафорическое заглавие «Предзакатный край», хотя и нереализованное, высветило для меня новые аспекты темы), Анатолий Викторович Ремнев, Алесь Смалянчук, Андрей Тихомиров (я чрезвычайно признателен Андрею за ценные комментарии к ряду глав монографии в одной из ее последних редакций), Тед Уикс, Ричард Уортман, Борис Андреевич Успенский, покойный Дэниел Филд, Александр Ильич Филюшкин, Марк фон Хаген, Фритьоф Беньямин Шенк, Сергей Анатольевич Штырков, Мартин Шульце Вессель.
Приятной данью благодарности я обязан главному редактору издательства «Новое литературное обозрение» Ирине Дмитриевне Прохоровой. Несмотря на неоднократные отсрочки сдачи рукописи, она сохранила интерес к моему проекту и одобрила публикацию книги в объеме, который не потребовал радикального сокращения исходной версии. Опубликовать свой труд в НЛО – большая честь и большая радость для меня.
Несколько исследовательских стажировок и грантов решающим образом содействовали увлекательной и результативной работе над этим проектом.
В 2002 году благодаря стипендии от National Council for Eurasian and East European Research (Carnegie Research Fellowship), США, я провел несколько месяцев в Институте Гарримана Колумбийского университета. Это время оказалось исключительно благоприятным для обдумывания новых идей и открытия новых интересов, перекинувших мостик от моих предыдущих занятий историей крестьянской реформы 1861 года к изучению России XIX века как империи. Моя признательность Ричарду Уортману, чья профессиональная и дружеская поддержка придала мне уверенности в себе на этой переправе, безгранична.
В 2005–2006 годах мне посчастливилось быть приглашенным научным сотрудником Центра славистики (Slavic Research Center) Хоккайдского университета в Саппоро, Япония. Больше половины глав этой книги написаны на Хоккайдо, навсегда завладевшем моим воображением. Великолепные условия, созданные Центром для научного творчества, и помощь, которую я получал лично от Кимитаки Мацузато, явились существенным вкладом в завершение проекта.
В 2003–2005 годах данное исследование было поддержано стипендией в рамках Специальной программы для историков Беларуси, Молдовы, России и Украины Фонда Герды Хенкель (Gerda Henkel Stiftung), Дюссельдорф, ФРГ. Без нее было бы невозможно реализовать многие мои планы поиска материалов и сосредоточиться на их обработке. Хорошим подспорьем послужил также грант программы «Межрегиональные исследования в общественных науках» АНО ИНО-Центр, Москва, в 2003–2004 годах. В этом же ряду надо назвать и короткую, но очень познавательную стажировку в Университете Гумбольдта в Берлине по программе «Александр Герцен» в 2001 году, организовать которую помог Дитмар Вульф.
Конечно, ни одно из названных лиц и учреждений не несет ответственности за те ошибки и недостатки, а также излишества, которые читатели могут обнаружить в монографии.
Так получилось, что за годы занятий этой темой я не раз менял место работы. И в alma mater – Воронежском государственном университете, и в Европейском университете в Санкт-Петербурге, и, наконец, в Университете штата Мэриленд в Колледж-Парке (University of Maryland, College Park), США, коллеги всячески способствовали успеху моего проекта. Тепло вспоминая Воронежский университет, я хотел бы воспользоваться случаем и особо засвидетельствовать почтение Михаилу Дмитриевичу Карпачеву, который двадцать лет назад побудил меня заняться эпохой 1860-х, ставшей с тех пор моей виртуальной реальностью. В Европейском университете в Санкт-Петербурге, преподавая курс по истории окраин Российской империи, я лучше разобрался в целом ряде сюжетов дописывавшейся тогда книги и, надеюсь, смог сделать их менее эзотеричными и более читкими. Большое спасибо всем аспирантам, посещавшим этот курс, – их реакция, комментарии, вопросы и размышления были для меня очень важны.
В сокращенном виде некоторые главы данной книги публиковались в периодических изданиях: «Ab Imperio» (2006, № 4 – гл. 7), «Архив еврейской истории» (2006, вып. 3 – гл. 9) и (на английском языке) «Acta Slavica Iaponica» (2007, vol. 24 – гл. 11). Я благодарен редакторам этих изданий за разрешение включить опубликованные фрагменты в книжную версию. Отдельная благодарность – редакторам «Ab Imperio» Илье Герасимову, Сергею Глебову, Александру Каплуновскому, Марине Могильнер, Александру Семенову. Сотрудничество с этим журналом, в качестве как автора статей, так и соредактора (вместе с Д. Сталюнасом) тематического форума «Алфавит, язык и национальная идентичность в Российской империи», много значило для меня в процессе работы над монографией. Я признателен также редакторам журнала «Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History» за публикацию в 2004 году моей статьи, обсуждение которой помогло мне сориентироваться на тогдашнем участке исследовательского пути.
Общением с доброжелательными и компетентными коллегами была облегчена и заключительная стадия работы над книгой. В.Н. Темушев значительно улучшил мой первоначальный замысел карт, иллюстрирующих конфессиональную политику властей. Елена Мохова замечательно совместила корректорскую вычитку с редакторской шлифовкой текста, и если столь тщательная процедура не до конца избавила мою прозу от витиеватости и смешанных метафор, это целиком и полностью вина автора. В получении доступа к материалам, спешно понадобившимся мне при доделке книги в разгар учебного года на новом месте работы, очень помогли в Петербурге – Ирина Вибе, Владимир Рыжковский, Татьяна Хрипаченко, в Вильнюсе – Андрей Тихомиров.
Участие, терпение и всевозможное содействие родных и близких заслуживают тех слов благодарности, которые трудно выговорить, не рискуя прозвучать чересчур выспренне. Моя жена Ирина Жданова была первым, исключительно внимательным, критиком и редактором всего текста книги. Хотя нередко скептические замечания Иры обескураживали меня, не давая всласть посмаковать такие вроде бы тонкие аллюзии и изящные аллитерации, в конечном счете очень многие из ее советов удалить/сократить/переписать оказались гораздо полезнее, чем мог бы быть допинг дежурных похвал.
Опора, которую я всегда находил в моих родителях, поистине незаменима. Их поддержка и вера в то, что мои штудии имеют смысл, нисколько не ослабевали по мере того, как я забирался все дальше в дебри истории бюрократических экспериментов с «чужой верой» на землях имперского Дальнего Запада. Родителям – Кларе Петровне Ленченко и Дмитрию Михайловичу Долбилову – я и посвящаю с любовью эту книгу.

Северо-Западный край Российской империи в 1860-1870-х гг.

Римско-католические приходы Виленского, Вилейского, Ошмянского и Свенцянского уездов Виленской губернии в 1860-1870-х гг.

Католицизм в Минской губернии в 1860-1870-х гг.

Католицизм в Гродненской губернии в 1860-х гг.
Введение
Заглавие книги сталкивает между собой два клише, деконструкция которых составляет нерв этого исследования. В центре внимания находится так называемый Северо-Западный край, одна из стратегически значимых периферий Российской империи, которую в правление Александра II составляли – на основе прямого подчинения генерал-губернаторской юрисдикции или менее формального административно-пространственного тяготения – шесть губерний: Виленская, Гродненская, Ковенская, Минская, Витебская и Могилевская. Вся эта территория, в основном совпадающая с сегодняшними границами Белоруссии и Литвы, вошла в империю в результате трех разделов Речи Посполитой (внутри которой она являлась литовской частью двуединого Содружества): Могилев, Полоцк и Витебск были аннексированы в 1772 году, Минск – в 1793-м, Вильна, Гродно и Ковно – в 1795-м. В новую эпоху, когда имперские власти начали, хотя и осторожно, определять себя и свои отношения с подданными через националистические ценности и идеалы и требовать повышения управляемости окраин, восточные «кресы» бывшей Речи Посполитой, еще даже в 1850-х годах именовавшиеся на бюрократическом жаргоне «возвращенными от Польши» губерниями, были провозглашены «исконно русским и православным» краем. Иными словами, в них опознали не только законное достояние династии, но и неотъемлемую часть «русской земли», одно из коренных мест проживания единого русского народа[1]1
В этом, с точки зрения властей, состояло принципиальное отличие Северо-Западного края от Царства Польского, где, несмотря на сходство политической ситуации, задача массовой деполонизации не ставилась, как не предпринимались и попытки изменить соотношение конфессий в пользу православия. Это соображение, наряду с технической невозможностью одинаково глубокого анализа политики империи в двух регионах бывшей Речи Посполитой, обусловило ограничение географии исследования Виленским генерал-губернаторством. Попытку обзорного сравнения правительственных действий в Царстве Польском, Северо– и Юго-Западном краях в 1860–1870-х годах см. в: Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. М., 2006. С. 123–300.
[Закрыть]. Однако этническая и конфессиональная пестрота региона была той наблюдаемой невооруженным глазом реальностью, которую требовалось как-то согласовать с идеологической операцией по утверждению «русскости» и со связанными с нею различными экспериментами по укреплению лояльности населения. То, как творцы и исполнители имперской политики в регионе осознавали, описывали, мифологизировали и пытались на деле преодолеть культурную чуждость, и является предметом изучения в данной книге.
Мною избран такой ракурс анализа, который, как представляется, позволяет максимально сосредоточиться на взаимосвязи между сферой дискурса и конструирования идентичностей, с одной стороны, и областью институтов, административной механики, управленческих практик, с другой[2]2
Недавний призыв С. Коткина реабилитировать в повестке дня западной русистики исследование политических и юридических институтов, управления, экономики и структур обмена – всего того, что значительно потеснено в последние десятилетия изучением идентичностей и их трансформаций, – прозвучал, конечно, в подходящий момент (Kotkin S. Mongol Commonwealth? Exchange and Governance across the Post-Mongol Space // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2007. Vol. 8. № 3. P. 487–532). Однако мне представляется преувеличением замечание Коткина о том, будто большинство исследователей национализма в российской истории доводят до абсурда концепцию нации как «воображаемого сообщества» Б. Андерсона и, совершая некий онтологический подлог, наделяют идентичность свойствами не дискурсивной конструкции («identity game»), а осязаемой реальности, вожделенной самоцели nation-building, жизненного достояния нации (Ibid. P. 527–530). В моем исследовании понятие «идентичность» используется для анализа попыток бюрократии воздействовать на самосознание и лояльность различных групп населения, причем контекстом анализа является именно повседневная деятельность управленческих институтов.
[Закрыть]. Даже самые безудержные русификаторские фантазии – какие-нибудь прожекты деполонизации, раскатоличивания или борьбы с еврейским «фанатизмом» – должны были вводиться чиновниками в элементарные процедурные рамки. Эта взаимосвязь и взаимозависимость между воображением властей и административным опытом воздействия на умы, души и тела населения особенно четко прослеживается по линии конфессиональных структур.
О религиозности, как (и если) она проявлялась в момент непосредственной встречи между государством и подданным, и идет преимущественно речь в большинстве глав монографии. Здесь надо подчеркнуть, что присутствующее в заглавии книги определение «этноконфессиональная» – довольно условный композит, который вовсе не подразумевает некоей нераздельности этнического и конфессионального в представлениях бюрократии о населении.
С одной стороны, действительно, в России середины XIX века этничность (или, согласно распространенной терминологии той эпохи, «народность») нередко определялась через конфессиональные – или социоконфессиональные – характеристики. Поскольку этническая, этноязыковая принадлежность не являлась официальной категорией идентификации подданных в империи[3]3
См., напр.: Стейнведел Ч. Создание социальных групп и определение социального статуса индивидуума: Идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России // Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет / Ред. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 610–633.
[Закрыть], конфессиональные и сословные аспекты этой демографической мозаики легче поддавались наблюдению, регистрации и воздействию. Католик ассоциировался с «поляком» и, как правило, представлялся лицом из привилегированных сословий или среднего класса; лютеранин – с «немцем», чаще всего выходцем из дворянской или бюргерской элиты остзейских губерний; «магометанин» – прежде всего с «татарином», как именовались тогда разные группы тюркоязычного населения, обычно оседлого, а не кочевого. Сам собою напрашивается и пример отождествления русскости с православием. Даже когда власти признавали архаичность классификации подданных по критерию конфессиональной принадлежности, наследуемой индивидом при рождении вместе с сословным статусом, и пытались заменить его национальностью (термин постепенно входил в употребление во второй половине века[4]4
См. об этом: Миллер А. «Народность» и «нация» в русском языке ХIХ века: подготовительные наброски к истории понятий // Российская история. 2009. № 1. С. 151–165.
[Закрыть]), на практике определение этого искомого свойства, несмотря на оговорки о необходимости тщательного учета родного языка, воспитания, круга общения, даже самосознания, упиралось все-таки в легче всего регистрируемый признак вероисповедания. Именно так в 1860-х годах местные чиновники «упростили» в западных губерниях предписанную сверху довольно изощренную процедуру определения «лиц польского происхождения», приняв за главный критерий либо исповедание католической веры, либо – в случае перехода в православие – факт принадлежности к «латинству» в недавнем прошлом[5]5
Staliūnas D. Making Russians: Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. Amsterdam; NY: Rodopi, 2007. P. 71–89, 127–129.
[Закрыть].
С другой стороны, государственное управление конфессиями и контроль над проявлениями религиозности имели собственные задачи и логику, которые и во второй половине XIX века, с ростом национализма, не во всем совпадали с процессами восприятия и концептуализации этничности. Начиная по крайней мере с петровского царствования конфессиональная политика представляла собою один из главных механизмов, при помощи которых власть распознавала, описывала, систематизировала и фиксировала политически, а иногда и идеологически значимые различия в подвластном населении. За длительное время сформировались институциональная структура и законодательный базис этой политики, сложились соответствующая специализация в среде бюрократии и управленческая традиция, которая по ходу территориального расширения империи находила для себя все новые объекты приложения[6]6
Наиболее убедительно этот тезис обосновывается в новейшей статье П. Верта: Werth P. The Institutionalization of Confessional Difference: «Foreign Confessions» in Imperial Russia, 1810–1857 // Defining Self: Essays on Emergent Identities in Russia, Seventeenth to Nineteenth Centuries / Ed. M. Branch. Helsinki: Finnish Literature Society, 2009. P. 152–172. Мне кажется, однако, выбивающимся из общей аргументации статьи утверждение Верта о том, что «в императорской России фактически имелась если не “национальная политика [nationalities policy]”, то ее функциональный эквивалент – конфессиональная политика…» (Ibid. P. 152). В такой трактовке конфессиональная инженерия империи предстает лишь способом разобраться с этническими проблемами. Между тем исследование самого Верта показывает, например, что в подходе властей к неправославным (т. н. иностранным) вероисповеданиям было немало заимствованного из государственной регламентации православия образца XVIII века (в духе Polizeistaat), т. е. из церковной политики, которая прямого отношения к этнонациональным вопросам не имела. В данной монографии я постараюсь доказать, что наследие XVIII века сохраняло актуальность для управления конфессиями и в эпоху крепнущего национализма.
[Закрыть].
Поэтому даже в тех случаях, когда восприимчивые к националистическим веяниям, секулярно настроенные чиновники стремились редуцировать конфессиональное к функции маркировки этнического и национального, дальнейшие действия в отношении данной группы или индивида не могли быть предприняты помимо опробованных методов и инструментов религиозного администрирования. А это, в свою очередь, расширяло представления о возможностях и радиусе влияния конфессиональной политики. Как будет показано ниже, меры, задуманные в начале 1860-х годов прежде всего для дискриминации польскоговорящих элит, по мере своего развертывания приводили власти к открытию неожиданных сторон католической религиозности, проявлений благочестия и прочего в том же роде, обретая таким образом новые смысл, охват, направленность, да и степень радикализма.
При оценке значимости конфессиональной политики во второй половине XIX века надо учесть и то, что российская бюрократия разделяла с европейскими политическими элитами современные, испытавшие влияние Просвещения формы ксенофобии. Одной из них было представление о том, что политические и социальные атрибуты религии (больше, чем ее духовная суть) оправдывают отчуждение, «очужачивание» населения, исповедующего эту религию. В рамках нашей темы это в особенности касается мероприятий по «еврейскому вопросу». В странах Западной и Центральной Европы начиная с конца XVIII века, по словам Шуламит Волков, «иудаизм заменил евреев как прокламируемый объект враждебности. …Иудаизм воспринимался как изношенный и архаичный, как религия древнего варварского закона, анафема для просвещенных людей»[7]7
Volkov Sh. Germans, Jews, and Antisemites: Trials in Emancipation. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. P. 83–84.
[Закрыть]. Иными словами, такая перефокусировка внимания придавала прежней враждебности новую легитимность и видимость санкции позитивного знания. Несмотря на принципиальное отличие Франции или ряда германских государств от России в темпах предоставления евреям гражданских прав (а именно гражданское полноправие евреев вынуждало европейских юдофобов обновлять стратегию отчуждения), объективация иудаизма давала себя знать и здесь. Стереотипизирующие рассуждения об иудаизме накладывались на бюрократическую рутину надзора за соблюдением евреями своего закона, признанного одним из «терпимых» вероисповеданий в Российской империи.
* * *
Данное исследование не претендует на построение новой теоретической модели изучения Российской империи, однако несвойственна ему и методологическая беззаботность: автор мыслит продукт своего творчества в русле сложившейся или, с чьей-то точки зрения, только еще складывающейся традиции, объединяющей вокруг себя интернациональную по составу группу историков[8]8
Эвристичный и информативный обзор новейших подходов к изучению Российской империи (ограниченный, правда, только работами русистов Северной Америки) см. в статье Н. Брейфогла, в целом посвященной осмыслению континуума российско-советской имперскости: Breyfogle N. Enduring Imperium: Russia/Soviet Union/Eurasia as Multiethnic, Multiconfessional Space // Ab Imperio. 2008. № 1. P. 75–129.
[Закрыть]. Книга опирается на представление о Российской империи второй половины XIX века, которое не так легко выразить в дефиниции с пронумерованными «признаками», но которое можно попытаться обрисовать как динамичный образ. Это – территориально огромное государство, исключительно пестрое по своему этническому, конфессиональному и социальному составу; применяющее разные – от потрясающе архаичных до дерзко экспериментаторских – институты и процедуры для управления удаленными от центра регионами; легитимирующее себя через символику и риторику силы, завоевания, покорения; зачастую прибегающее и на практике к насилию и принуждению во взаимоотношениях с подданными. В то же время (и эта оговорка очень важна) имперская власть работает в режиме постоянного приспособления к новым ситуациям, перенастройки своего взаимодействия с местными сообществами и поиска возможностей для согласования их интересов с собственными приоритетами. Иными словами, речь идет о сложности и подвижности имперского управления многообразием.
В Российской империи эпохи Александра II меня более всего интересует то ее качество или состояние, которое сегодня все больше историков называют вхождением в модерность. Под этим подразумевается не только модернизация социальных структур, правовой системы, управленческих и судебных институтов. На те же Великие реформы можно взглянуть не как на череду конкретных законодательных и административных мероприятий, а как на испытание преобразовательного потенциала государства в более широком, экзистенциальном для империи смысле. Крестьянская, судебная, земская и прочие реформы 1860–1870-х годов, несмотря на отсутствие объединяющей их четкой правительственной программы, перекрывались не всегда формулировавшейся, но от этого не менее настоятельной для имперской бюрократии сверхзадачей: сделать власть и население взаимно более чувствительными, сказать попросту – более заметными, зримыми друг для друга. В процессе подготовки и проведения реформ обновлялись глубинные представления о самих функциях государства, о радиусе – географическом, социальном, культурном – его управленческого влияния, об интенсивности коммуникации и плотности контакта между агентами власти и подданными, об использовании научного знания для идентификации и категоризации населения. Конечно, люди в бюрократии и в образованном обществе расходились в воззрениях на желательную меру присутствия государства в жизни подданных, но тем не менее весьма распространенным было мнение о необходимости соразмерить масштаб и цену этого присутствия с его рациональными целями.
В исторических исследованиях последних лет имперская модерность предстает в разных ипостасях. Одной из них видятся попытки гомогенизации и консолидации восточнославянского (по преимуществу) населения в современную русскую нацию, то есть, как называет этот процесс А.И. Миллер, «строительства нации в имперском ядре»[9]9
Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 53.
[Закрыть]. Согласно этой точке зрения, определенный сегмент романовской бюрократии, включая самих Романовых, не говоря уже о нечиновных идеологах империи, осознавал неизбежность торжества национализма в ближайшем будущем и целенаправленно, хотя и в замедленном темпе, подыскивал приемлемые комбинации сословно-династических оснований империи с националистической идеологией и политикой. Рыхлая, разделенная сословными границами масса этнических «русских» (а само это понятие в XIX веке было весьма растяжимым), которая лишь условно именовалась в своем полном составе «господствующей народностью», должна была постепенно сплотиться в действительно первенствующее национальное сообщество, с развитым самосознанием и чувством гражданской солидарности. Этот проект представляется тем более изощренным и тонким, что его сторонники, как правило, не отождествляли воображаемую территорию будущей русской нации с границами империи (если, добавил бы я от себя, вообще нуждались в территориальной, физико-географической проекции своего видения русскости[10]10
О разных представлениях о географическом пространстве в имперском воображении и политике см.: Russian Empire: Space, People, Power, 1730–1930 / Ed. by J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
[Закрыть]): «…сама напряженность дебатов о границах русскости и критериях принадлежности к ней служит убедительным доказательством, что русский проект национального строительства, будучи экспансионистским, заведомо не стремился к охвату всей империи и русификации всех ее подданных»[11]11
Миллер А. Империя Романовых и национализм. С. 227.
[Закрыть].
Данное направление модернизации империи хорошо поддается компаративному анализу, который, в свою очередь, подрывает когда-то незыблемое противопоставление «передовых» морских империй – «отсталым» континентальным. По мнению Миллера, у Романовых, благодаря демографическому перевесу восточных славян, относительной однородности структурирования имперского пространства и, в особенности к концу XIX века, авторитету «высокой» русской культуры, были бóльшие шансы на успех эксперимента по консолидации господствующей нации на базе империи, чем у Габсбургов и Османов. О том, что стремление русских националистов к национализации империи не было утопическим предприятием, позволяет говорить и сравнение с более ранним случаем Британии и Франции, где огромная работа по национальной гомогенизации населения самих метрополий потребовала длительного времени и завершалась уже в эру заморской колониальной экспансии[12]12
Там же. С. 50–56, 223–228. См. также: Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства / Ред. И. Герасимов и др. Казань, 2004. С. 176–196.
[Закрыть].
Иной призмой для изучения имперской модернизации, понятой в значении не программы «догоняющего развития», а более общего и постепенного сдвига в самой культуре управления – если угодно, «государствования», – является острый конфликт между имперскими и национальными формами идентичности. Один из самых удачных опытов его исследования – монография и статьи Роберта Джерейси (Джераси) о процессах конструирования русскости в Поволжье, этом своеобразном фронтире между «православной Россией» и «российским Востоком». Если Миллер считает в целом реалистичной – по крайней мере до Первой мировой войны – перспективу выковки русской нации в имперской кузнице, то Джерейси рисует имперских нациостроителей – чиновников, ученых, миссионеров – не слишком уверенными в себе и скорее неудачливыми, чем преуспевающими ассимиляторами. Отчасти этот диссонанс объясняется тем, что его герои мыслили своим главным противником татарско-исламские элиты, от влияния которых надлежало уберечь меньшие этнические группы региона. Джерейси показывает, как повышение в новую эпоху требований к качеству «обрусения», привнесение в политику элементов научного знания отозвалось на оптимизме «обрусителей»: «…попытки ассимиляции меньшинств грозили таким определением русскости, которому не могли бы удовлетворить даже сами русские, или возвышением инородцев над самим русским населением»[13]13
Geraci R. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. P. 1–14, 343–351 et passim; цитата – р. 347.
[Закрыть]. Прежняя, просвещенческая по духу, убежденность в том, что нерусским народам предначертано судьбой слиться с Россией, превращалась в не более чем ритуальный, заклинательный жест, призванный скрыть неверие в возможность благотворного воздействия на опасных чужаков. Кроме того, многие номинальные приверженцы поглощения нерусских титульной нацией не могли расстаться с идеалом империи, в которой присутствие многочисленных инородцев составляло выгодный фон для русских. Побочным эффектом модернизации становились мастерски описываемые Джерейси противоречия самосознания и психологические комплексы управленцев, столкнувшихся с трудностью переформовки идентичности подвластного населения:
Многие русские, возможно, с энтузиазмом относились к таким декларациям (о цивилизаторской миссии России в Азии. – М.Д.), но когда дело доходило до практических мер, они не обладали достаточным терпением, чтобы вступать в соревнование с народами и культурами, которые считали намного ниже себя… Чтобы могло произойти подлинно органичное «слияние» культур… русским пришлось бы стать очевидцами многих промежуточных стадий трансформации идентичности этих народов, что, в свою очередь, вероятно, нарушило бы (не только на интеллектуальном, но и на интуитивном уровне) русское этнонациональное самосознание[14]14
Джераси Р. Культурная судьба империи под вопросом: мусульманский Восток в российской этнографии XIX века // Новая имперская история постсоветского пространства. С. 305–306.
[Закрыть].
Прослеживаемая Джерейси культурная механика модерной исламофобии имела, как я надеюсь показать в настоящем исследовании, немало общего с теми приемами «очужачивания» и дистанцирования, которые были тогда же в ходу у чиновников в Западном крае, в чьей иерархии врагов место ислама занимал римский католицизм. Не стоит недооценивать эту симметрию в восприятии бюрократией столь различных во многих отношениях феноменов. Здесь мало констатировать склонность чиновников к шаблонам и клише – интереснее увидеть в этой общей структуре реакций и эмоций свидетельство того, что чиновники на разных окраинах империи стремились, в согласии со своего рода бюрократической социологией, определить политическую неблагонадежность как характеристику целых групп населения.
Ряд исследователей как раз и связывают модерную фазу имперской истории с новой концептуализацией населения как объекта управления, новыми процедурами и техниками учета, описания и классификации населения, прогнозирования и планирования его действий. П. Холквист раскрыл важную роль, которую сыграли в этом деле военные статистики второй половины XIX века. Неплохо знакомые с вкладом западных статистиков в систему колониального управления, они осознавали несовершенство фискальной, недифференцирующей регистрации «ревизских душ» и настаивали на различении «народностей» и «племен» не только лингвистически, но и по предполагаемым в них устойчивым моральным и психологическим свойствам и столь же устойчивой предрасположенности к большей или меньшей политической лояльности[15]15
Holquist P. To Count, to Extract, to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / Ed. by R. Suny, T. Martin. Oxford, 2001. P. 111–144.
[Закрыть]. Весьма популярное в середине XIX века понятие «элемент» (русский/православный, польский/католический, еврейский, татарский/мусульманский, даже казачий) усиливало впечатление членимости общества на компактные, однородные группы-блоки, которыми, как представлялось, было нетрудно манипулировать и в социальном, и в физическом пространстве. Способность властей неопосредованно воздействовать на такие группы становилась мерилом эффективности управления.
Недавняя монография М. Могильнер, посвященная зарождению и развитию физической антропологии в дореволюционной России, анализирует взаимосвязь между ключевой для этой дисциплины категорией «расы» и разочарованием в полноте, точности и объективности знаний о населении империи, добытых до той поры при помощи этнографии, лингвистики и прочих гуманитарных наук. В книге Могильнер антропология предстает воплощением модернистского пафоса эпохи, инструментом самопознания, переописания и реформирования Российской империи и ее подданных: «Новое знание об имперском человеческом разнообразии или о природе гомогенного и гармоничного национального организма… казалось в этих условиях не просто адекватным ответом на кризис старого режима, но и буквально рецептом модернизации империи»[16]16
Могильнер М. Homo Imperii: История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX века). М., 2008. С. 16.
[Закрыть]. Поиск математически точных формул для объяснения всевозможных вариаций людского несходства проходил очень по-разному в либеральной «антропологии имперского разнообразия», выделявшей «смешанные» физические типы поверх этнических границ, и в «антропологии русского национализма», целью которой было обосновать биологическое превосходство русских, как европейской нации, над инородцами. Любопытно, однако, что ни либеральное, ни национализирующее течения в антропологии не оказались, как ясно из работы Могильнер, востребованы теми, от кого непосредственно зависело применение на практике «рецепта модернизации империи». Первая из этих школ не только не выдвигала расологических обоснований единства восточных славян, но и релятивизировала границу между русскими и «инородцами»; аргументы второй в пользу «арийской» природы русских звучали чересчур казуистично и западнически для традиционных националистов[17]17
Там же. С. 151–179, 258–273, 279–295, 312–324.
[Закрыть], включая и таковых в бюрократии – для многих из них определение русскости через православие оставалось куда более удобным и обнадеживающим.