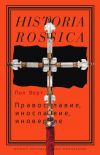Текст книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"

Автор книги: Михаил Долбилов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Бессонов сулил двойную пользу от старообрядческой колонизации: ослабление католицизма в Западном крае (именно в противостоянии с «латинством», по его логике, старообрядцы выполнят функцию «православного элемента») и нормализацию отношений государства и синодальной церкви хотя бы с частью старообрядчества. Примечательно, что, начав с размышлений о Западном крае как самоценном объекте правительственных забот, Бессонов пару раз дает понять, что видит в проводимой или планируемой там политике также и инструмент разрешения проблем, актуальных прежде всего для Великороссии: «[Необходимо] облегчить этим выводом [старообрядцев] средину Руси от небезопасного для Церкви элемента… Проложить сим пути для цивилизации нашего раскола (чему ни в каком другом краю не дается места, да и трудно дать)…»[605]605
ОР РГБ. Ф. 327/II. К. 5. Ед. хр. 30. Л. 8 об. – 9 об. Бессонов подчеркивал, что надо побудить потенциальных колонизаторов смотреть на переселение как «добровольное искание рая» (а не реминисценцию памятных веткинских депортаций XVIII века), и вскоре уже сообщал Черкасскому об успехе своей агитации в среде старообрядцев, приехавших в Москву для подачи прошения: «Я намекал им на Запад (т. е. Западный край. – М.Д.) как Эльдорадо в известном отношении; встретил величайшую радость и готовность. Один был за советом у И.С. Аксакова и при подобном же намеке вскочил, воскликнув: “тотчас пошлем миллион поселенцев!”» (Там же. Л. 9, 11 – письма Черкасскому от 5 января и 21 января 1864 г.).
[Закрыть].
Неизвестно, проведал ли Коялович об этой инициативе Бессонова. Но очевидно, что она – даром что осталась на бумаге – отразила усиление в 1864 году той тенденции в определении русскости, которую Коялович отождествлял с непониманием великорусами Западной России, с их недоверием к местным общественным силам и нежеланием считаться с местной исторической спецификой. В конечном счете столкновения по вопросу об украинском языке создали двоякое затруднение для проповеди западнорусской краевой самобытности. Вышедшие наружу украинофильские чаяния самостоятельного языка размывали впечатление исторического единства Западной России. Поправить же дело, зачисляя украинофилов в отщепенцы от западнорусской семьи, было нельзя, ибо сторонниками «русского единства» в бессоновском – и катковском – значении это прочитывалось как обвинение ни много ни мало в сепаратизме и легко могло срикошетить по самим «западнороссам».
* * *
К 1860-м годам этническая или культурно-региональная дифференциация населения, прежде всего сельского, западных губерний стала для русских на короткое время одним из аргументов в споре с польскими / польскоязычными элитами о преобладающем культурном влиянии в крае. В самом начале 1860-х годов бюрократический кружок Николая Милютина в союзе со славянофильски ориентированными учеными и публицистами, прежде всего Александром Гильфердингом, разрабатывал идею о поддержке культурно-языковых особенностей местного крестьянского населения против дворянских и клерикальных элит, в первую очередь польских и католических. По замыслу авторов, эти льготы помогли бы белорусам и украинцам, а также и литовцам осознать свою обособленность от поляков и, следовательно, через контролируемое локальное разнообразие привели бы к упрочению общерусского единства.
С началом Январского восстания 1863 года и петербургские, и виленские власти отказались от практических экспериментов с поощрением этнолингвистической локальной специфики населения, которое торжественно провозглашалось «русским»: официальная полонофобия приравнивала любые отклонения от (воображаемого) великорусского стандарта к «полонизации». Однако не стоит преувеличивать способность и желание бюрократии проводить политику жесткой гомогенизации восточнославянского населения в Западном крае. Дело было не только в отсутствии или слабом присутствии тех факторов нациостроительства, которые ускорили бы ассимиляционные процессы в среде белорусов и украинцев (массовая секулярная пресса, густая сеть железных дорог и проч.). Непоследовательность гомогенизирующих мер обуславливалась и тем, что сами бюрократы оставались по-своему заинтересованы в развитии представления о местных особенностях русской идентичности. После 1863 года фрагментирующая, партикуляристская категоризация восточных славян исчезает на долгое время из «высокого», идеологически заряженного дискурса имперской власти, но, в той или иной форме, продолжает использоваться в повседневной коммуникации чиновников и отражается в самой практике управления. Тому подтверждением – концепция «Западной России» М.О. Кояловича, интерес к которой со стороны чиновников, как мы увидим ниже, не иссяк с началом жесткой политики русификации.
Глава 5
Логика католикофобии: от М.Н. Муравьева к К.П. Кауфману
Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии, и были совершенно убеждены, что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности и железных дорог, одно только плевое дело.
Ф.М. Достоевский, «Бесы» (часть I, гл. 1: IX)
…Рим далеко не утратил еще в наше время прежней своей силы. Политическая власть его разбита, но до сих пор изо всего, что мы видим, нельзя еще вывесть заключения, что вследствие догмата о непогрешимости ослабели те орудия, посредством коих он владычествует над умами и совестью. …Общая масса римской иерapxии и духовенства сплочена …гораздо крепче и нераздельнее, чем была, например, в эпоху Тридентского собора, и вся эта масса проникнута сильным сознанием долга – стоять за церковь в предстоящей борьбе.
Чиновники и публицисты, участвовавшие в середине 1860-х годов в походе на католическую церковь, были убеждены в том, что за любым отступлением католического духовенства от предписанных властью норм и правил стоит «полонизм», польский национальный интерес. Соответственно, закрытие церквей и целых приходов, ограничения свободы передвижения священников, запреты разнообразных ритуалов и обычаев и прочие притеснительные мероприятия преподносились как нисколько не нарушающие принципа имперской веротерпимости. Ревизионная комиссия по делам римско-католического духовенства в Вильне, о которой подробнее речь пойдет ниже, заявляла вполне в духе иозефинизма XVIII века:
Католицизм есть исповедание признанное и терпимое русским государством. Но терпеть известное иноверческое исповедание не обязывает терпеть в нем всё, что он (католицизм. – М.Д.) включил в себя случайного, местного, временного, не значит признавать и закреплять его таким, каков он есть в данную минуту, на данном месте, во всех формах и видах своего проявления[607]607
LVIA. F. 378. BS. 1866. B. 1340. L. 108 ap. («Записка о действиях Ревизионной комиссии, учрежденной в г. Вильне по делам Римско-католического духовенства Северо-Западного края», представленная в МВД 26 апреля 1868 г.).
[Закрыть].
Задачу определения того, чтó именно надо считать «случайным, местным, временным» в католическом обиходе, власть принимала, конечно же, на себя. После Январского восстания налицо была тенденция к расширительному толкованию этой формулировки: политический смысл или умысел отыскивался в нюансах религиозных ритуалов, особенностях проявления набожности, архитектурных деталях и проч. В 1868 году один из виленских экспертов по католицизму Н.А. Деревицкий, посланный III Отделением в Европу для сбора информации о польской эмиграции, быстро пришел к выводу о том, что «развитие польского вопроса» «не предполагает прямо вооруженного восстания, а представляется по преимуществу движением религиозного характера» и даже «берет свое начало в Риме». Агент утверждал, что между ультрамонтанами Франции и Австрии налажено взаимодействие для оказания поддержки полякам, и помещал в своих донесениях зарисовки, которые должны были развеять последние сомнения: «Ксендзы в большом числе снуют по разным направлениям железных дорог, появляются и тотчас исчезают в минеральных лечебницах Европы. Их постоянная таинственность и aparté с польскими фамилиями бросаются в глаза опытного наблюдателя»[608]608
ГАРФ. Ф. 109. Секр. архив. Оп. 2. Д. 525. Л. 3–5, 6–8 (донесения Деревицкого виленскому генерал-губернатору А.Л. Потапову из Крейцнаха от 2/14 июня и 15/27 июня 1868 г.).
[Закрыть]. (Этот стереотип вездесущего ксендза-заговорщика отразился в современной беллетристике: например, Аглая Епанчина в финале «Идиота» Достоевского, прежде чем выйти замуж за польского эмигранта «с темною и двусмысленною историей», стала «членом какого-то заграничного комитета по восстановлению Польши и… попала в католическую исповедальню какого-то знаменитого патера, овладевшего ее умом до исступления»[609]609
Достоевский Ф.М. ПСС: В 30 т. Л., 1973. Т. 8. С. 509 (Часть 4, XII).
[Закрыть].)
В высшей бюрократии все-таки находились лица, способные увидеть конфликт с католической церковью в иной перспективе и иначе выстроить объясняющие его причинно-следственные связи. Министр внутренних дел П.А. Валуев еще в 1863 году писал М.Н. Каткову: «Россия сложилась так, что она латинизма избавиться не может. Это не предположение, а данная, завещанная историей, следовательно, Божиим Промыслом»[610]610
Михаил Никифорович Катков и граф Петр Александрович Валуев в их переписке // Русская старина. 1915. № 11. С. 247 (письмо от 19 сентября 1863 г.).
[Закрыть]. У Валуева были единомышленники в его ведомстве. В 1866 году директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД Э.К. Сиверс, возражая против предложенного киевским генерал-губернатором А.П. Безаком плана репрессий против католической церкви, указал на ответственность самого государства за ухудшение отношений с католиками:
Роль, которую играло римско-католическое духовенство в польском восстании, должно объяснять тем, что наше Правительство само отождествляло религиозный римско-католический элемент с национальным польским, что все меры, принятые нашим Правительством против Унии и Римско-католической церкви, служили к отчуждению римско-католического духовенства от Правительства и к раздражению его против Правительства[611]611
РГИА. Ф. 821. Оп. 138. Д. 45. Л. 169. Подобное суждение, но в гораздо более резкой форме, в 1860–1870-х годах многократно высказывал известный католик-эмигрант И.С. Гагарин, полагавший, что триада «Православие, самодержавие, народность» явилась для российских властей непосредственным толчком к смешению католицизма и польскости. Более того, Гагарин полагал, что сближение России со Святым престолом может вовсе снять проблему польской национальной независимости: подлинная терпимость к католицизму примирит поляков с российским подданством (См.: Beshoner J.B. Ivan Sergeevich Gagarin. Р. 178–179 et passim). С Гагариным был знаком А.М. Гезен, ближайший советник Сиверса по католическим делам.
[Закрыть].
Имелись ли у Сиверса основания для расподобления благочестивого католика, возмущенного правительственными запретами на отправление культа, и польского патриота, готового идти в бой за восстановление независимой Речи Посполитой? Вообще, представляется вероятным, что реальный вклад католического духовенства в восстание 1863 года не был так велик, как казалось российским властям. У польского духовенства, как показывает современный исследователь польского католицизма, имелись свои представления о достижении независимости Польши, обусловленные католической теологией, в частности учением о грядущем Царстве Божьем на земле. Многие лидеры восстания сетовали на «угодовость» (соглашательство) католического духовенства, на неприятие им политических средств борьбы, на проповедь воздержания от насилия и послушания властям[612]612
Porter B. Thy Kingdom Come: Patriotism, Prophecy, and the Catholic Hierarchy in Nineteenth-Century Poland // The Catholic Historical Review. 2003. Vol. 89. № 2. Р. 213–239, 223 ff.
[Закрыть]. Однако фигура коварного, вездесущего ксендза-подстрекателя так и маячила в воображении бюрократов и военных – не только в России, но и в Пруссии. И не что иное, как гонения и репрессии против католического духовенства, непропорциональные его действительному вкладу в организацию антиимперских выступлений, возымели незапланированный эффект, обеспечив духовенству место в героическом мартирологе польского национализма.
Тем не менее надо признать, что имперским властям было нелегко в своих контактах с католическим клиром абстрагироваться от польской проблемы и смотреть на дело с чисто конфессиональной точки зрения. Середина и вторая половина XIX века стали для католических сообществ разных европейских государств эпохой важных и довольно бурных перемен, которую в современных исторических исследованиях принято именовать «католическим возрождением». В этот период вырабатывался новый в социальном и культурном отношениях тип католической религиозности[613]613
См. в особ.: Sperber J. Popular Catholicism in 19th century Germany. Princeton University Press, 1984; Blackbourn D. Marpingen: Apparitions of the Virgin Mary in Nineteenth-Century Germany. New York: Alfred A. Knopf, 1994.
[Закрыть]. Благодаря ему в странах с более или менее развитым парламентским строем и публичной сферой церковь или отдельные представители клира, а также клерикально ориентированные светские деятели получали возможность участвовать в политическом процессе. Но даже в странах с авторитарным политическим режимом народный католицизм проявлялся в растущей массовости религиозных практик и апроприации каноническим ритуалом стихийно возникших в среде простонародья обычаев и верований. Католицизм принимал новый культурный облик, притягательный для низших слоев населения, в особенности сельского; авторитет духовенства у паствы значительно повысился, как возрос и престиж сана и призвания священника. Католики Российской империи не составляли исключения, так что взгляды творцов конфессиональной политики на католицизм могут быть лучше поняты с учетом европейского контекста.
Кто и почему боялся католицизма?
Из доступных на данный момент case studies по феномену католического возрождения XIX века и реакции на него властей случай Пруссии и Германской империи представляется удачной компаративной моделью. Разумеется, сравнение затрудняется тем, что историография католической церкви в Российской империи находится в начальной стадии своего развития, однако имеющийся в моем распоряжении эмпирический материал достаточен для проведения некоторых значимых параллелей между Россией и Пруссией по части восприятия католицизма бюрократией.
В обоих государствах «католический вопрос» оказался тесно связан с попытками укрепления национального ядра империи в момент, когда власти обостренно осознавали уязвимость имперского строя. В обоих случаях борьба с влиянием церкви, имеющей зарубежный духовный центр, велась во имя нового образа идеального отечества. Романовым, которые стремились адаптировать основы старого имперского строя к ценностям современного национализма, католицизм долго после 1863 года напоминал об опасности повторения польского восстания; Гогенцоллерны видели в населенных католиками восточном и западном пограничьях новосозданного Рейха источник польского сепаратизма и угрозу французского реванша[614]614
Разумеется, нельзя упускать из виду, что удельный вес католиков в общей массе населения Пруссии и затем Германской империи был гораздо выше, чем тот же показатель в Российской империи (в начале 1870-х в новосозданном Рейхе католики составляли 36,7 % населения, а протестанты – 61,6 %; см. важные замечания в связи с этим: Borutta M. Enemies at the Gate: The Moabit Klostersturm and the Kulturkampf: Germany // Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe / Ed. by Ch. Clark and W. Kaiser. Cambridge, 2009 [first publ. 2003]. Р. 229, 247). Однако, принимая во внимание огромную площадь, сравнительную густонаселенность, обособленное положение внутри империи и вместе с тем геополитическую значимость Западного края, сравнение с Германией (с поправкой на названные факторы) не кажется натяжкой. По данным Центрального статистического комитета МВД на середину 1860-х годов, доля католиков в населении Виленской губернии равнялась 66 %, Ковенской – 85 %, Гродненской – 33 %, Витебской – 28 %, Минской – 18 %, Могилевской – 3 % (РГИА. Ф. 384. Оп. 12. Д. 360. Л. 45).
[Закрыть]. Элитам обеих империй духовная приверженность католиков внегосударственной церковной иерархии и вообще католическая религиозность представлялась по меньшей мере трудно совместимой с новыми, национальными, стандартами светского законопослушания подданного/гражданина и с тем, что можно назвать цивилизационной лояльностью. Последняя, несмотря на секуляризацию культуры, образования, повседневной жизни, и во второй половине XIX века манифестировалась прежде всего через сопричастность господствующей религии или хотя бы отдельным религиозным ценностям: в одном случае православным, в другом – протестантским[615]615
Smith H.W. German Nationalism and Religious Conflict. Culture, Ideology, Politics, 1870–1914. Princeton: Princeton UP, 1995. Р. 35–41, 58 et passim.; Ross R.J. The Failure of Bismarck’s Kulturkampf. Catholicism and State Power in Imperial Germany, 1871–1887. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1998. Р. 15–34. В более широком контексте эта проблема рассматривается в исследовании: McLeod H. Secularisation in Western Europe, 1848–1914. New York, 2000. Chapter 6.
[Закрыть]. «Национализация» империй сопровождалась подчас реконфессионализацией сознания их населения и ростом религиозной нетерпимости[616]616
Как отметил недавно Ф. Тер, Пруссия еще до официального провозглашения создания Германской империи представляла собой государство с элементами имперской политики: Ther Ph. Imperial instead of National History: Positioning Modern German History on the Map of European Empires // Imperial Rule / Ed. A. Miller, A. Rieber. Budapest: CEU Press, 2004. Р. 47–66.
[Закрыть].
Хронологически динамика репрессивной политики в отношении католицизма в России и Германском рейхе не совпадала. В 1860-х годах, когда политика ограничений и запретов на западных окраинах Российской империи достигла пика, а мысленному взору наиболее горячих администраторов уже рисовалась картина России, очищенной от «латинства», в Пруссии еще действовали конституционные нормы 1850 года, гарантирующие свободу исповедания и отправления культа римско-католической веры. Некоторые из российских бюрократов, менее агрессивно настроенных к католицизму, даже расценивали этот опыт как достойный подражания, указывая на то, что в 1866 году офицеры и солдаты католического исповедания плечом к плечу с соотечественниками-протестантами воевали в прусской армии против католической Австрии. Чиновник ДДДИИ, католик А.М. Гезен, приверженец проекта «располячения» католицизма в России (богослужение на русском языке, замена поляков в клире южными славянами), отмечал в письме своему единомышленнику по этой проблеме – редактору «Московских ведомостей» М.Н. Каткову: «[В Пруссии] католическая церковь пользуется большею независимостию, чем в некоторых католических государствах… Прусское правительство не боится искренних католиков; оно знает, что эти не опасны, потому что… верят в обязательность верноподданнической присяги; оно не притесняет католическую церковь, но зато оно старается усиливать немецкий элемент в своих польских провинциях…»[617]617
ОР РГБ. Ф. 120. К. 20. Ед. хр. 1. Л. 79–79 об. (копия письма от 20 декабря 1866 г.).
[Закрыть]. Согласно этой точке зрения, терпимость к католицизму не мешала противоборству с польским национализмом и даже ассимиляции поляков.
Положение изменилось в 1870-х годах. Вскоре после провозглашения Германской империи О. фон Бисмарк начал массированное наступление на католическую церковь, т. н. Kulturkampf, тогда как в России натиск государства на католицизм несколько ослаб, сменившись попытками переформовки религиозной идентичности подданных-католиков менее насильственными, чем в 1860-х годах, методами, без принуждения к смене веры. (Сравнительную характеристику Kulturkampf и антикатолической политики в Российской империи в правовой и административной перспективе см. в гл. 10 наст. изд.) Тем не менее эта разница в динамике репрессий лишь подчеркивает сходство между российской и германской «католикофобией» в устойчивости ментальных образов[618]618
Об их циркуляции в разных европейских странах см., напр.: McLeod H. Secularisation in Western Europe. Р. 225–238; Леруа М. Миф о иезуитах: От Беранже до Мишле. М.: Языки славянской культуры, 2001.
[Закрыть], как и сходство и, вероятно, прямую перекличку между самими этими представлениями. Бисмарковский Kulturkampf вызвал живой интерес у российских бюрократов, отвечавших за конфессиональную политику, и сказался на заниженной оценке ими духовного авторитета папы римского. Между тем в самой Германии антикатолические настроения в либерально-протестантских политических и журналистских кругах вызревали задолго до Kulturkampf[619]619
Тезис о том, что антикатолические идеология, настроения и эмоции были неотъемлемым компонентом германского либерализма, аргументируется в исследовании: Gross M.B. The War against Catholicism. Liberalism and the Anti-Catholic Imagination in Nineteenth Century. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004.
[Закрыть].
Для лучшего понимания феномена популярности католицизма, с которым столкнулась российская власть на восточных «кресах» бывшей Речи Посполитой, имеет смысл коснуться вопроса о формах религиозного возрождения в густо населенных католиками северо-западных провинциях Пруссии – Рейнских землях и Вестфалии. Цель такого сравнения – не в установлении бесспорных фактов заимствования и взаимного влияния, будь то в среде самих католиков или некатолических правящих элит (что само по себе составляет интереснейший предмет исследования), и не в иллюстрации правовой отсталости Российской империи, а в такой контекстуализации российского случая, которая высветила бы вненациональные религиозные мотивы в поступках и действиях, казавшихся властям продиктованными исключительно «польской интригой».
По замечанию Дж. Спербера[620]620
Sperber J. Popular Catholicism. Р. 96–98.
[Закрыть], религиозное возрождение в католических провинциях Пруссии вписывалось в «широкую “ультрамонтанскую” (“ultramontanist”) тенденцию в католицизме XIX века». Она выражалась в отходе от рационалистических, рассудочных способов переживания веры, присущих эпохе Просвещения, и насыщении католического культа новой чувственностью и эмоциональностью, неотъемлемыми от набожности, обрядовой дисциплины и послушания пастырю. В Пруссии усилия духовенства к воспитанию паствы в этом духе были заметны еще в конце 1830-х годов, когда государство проводило в отношении католической церкви авторитарную политику, а среди сельского населения и рабочих низов городского был распространен религиозный индифферентизм и происходило обмирщение связанных с церковью институтов (например, братств), празднеств, обычаев и проч. Рубежом стали революционные потрясения конца 1840-х. Конституция 1850 года значительно расширила свободу вероисповедания в Пруссии, которой воспользовались и приходские священники, и вновь допущенные на территории государства монашеские ордена, включая иезуитов. Политический парадокс католического возрождения состоял в том, что обеспеченная революцией свобода проповеди и отправления культа была обращена на внушение пастве консервативных ценностей: преданности престолу, враждебности к либерализму и демократии, строгого соблюдения норм морали[621]621
Генерализация Дж. Спербера о том, что католическое возрождение «контрреволюционно» по своей сути, была подвергнута критике, см.: Anderson M. Piety and Politics: Recent Works on German Catholicism // Journal of Modern History. 1991. Vol. 63. № 4. Р. 686–690.
[Закрыть]. Это-то и легло в основу благоприятных отношений между государством и католической церковью в Пруссии в 1850–1860-х годах. Однако формы, в которых воплощалась реанимированная католическая религиозность, были одновременно инструментом социальной мобилизации значительной части населения и в этом смысле – продуктом модерной эры.
Наиболее впечатляющим и массовым из новых или возобновленных религиозных действ была т. н. миссия – длящаяся примерно две недели в данном приходе серия интенсивных церковных служб, проповедей, крестных ходов (процессий). Целью являлось не обращение кого-либо в католическую веру (хотя зрителями миссий нередко бывали протестанты и евреи), а освежение и укрепление религиозных чувств паствы. Миссии, проводившиеся и белым духовенством, и искушенными в миссионерстве монахами, проходили в праздничной, возвышенной атмосфере и собирали народ со всей округи; сельскохозяйственная работа на это время замирала даже в страду, а на фабриках вводился сокращенный рабочий день. С раннего утра церкви открывались для исповеди. В течение дня произносилось до четырех двухчасовых проповедей. Миссионеры, не забывая о дидактическом послании проповеди, ораторствовали эмоционально и даже взвинченно, не скупились на доступные народному воображению гиперболы, драматические восклицания, театральную жестикуляцию. То, что противникам католицизма представлялось фанатизмом или ханжеством, наблюдалось и в толпе мирян: во время исповеди часто слышались рыдания, стоны и вздохи, при выносе на обозрение Святых Даров люди закрывали глаза и падали на землю. К конфессионалам выстраивались тысячные очереди, на которых не хватало миссионерской «команды» из двадцати священников. Миссия завершалась массовым причащением и процессией, несшей памятный крест, который устанавливался перед церковью[622]622
Яркий пример описания миссии несочувственным наблюдателем находим в аналитической записке об общественно-политической ситуации во Франции в 1829 году (когда католическое возрождение уже набирало там силу), составленной агентом российского дипломатического ведомства Г.-Т. Фабером: «Они (миссионеры. – М.Д.) принялись проповедовать христианство в стране христианнейших королей так, как если оно никогда не было там известно и как если бы им предстояло обратить в истинную веру край сугубо языческий. В стране цивилизованной эти невежественные миссионеры употребили средства варварские и, выступив в поход, принялись обходить ее с фанфарами и победными кличами. Кресты, которые они тащили за собой, нимало не напоминали о христианском смирении и призваны были лишь гордо возвещать о триумфе крестителей; кичась и бахвалясь, они водружали эти кресты в самых видных местах… За исключением женщин, по преимуществу покорившихся влиянию новых реформаторов, апостолы эти нашли весьма малое число адептов» (цит. по: Мильчина В. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб., 2004. С. 69–70). Из Франции миссии проникли в Бельгию и Швейцарию, а затем и в германские государства. Зафиксированное многими наблюдателями впечатление театральности и даже артистизма миссий следует корректировать не менее многочисленными свидетельствами о будничной стороне этих действ, об изнурительном труде проповедников и исповедующих, о лишениях и настоящих страданиях, которые приходилось претерпевать миссионерам. См., напр., описание редемптористской миссии в Ирландии в первой половине 1850-х годов, в которой принимал участие известный русский эмигрант В. Печерин: Первухина-Камышникова Н.М. В.С. Печерин: Эмигрант на все времена. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 212–216.
[Закрыть]. Отличительной чертой миссий было сочетание эмоциональной реакции паствы на происходящее со строгой церковной дисциплиной, которая исключала элементы светского увеселения – выпивку, азартные игры, пляски, флирт и т. д., хотя всего десятилетием ранее в тех же самых местностях празднества даже религиозного характера не обходились без подобных развлечений[623]623
Sperber J. Popular Catholicism. Р. 56–63.
[Закрыть].
Важную роль в религиозном возрождении играли паломничества, в которых принимало участие неуклонно огромное число верующих из все более отдаленных мест, чему способствовала и расширявшаяся сеть железных дорог – технический прогресс становился подспорьем народного благочестия. Особую значимость приобрели святыни, связанные с почитанием Девы Марии. Культ Пресвятой Девы трансформировал и народные праздники весеннего плодородия, ставшие теперь майским церковным празднеством «месяца Марии». Вновь учреждавшиеся паломничества были типичными «изобретенными традициями»: они быстро приобретали в восприятии верующих ауру почтенной древности или представали реинкарнацией когда-то угасших паломничеств, да и власти вскоре начинали смотреть на них как на уходящий корнями в глубь веков обычай. Когда во время Kulturkampf правительство Бисмарка потребовало точных данных о «традиционных» паломничествах, приняв за критерий традиционности регулярное совершение паломничества со времени не позднее 1850 года, таковых было выявлено не так уж много. Всегерманский масштаб получило паломничество в Аахенский собор для поклонения священным реликвиям – одеянию Девы Марии, пеленальному облачению младенца Христа и др. Существовавшее с XIV века, упраздненное Иосифом II в 1770-х годах, восстановленное в начале XIX века под покровительством Наполеона, но проводившееся в течение нескольких последующих десятилетий в обстановке, напоминавшей светский аттракцион, с середины века Аахенское паломничество превратилось в массовое и при этом искусно организованное священнодействие, манифестацию набожности и церковной дисциплины. Однако прусские власти, как отмечает Дж. Спербер, далеко не сразу разглядели в этих религиозных переменах обращенный в будущее вектор: «Наблюдая движение процессии, ее участников и во главе их священника, шествующих в строжайшем порядке, поющих и молящихся, несущих кресты, освященные хоругви и иконы Девы и святых, – мог ли прусский чиновник, и без того предубежденный против “отсталого” и “темного” католического населения западных провинций, увидеть в этом что-либо другое, чем пережиток прошлого, не изменившийся со Средневековья?»[624]624
Ibid. Р. 63–73.
[Закрыть]
Одновременно с переменами в практике отправления культа обновлялись и социальные формы религиозной жизни. С середины века по всей католической Германии множатся приходские братства и им подобные ассоциации. Как и в других случаях, нередко старая форма наполнялась новым содержанием. Если в десятилетия до революции 1848 года многие традиционные братства претерпели стихийную секуляризацию и удалились от собственно религиозных целей, вплоть до вырождения в подобие сельского клуба, то в новую эпоху безусловное лидерство в братствах переходит к приходскому духовенству и усилия братчиков направляются на воспитание благочестия и ревности в исполнении церковных обрядов, на улучшение нравов и религиозную благотворительность. Особое место среди братств занимали посвященные Пресвятой Деве. Их активность не ограничивалась детальным соблюдением обрядов, ежедневным чтением молитв по четкам (розарию), образцовым участием в церковных службах. Она проявилась также в усвоении молодым поколением – речь идет по преимуществу о низших социальных классах – более строгих, в соответствии с духом Викторианской эпохи, норм нравственности и сексуального поведения. По мнению Спербера, снижение доли незаконнорожденных детей в католических регионах Германии следует отнести на счет распространения и популяризации богородичных братств. Братства были также одним из инструментов реконфессионализации населения: при вхождении в некоторые из них давался обет о невступлении в брак с лицом некатолического исповедания, в других девушки клялись не принимать ухаживаний протестантов. Религиозная идентичность членов братств утверждалась и притягательной внешней символикой. Целая категория братств называлась скапульными (от латинского scapula – плечо) и выделялась ношением элемента монашеского одеяния – наплечника, скапуляра. Членство в скапульном братстве рассматривалось как источник благодати и индульгенций и залог мистической связи с тем конкретным культом или святым, которому братство посвящалось[625]625
Ibid. Р. 73–80; Anderson M. Piety and Politics. Р. 694–695; Zammit P.N. Scapulars // New Catholic Encyclopedia. 2nd ed. Detroit at al.: Thomson/Gale; The Catholic University of America, 2003. Vol. 12. P. 721–723.
[Закрыть]. В Российской империи такие братства распространились в Царстве Польском и Западном крае также в 1850-х годах, но попали в поле зрения властей только после восстания 1863-го, получив известность под названием «шкаплерные» (от польского szkaplerz).
Наглядно выражавшаяся в составе паломников и религиозных ассоциаций, феминизация католической религиозности явилась одним из неотъемлемых, конституирующих элементов религиозного возрождения XIX века. Она развивалась параллельно обострению потребности в мистических впечатлениях и доступных чувственному восприятию чудесах. В этой сфере духовенство не всегда удерживало за собой инициативу, будучи вынуждено считаться как с энтузиазмом паствы, так и с бытовавшими в ней верованиями магического и анимистического свойства[626]626
Blackbourn D. Marpingen. Р. 173–201, 182–186 ff.
[Закрыть]. Главным проводником в мир чудесного явился культ Девы Марии, еще более превознесенный принятием в 1854 году догмата о Непорочном Зачатии и соответствующим обновлением литургии и гимнографии. На 1850–1870-е годы приходятся наиболее прославившиеся явления Девы Марии в католической Европе. Примечательно, что бюрократии в разных государствах с почти одинаковым вольтерьянским скепсисом встречали известия о явлениях и препятствовали их каноническому признанию. Самое знаменитое из них, видение Бернадетты Субиру в Лурде во французских Пиренеях в 1858 году, и возникшее вскоре после этого паломничество к чудотворной святыне стали мобилизующим символом для французского католического сообщества. Как показала в недавнем исследовании Р. Хэррис, снятию бюрократических запретов и дальнейшей «институционализации» лурдского чуда способствовали воззрение французской политической и клерикальной элиты на жителей этой удаленной и бедной провинции как на набожных католиков, хранителей сердечной, «народной» веры, и представление самих жителей о благоволении к ним императорской четы, в особенности ревностной католички императрицы Евгении[627]627
Harris R. Lourdes: Body and Spirit in the Secular Age. Allen Lane: The Penguin Press, 1999. Р. 110–135.
[Закрыть].
Лурдский культ вдохновлял визионерок в других странах. Он также явился фактором, повлиявшим на отношение властей к аналогичным манифестациям католической религиозности в Германской империи. Явление Пресвятой Девы трем девочкам в селении Марпинген на западе Пруссии, вблизи границы с Францией, в 1876 году повлекло за собой расквартирование там воинского отряда, арест более двух тысяч человек, судебный процесс и парламентские слушания в Берлине. Исследование Д. Блэкборна, богатое тонкими интерпретациями культурной механики этих событий, вскрывает в подоплеке неадекватной реакции властей ассоциацию католического почитания Девы Марии и вообще народного католицизма с французской угрозой (и не с нею одной)[628]628
Blackbourn D. Marpingen. Р. 226–235 ff. Интересно, что после франко-прусской войны российские власти также проявляли чувствительность к политическим коннотациям лурдского культа Девы Марии. В 1874 году ДДДИИ запретил распространение в Северо-Западном крае репродукций с изображением знаменитого грота в Лурде и сцены явления – на том основании, что «лурдские паломничества имели политический характер, и наглядное напоминание об них может дать повод к каким-либо проявлениям фанатизма» (РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 337. Л. 6–9).
[Закрыть]. Применение государством насилия против женского по преимуществу движения не только не увенчалось успехом, но и привело к обратному эффекту: преследования и наказания окончательно убедили скептиков, еще остававшихся среди местных жителей, в подлинности чуда[629]629
Blackbourn D. Marpingen. Р. 119–130, 240–241, 369.
[Закрыть]. Как и в других государствах, не в последнюю очередь и в Российской империи, психология народного католицизма готовила его адептов и адепток к страданиям за веру[630]630
Беспрецедентный культ Пия IX, предвосхищавший, по мнению К. Кларка, «в некоторых отношениях тоталитарные культы [личности] двадцатого века», также формировался на волне сочувствия католиков разных стран к папе – жертве Рисорджименто, «страдальцу» и «мученику», преследуемому революционерами и светским государством и теряющему свои исторические владения (захват Папской области Итальянским королевством): Sperber J. Popular Catholicism. Р. 97, 225–227; Clark Ch. The New Catholicism and the European Culture Wars // Culture Wars. Р. 21–23 (цитата – p. 23).
[Закрыть].
Враждебность секулярных бюрократий разных стран к зрелищным и массовым формам католического культа вызывалась, помимо опасений за общественный порядок и внешнюю безопасность государства, специфическими предубеждениями против католицизма как такового. Пример Пруссии показателен и в этом отношении. К 1870-м годам в прусских протестантских кругах выработался устойчивый дискурс, дискредитирующий католицизм посредством уничижительных, дегуманизирующих образов и метафор. Многие из этих последних имели близкие аналоги в восприятии католицизма российскими бюрократами. Прусские либералы-националисты, а в 1870-х годах и бюрократы вновь созданного Рейха в чем-то пошли дальше, чем Вольтер. Если вольтерьянские нападки и насмешки над католической церковью подразумевали неизбежность победы Просвещения и разума над «гадиной», то во второй половине XIX века либеральные и националистические критики католицизма нередко впадали в панический тон. Согласно их трактовке, католицизм безвозвратно исказил человеческую природу своих последователей, усыпил их разум, напитал ненавистью к современности. В новейших тенденциях развития католицизма усматривались два главных фактора роста нетерпимости и деградации сознательной, разумной веры: усиление иерархического устройства церкви, возвышение непререкаемого папского авторитета, с одной стороны, и потакание духовенства примитивным народным верованиям – с другой[631]631
Smith H.W. German Nationalism and Religious Conflict. Р. 57.
[Закрыть]. Клише «фанатизма» наполнялось новым смыслом: оно обозначало не просто суеверие, но антипод технического прогресса, материального благосостояния, морального совершенствования, науки, позитивного знания. «Kultur, которую отстаивали либералы в ходе Kulturkampf, – отмечает Д. Блэкборн, – была материалистической, технологической и научной: культура железных дорог, сельскохозяйственных опытных станций и славного нового мира Прогресса»[632]632
Blackbourn D. Marpingen. Р. 254–256.
[Закрыть].
Символично, что самый термин «Kulturkampf» (буквальное значение – «борьба цивилизаций») пустил в оборот медик, патолог и леволиберальный политик Р. Вирхов. В фигуральном прочтении «Kulturkampf» связывался с идеей оздоровления тела нации, очищения его от зараженных болезнью клеток. То, что критикам католицизма виделось эксцессами религиозности, часто описывалось в терминах медицинских или биологических отклонений от нормы. Видения вроде имевшего место в Марпингене, горячая вера в чудотворность религиозных реликвий, коллективное им поклонение – все это сравнивалось с теми или иными видами заболеваний, физических или душевных. Для объяснения массовости и единообразия религиозных практик католиков использовались понятия психической эпидемии и групповой истерии, опиравшиеся на новомодные медицинские штудии, в частности Р. Крафта-Эбинга, которые сводили феномен женской религиозной экзальтации к подавленной или нарушенной сексуальности. Феминизация современного католицизма легко вписывалась в эту упрощенную схему; в полемическом арсенале германских католикофобов имелся большой запас скабрезных историй о рабской, наложнической преданности католических прихожанок своему духовенству, однотипных с тем навязчивым нарративом о полячках и ксендзах, который сложился в России[633]633
Ibid. Р. 250–251; Smith H.W. German Nationalism and Religious Conflict. Р. 36; Gross M.B. The War against Catholicism. Р. 128–184.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?