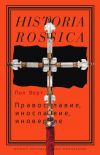Текст книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"

Автор книги: Михаил Долбилов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Вообще-то, первое издание Евангелия на осетинском языке увидело свет еще в 1824 году, на излете деятельности Русского Библейского общества[340]340
Северный Кавказ в составе Российской империи. С. 103–106.
[Закрыть]. Но к 1850-м годам прежние публикации Библейского общества давно уже были забыты; если перевод Священного Писания, а затем и богослужения на «народные» языки и поощрялся теперь властями, то имел целью не надконфессиональную евангелизацию, а, напротив, конфессионализирующее обращение в православие или воцерковление тех, кто был ранее обращен лишь номинально. Более или менее удачно в середине XIX века эта работа велась среди язычников и мусульман Волжско-Уральского региона, где распространение православия на родных языках и диалектах обращаемых противополагалось татарско-исламскому влиянию, уничтожающему, как считалось, этническое своеобразие, а с ним и органическую тягу малых «народностей» и «племен» к толерантной русской культуре. К 1870 году в Казани сложится целая миссионерско-образовательная система Н.И. Ильминского[341]341
О «системе Ильминского» в Поволжье см.: Geraci R. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, NY, 2001. P. 47–85; Werth P. At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia’s Volga – Kama Region, 1827–1905. Ithaca, NY, 2002. P. 183–196, 223–235.
[Закрыть]. Как показывают недавние исследования, и на Северном Кавказе в 1870-х православные миссионеры во многом руководствовались методом Ильминского, когда, помимо исполнения прямых обязанностей, участвовали в лексикографическом описании и стандартизации языков «слабых» этнических групп[342]342
Jersild A. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845–1917. Montreal, 2002. P. 59–88.
[Закрыть]. Так что Муравьев в 1856 году, советуя осетинской миссии переводить на понятный потенциальной пастве язык не только скриптурные, но и богослужебные тексты, точно отражал намечавшийся тренд. Требующее солидных лингвистических познаний и педагогического, а не одного лишь проповеднического мастерства, такое миссионерство действительно можно было в чем-то сопоставить с берущей начало в эпоху Тридентского собора поистине профессиональной пропагандой католической веры.
Католицизмом у Муравьева не исчерпывались поучительные для православия сравнения. Не менее, чем успехи православного миссионерства среди мусульман, его занимало противодействие старообрядчеству на Кавказе: старообрядцы составляли на тот момент едва ли не одну шестую линейного казачества[343]343
Северный Кавказ в составе Российской империи. С. 109–110.
[Закрыть]. Муравьев обнаружил, что единоверие – существовавшая с начала века форма унии, при которой старообрядцы принимали для совершения таинств синодального священника при сохранении привычного им обряда, – не оправдывает возлагавшихся на него надежд постепенного «растворения» раскольников в гуще коренной паствы господствующей церкви. Так, число прихожан единоверческого храма в Ессентуках сократилось с более чем ста до семи семейств – не иначе как при «лихоимственном попущении» со стороны единоверческого священника, который закрывал глаза на «совращение» большинства паствы в раскол, уход к «антиниконианским» духовным наставникам. Отсюда следовала очередная назидательная рекомендация Муравьева:
При обращении в единоверие не надобно быть строгим в требованиях от раскольников; главное, чтобы они приняли бы нашего священника, который служил бы по их обычаю, со временем же с распространением просвещения и хорошего наблюдения со стороны начальства расколы сами собою уничтожатся. В русском народе есть врожденное стремление к религии; пусть наши священники так же усердно действуют, как уставщики, т. е. занимаются с ними и толкуют писание, то[гда] при содействии начальства и недопущении гражданского своеволия и расколов не будет[344]344
LVIA. F. 439. Ap. 1. B. 3. L. 58–59. Отчасти Муравьев последует собственному совету спустя семь лет на посту виленского генерал-губернатора. Местные старообрядцы (причем даже не единоверцы), давшие отпор повстанцам, получат от него некоторые религиозные и материальные льготы (право открывать молельные дома, гарантию против их сгона с арендованных у помещиков участков), которые, впрочем, будут взяты назад, как только возникнут подозрения в «совращении» их православных соседей в раскол (см.: Западные окраины Российской империи. С. 243–245).
[Закрыть].
Благонамеренно-наивный просвещенческий оптимизм диссонирует в этой сентенции с признанием того, что против авторитета духовных лидеров даже малого вероисповедного сообщества нужно искать духовную же силу.
В 1858 году, будучи уже министром государственных имуществ, Муравьев доказал на практике готовность содействовать реформе православного духовного сословия. Министерство государственных имуществ (МГИ) имело непосредственную причастность к проблеме материального обеспечения православной церкви в западных губерниях: расходы на содержание причтов покрывались доходами с казенных земель, губернские палаты государственных имуществ ведали строительством храмов в селениях государственных крестьян. Поэтому от мнения министра в немалой степени зависел исход начавшейся еще в 1856 году в Синоде дискуссии по всеподданнейшему отчету киевского генерал-губернатора кн. И.И. Васильчикова, который и поднял вопрос о пересмотре злополучного Положения от 20 июля 1842 года. Васильчиков первым из управленцев такого ранга сформулировал мысль, что благое намерение правительства избавить экс-униатское духовенство от необходимости взимания треб с прихожан, заменив их обеспечением от государства, принесло горькие плоды. Отмена треб оказалась пустым звуком, зато фактическая барщина прихожан на землях причта уронила достоинство священника в глазах мирян и сделала его вдобавок уязвимым для дискредитации со стороны помещиков-католиков. По сути дела, речь шла о том, что светская власть крайне неуклюже «внедрилась» во взаимоотношения между клиром и паствой.
Муравьев не только поддержал точку зрения Васильчикова, но и развил его предложение о конверсии барщины в денежную повинность. В отношении обер-прокурору Синода от июня 1858 года он рекомендовал перевести на деньги по умеренным расценкам вообще все натуральные повинности в пользу причта, возложенные на прихожан (строительство и ремонт домов, дровяное снабжение и проч.). Муравьев, не щадя сословного самолюбия синодалов, цитировал донесения своих подчиненных с мест о многочисленных злоупотреблениях приходского духовенства, ничем не отличающихся от помещичьего произвола, о грубом обхождении батюшек с духовными чадами[345]345
Freeze G. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. P. 200–205.
[Закрыть]. Логичной в этом контексте была и ссылка на начатую в 1857 году подготовку отмены крепостного права: планы освободительной реформы в помещичьей деревне делали барщину на священника особенно скандальной. Именно Муравьев и предложил учредить для разработки соответствующего проекта специальный комитет из духовных и светских лиц – тот самый, которому спустя полтора года предстояло ознакомиться с еще более вызывающей запиской П.Н. Батюшкова.
И вот, наконец, еще одно свидетельство, позволяющее заглянуть за строки муравьевских служебных докладов. В августе 1858 года, через два месяца после отсылки упомянутого отношения обер-прокурору Синода, Муравьев, ревизовавший летом подведомственные ему учреждения в целом ряде губерний, посетил Минск. По линии МГИ Минская губерния (в начале 1856 года выведенная из подчинения виленскому генерал-губернатору) значилась в числе самых неблагополучных, и проблемы православной церкви занимали видное место среди прочих нестроений. Министр запоминающимся образом выразил свое недовольство. Он пригласил к себе вместе православного архиепископа Минского и Бобруйского Михаила Голубовича (бывшего униата, одного из помощников Иосифа Семашко по делу «воссоединения») и католического епископа Минского Адама Войткевича. Преосвященный Михаил был в приятельских отношениях с католическим коллегой и «соседом», оказывал ему услуги, но то, что сказал им двоим Муравьев, наверняка предпочел бы выслушать не в присутствии Войткевича: «Усадив нас, [Муравьев] сетовал, что православное духовенство небрежно содержит церкви, доводит их до разрушения, а латинское хвалил»[346]346
Дыярыюш з XIX стагоддзя: Дзённiкi М. Галубовiча як гiсторычна крынiца / Ред. Я. Янушкевiч. Мiнск, 2003. С. 40 (запись в дневнике архиепископа Михаила от 17 августа 1858 г.; ориг. на польском). Знакомство Голубовича с Муравьевым состоялось гораздо раньше, в 1830-х годах, в бытность первого вице-председателем Литовской униатской консистории в иерейском сане, а второго – гродненским губернатором. В мемуарах Муравьева, продиктованных уже после Январского восстания, незадолго до смерти, описывается один давний эпизод с участием Голубовича. Когда в 1834 году Иосиф Семашко начал практиковать в Жировицах – центре Литовской униатской епархии – службу без возглашения имени папы римского и стал собирать со старших клириков подписки о готовности присоединиться к православию, то «один Михаил Голубович… противился этому по наущению католиков». И далее с интригующим умолчанием о методах воздействия: «Семашко обратился ко мне, и вскоре Голубович смирился, сделавшись впоследствии ревностным православным» (Русская старина. 1882. № 12. С. 630–631). Мне не удалось проверить точность рассказа Муравьева по каким-либо другим источникам; если принять его на веру, то можно позавидовать наделенному чувством юмора Голубовичу, которого Муравьев в 1830-х распекал за приверженность католицизму, а в 1850-х побуждал учиться у католиков. Сам Муравьев под конец жизни куда охотнее вспоминал свои свершения 1830-х, чем 1850-х годов.
[Закрыть]. Сцена прямо-таки эмблематическая: светский администратор выступает этаким арбитром над двумя епископами разных конфессий. Рискну предположить, что то мог быть и жест, подчеркивающий духовную силу православия: министерский выговор епископу на глазах у равного ему саном католика словно бы показывал, что господствующее вероисповедание вовсе не находится на иждивении у правительства и должно само наверстать упущенное в соперничестве с католицизмом.
К 1860-м годам изобличение неустройств и косности православной церкви посредством явного или подспудного противопоставления ее иным вероисповеданиям (институтам, социальным практикам или духовным лицам) вошло у правящей и пишущей элиты в широкий риторический обиход. (Оставляю за рамками анализа радикально антицерковный дискурс, который по большей части не изощрялся в такого рода сравнениях.) Важно подчеркнуть, что, хотя зачастую критика исходила от специалистов по вопросам западных губерний, где большинство православных составляли «свои», да не совсем, экс-униаты, разбег бюрократического раздражения экстраполировал претензии на синодальную церковь в целом. Бросим беглый взгляд на фигуру, которая еще много раз появится на этих страницах. Иван Петрович Корнилов, «муравьевец», попечитель Виленского учебного округа в 1864–1868 годах, один из творцов политики деполонизации в Северо-Западном крае после Январского восстания, придавал исключительное значение «укреплению православия» в «исконно русском» крае. Под ним понималось и строительство добротных храмов, и повышение материального благосостояния духовенства, и упор на закон Божий и церковное пение в учебных программах народных школ. Тем не менее за четыре года управления округом он не избавился от недоверия к местному клиру, будь то черному или белому, от мнительности насчет полонофильства бывших униатов и считал большим благом для Северо-Западного края то, что на него не распространялось действие Положения о начальных народных училищах от 14 июля 1864 года, которое требовало заметного представительства православного духовенства в уездных и губернских училищных советах (функции каковых в Виленском учебном округе полностью выполнялись училищными дирекциями, прямо подчиненными попечителю). Через полтора года после отставки и отъезда из Вильны, в конце 1869-го, Корнилов в качестве члена совета министра народного просвещения участвовал в обсуждении представленного попечителем Казанского учебного округа П.Д. Шестаковым проекта «Правил о мерах к образованию инородцев» (будут утверждены в 1870 году), который клал в основу мероприятий по аккультурации крещенных в православие татар, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов миссионерско-педагогический метод Н.И. Ильминского[347]347
О разработке «Правил» см.: Geraci R. Window on the East. P. 116–125.
[Закрыть].
Корнилову претил не только принцип обучения нерусских на их родных языках, но и вообще целенаправленная забота об образовании православных инородцев как отдельной группы. Он полагал, что просветители инородцев искусственно сужают поле деятельности: «Русские безграмотные крестьяне недалеко от них (инородцев. – М.Д.) ушли. В отношении религиозного образования крещеные инородцы и русские крестьяне отчасти могут стоять рядом». Радеть надо было обо всей массе православного простонародья: «Сравнивая между собою последователей различных вероисповеданий, населяющих Россию, мы должны, к прискорбию, сознаться, что православное население, – несмотря на природные дары свои, – есть самое невежественное в религиозном отношении и самое безграмотное». Вину за этот крах Корнилов возлагал прежде всего на духовенство, от деградации которого одинаково страдали и русские, и инородцы православного исповедания:
[Так как] народ, не удовлетворяемый одною лишь внешнею обрядностию, ищет религиозного назидания и не всегда находит его у своих пастырей, к которым часто не питает ни уважения, ни доверия, то весьма понятно, что крещеные инородцы отпадают от церкви, делаются отступниками… подчиняются религиозному влечению проживающих среди их мусульманских грамотеев и мулл, и что русские крестьяне соблазняются раскольниками и ересеучителями[348]348
РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 99. Л. 2–3 (черновик отзыва Корнилова на записку П.Д. Шестакова, датирован 3 декабря 1869 г.).
[Закрыть].
Солью корниловской критики проекта был следующий пассаж о недопустимом отрыве духовенства от народа:
У евреев духовенство – весь народ, т. е. весь мужеский пол – духовенство. Каждый еврей может быть раввином, каждый еврей может венчать, каждый еврей в синагоге надевает особое облачение и принимает непосредственное участие во всех частях богослужения. …У мусульман, так же как и у лютеран, – нет духовной касты; духовное поприще избирается по наклонности… У католиков и ламаитов духовенство составляет организованную и по-видимому отдельную корпорацию, но как духовенство их безбрачное, то персонал его… постоянно пополняется из народа и, следовательно, находится с ним в родственных, семейных связях. …А потому во всех поименованных церквах нет такого отделения, отчуждения между народами и духовенствами, какое есть в нашей церковной организации. …Православный священник настолько же свой прихожанам, насколько они могут считать своим городничего, исправника, губернатора[349]349
Там же. Л. 4–4 об.
[Закрыть].
Корнилов был человеком скорее практического, нежели теоретического склада ума, но неудивительно, что его размашистый этюд конфессиональной компаративистики[350]350
Корнилов, конечно же, претендовал на то, чтобы его соображения о «народах и духовенствах» были прочитаны как мнение опытного эксперта. Хотя они не были для того времени особо оригинальны (и представляют интерес именно потому, что прозвучали из уст высокопоставленного бюрократа как аргумент в служебной дискуссии), какая-то толика непосредственных впечатлений и опыта в них отразилась. Даже с той религией, которая в глазах его виленских сослуживцев оставалась совершенно экзотической, Корнилову довелось соприкоснуться: в конце 1840-х годов, еще до перехода с военной службы в ведомство народного просвещения, он путешествовал по Бурятии и изучал там ламаистские обрядовые практики (см., напр.: РГИА. Ф. 970. Оп. 1. Д. 255, 691 и др.).
[Закрыть] остался без дальнейшего развития. Никаких конкретных рекомендаций, которые стоило бы предварять столь безоговорочным, обобщающим вердиктом духовенству своей веры, в записке нет. Слова Корнилова звучали в унисон риторике тех деятелей, духовных и светских, для которых аналогичные отзывы о православном клире были подчас способом возвышающей самоидентификации внутри духовенства или среди вовлеченных в религиозные искания интеллектуалов. Так, в 1866 году филолог и историк панславистского направления, доцент Петербургского университета В.И. Ламанский спешил поделиться радостью с И.С. Аксаковым по случаю назначения ректором Петербургской духовной академии протоиерея И.Л. Янышева, представителя той активной группы в белом духовенстве, которая соперничала за влияние с «ученым монашеством»: «У нас есть одна хорошая новость: Янышев назначен ректором Дух[овной] Ак[адемии] и при вступлении сказал речь весьма решительную и резкую, которая монахов возмутила, а молодежи сильно понравилась. Говорил, что наше духовенство выказывает жизни и деятельности гораздо меньше, чем не только католическое и лютеранское, но даже мусульманское»[351]351
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1. Л. 74 (письмо от 11 декабря 1866 г.).
[Закрыть].
«Чисто духовные дела» и дела «духовно-административные»: Попытка разграничения
Педалирование в общественном сознании конца 1850-х – начала 1860-х годов темы несостоятельности православного духовенства, будто бы целиком омертвленного казенщиной, преданного «букве», а не «духу» веры, не обязательно влекло за собой на практике ужесточение защитных запретов и превентивных санкций против неправославных религиозных сообществ. В конфессиональной политике это был период шаткого равновесия между потенциальными векторами развития: последствием актуализации дискурса «внутренней веры» могло стать и благожелательное отступление ведомства иностранных исповеданий от того или иного объекта своей бюрократической юрисдикции, и отстранение нарочито брезгливое, с целью дискредитации инаковерующих и/или их духовных лидеров. Характер этого двусмысленного невмешательства варьировался не только от конфессии к конфессии, но и в зависимости от региональной и этнической специфики какой-либо из них. Если, тем не менее, попытаться привести к общему знаменателю разнородные мероприятия и начинания конфессиональной администрации, то мы получим объединявшее довольно многих бюрократов представление о возможности наново разграничить – по терминологии одного из типичных проектов – «чисто духовные дела», не имеющие «гражданского значения», и дела «духовно-административные»[352]352
Материалы комиссии по устройству быта евреев (по Империи). Ч. II. СПб., 1879. С. 146–147 (представленный в Государственный совет министром внутренних дел П.А. Валуевым проект учреждения «уездного управления делами веры евреев», май 1864 г.).
[Закрыть]. Иными словами, надлежало словно бы «дистиллировать» спиритуальные отправления веры, отделив от них те предметы, которые в одно и то же время касались и вероисповедания, и буквы светского закона (например, таинства и обряды, знаменовавшие, по воле светской власти, переход индивида в новое гражданское состояние). Идея такой сепарации не была исключительно плодом инвентаризующего чиновничьего ума. В ней отчетливо слышится эхо тогдашних дискуссий о природе взаимоотношений между государством и православной церковью. К примеру, планы восстановления соборного начала в церковном управлении, обсуждавшиеся значительной группой архиереев вплоть до середины 1860-х годов, включали и пожелание распутать наконец клубок церковных и секулярных правомочий, сделать присутствие государства в религиозной жизни православных более предсказуемым и менее произвольным. Один из епископов – сторонников созыва Поместного собора утверждал: «Самый важный артикул на соборе будет определение и мера власти гражданской в делах церковных»[353]353
Цит. по: Алексеева С.И. Святейший Синод. С. 89.
[Закрыть]. Однако эта аналогия не безоговорочна. Для «чужих вер» определение светскими бюрократами категории «чисто духовных дел» гораздо больше, чем для православия, означало вероятность последующего принижения как раз таки спонтанных проявлений религиозности. Это было так, как если бы прочерченная – при всей ее условности – граница между верой ради веры и верой, востребованной государством для своих управленческих нужд, раздражала самих же творцов конфессиональной политики и провоцировала на приращение второй сферы в ущерб первой.
Момент колебания в оценке важности «чисто духовных дел» хорошо просматривается в проекте «уездного управления делами веры евреев», представленном МВД в Государственный совет в 1863 году и обсуждавшемся в течение 1864 года (цитированная выше «формула» сепарации взята именно из него). Чем был вызван этот проект? За годы николаевского правления власть, вдохновляемая просвещенческой idée fixe «исправления» евреев и, отчасти, опытом аккультурации еврейского населения в Западной и Центральной Европе, перепробовала несколько инструментов регулятивного воздействия на иудаизм. В 1826 году на раввинов было возложено ведение метрических записей – обязанность, которую в христианских вероисповедных сообществах выполняло духовенство. Положение о евреях 1835 года закрепило за раввинами, сохраняя их выборность, статус государственных служащих – отсюда ставшее вскоре расхожим выражение «казенный раввин» – и наделило их широким, но туманно описанным кругом полномочий по надзору и толкованию «еврейского закона». В 1844 году под эгидой министра народного просвещения С.С. Уварова, особенно восприимчивого к германской модели еврейского секуляризующего просвещения (Хаскалы), начала создаваться сеть государственных училищ специально для евреев; венчавшие эту постройку два раввинских училища должны были поставлять кандидатов на должность раввина, лояльных престолу и усвоивших хотя бы начатки русской культуры. В 1852 году в Петербурге собрался первый созыв т. н. Раввинской комиссии – совещательного экспертного органа, который был включен в структуру ДДДИИ. Состоявшая из нескольких выборных от еврейских обществ черты оседлости комиссия уполномочивалась разбирать вопросы, поставившие в затруднение местных раввинов, и рассматривать апелляции по раввинским решениям относительно разводов. Наконец, в 1853 году было постановлено, что только те браки и разводы евреев, которые совершены с ведома и в присутствии казенного раввина, считаются законными. В отличие от христианских конфессий, в особенности синодального православия в России[354]354
См. об этом: Фриз Г. Мирские нарративы о Священном таинстве: Брак и развод в позднеимперской России. С. 122–175.
[Закрыть], иудаистская традиция не препятствовала разводам, и, как видим, бюрократия по-своему считалась с этим, доверяя раввинам то, что у православных мог сделать только Синод[355]355
Freeze Ch.Y. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. Brandeis University Press, 2002. P. 84–98.
[Закрыть].
С середины же 1850-х годов все громче заявляет о себе разочарование в попытках создать силами государства подобие духовного сословия у евреев. Несколько позднее М.Н. Катков назовет такое конструирование неподобающей «христианскому правительству» «забот[ой] о религиозных верованиях и религиозном обучении нехристианского населения»[356]356
Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1865 год. М., 1897. С. 409 (передовица от 7 июля). Ср.: Он же. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866 год. М., 1897. С. 313 (передовица от 15 июля).
[Закрыть]. В планах интеграции еврейского населения в российское общество приоритет начинает отдаваться светскому образованию евреев совместно с христианами. Тем не менее и ведомство иностранных исповеданий, и защитники «уваровских» отдельных школ для евреев в Министерстве народного просвещения не теряли надежды на усовершенствование прежней, регулирующей и дисциплинирующей, политики в отношении иудаизма[357]357
В гл. 9 и 11 наст. изд. этот поворот анализируется подробнее, во взаимосвязи с государственной политикой отдельного образования для евреев.
[Закрыть]. На этой-то почве и создавался в МВД, при участии членов Раввинской комиссии третьего созыва (1861–1862), проект реформы казенного раввината. Согласно ему, вместо института окружного раввина, который, по замыслу середины 1830-х годов, должен был сосредоточить духовный авторитет в своем лице, вводилась комбинация с элементами коллегиальности. А именно: выборный уездный раввин плюс, в качестве надзорно-распорядительной инстанции, уездное «правление по делам веры евреев», состоявшее из самого раввина и двух членов, которые избирались «обществом из почетных и благонадежных лиц» и утверждались губернатором. Уездному раввину подчинялись все местные раввины, толкователи галахи и все лица, специально причастные к практикам и ритуалам иудаизма, – однако подчинялись лишь в той мере, в какой их специальная деятельность затрагивала обряды, «имеющие гражданское значение» и регистрируемые в метрических книгах. В ответах на замечания, сделанные при обсуждении проекта в Общем собрании Государственного совета, МВД подчеркивало, что реформа вовсе не означает ужесточения государственной регламентации, напротив:
Уездным раввинам не только не предоставляется в пределах своего уезда большего духовного значения, чем ныне предоставлено раввину в своем округе, но даже от них отделяются вовсе те обязанности нынешних местных раввинов, которые имеют чисто духовное, а не административное значение и касаются предметов веры и совести, а не обрядов, подлежащих внесению в метрические книги (как-то: обрезание, браки, разводы и проч.)… Чрез это вовсе не придается уездным раввинам какого-либо чисто духовного или иерархического авторитета[358]358
Материалы комиссии по устройству быта евреев (по Империи). Ч. II. С. 153–161, 166, 175–176, 183.
[Закрыть].
Среди критиков проекта в Государственном совете были и те, кто воспринял проект как продолжающий николаевские эксперименты шаг к созданию у евреев духовного сословия. Это, по их мнению, было недопустимо уже потому, что влекло за собой аналогичные меры по отношению к мусульманам, буддистам и «прочи[м], не исповедующи[м] христианскую религию» (т. е., по этой логике, тем, чья вера недостойна заботы со стороны «христианского правительства»). МВД упрекало критиков не только в неосведомленности насчет того, как до сих пор администрировались в империи неправославные исповедания (ведь не со вчерашнего дня мусульмане и буддисты «в делах веры находятся в заведывании своего духовенства, утвержденного правительством, имеют духовную иерархию и центральные духовные учреждения»), но и в непонимании той новой гибкости конфессиональной политики, которую предлагалось опробовать на евреях:
[Необходимо] даровать [евреям] полную свободу в чисто духовных делах и в совершении обрядов, не имеющих гражданского значения, чем они в настоящее время не пользуются… По существующим законам раввинам было предоставлено толкование закона и исключительное право совершать главные обряды веры. В отмену сего, Министерство предположило предоставить каждому ученому еврею как толкование закона, так и совершение обрядов…
И если обряды, «имеющие гражданское значение», должны и впредь совершаться только с ведома уездного раввина (а расторжение брака – непременно всего состава уездного правления), то все равно это ограничение гораздо менее стеснительно для евреев и более соответствует их религиозным обычаям, чем нынешний закон, вовсе воспрещающий не раввинам совершать обряды, – тогда как раввин часто не умеет даже обрезать младенца, на что нужна ловкость и опытность[359]359
Там же. С. 162–166, 185–186.
[Закрыть].
За столь, казалось бы, широким определением духовной автономии стоял ближайший и довольно прагматичный расчет. Выиграть от этого должны были поддерживаемые властью кандидаты в раввины из числа просвещенных евреев (маскилов), выпускников специальных казенных училищ для евреев или общеобразовательных высших, средних и даже начальных заведений. К тому времени стало вполне ясно, что молодые евреи, прошедшие подготовку в государственном учебном заведении, имеют мало шансов завоевать признание единоверцев в качестве духовных наставников. Если даже общество избирало их по необходимости на должность казенного раввина, за разрешением споров и сомнений, связанных с галахическими предписаниями, а нередко и за совершением ритуалов люди обращались к т. н. духовным раввинам, которые не имели никакого особого статуса с точки зрения властей[360]360
Круг лиц, допускавшихся к замещению должности казенного раввина, был значительно расширен законом от 13 мая 1857 года, который фактически отменил обязательность для соискателей специального религиозного образования. См. об этом: Freeze Сh.Y. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. P. 98–106.
[Закрыть]. Единоверцы обличали молодых казенных раввинов если не в безбожии и глумлении над иудейским законом, то уж точно в незнании галахи – вопреки тому, что десятилетний курс государственного раввинского училища включал соответствующую подготовку[361]361
О том, как подобные обвинения становились в 1860-х годах оружием в борьбе разных еврейских групп за покровительство имперской администрации, см. гл. 9 наст. изд.
[Закрыть]. Вольно или невольно, они оказывались на обочине религиозной жизни общины. Все это и побудило экспертов по иудаизму в МВД попытаться в 1863 году переформулировать компетенцию официальных раввинов:
Присвоение… участия в делах чисто духовных людям, не пользующимся надлежащим духовным авторитетом, часто раздражало евреев и служило главным поводом к разъединению молодых раввинов с обществом и к ослаблению того влияния, которое им гораздо легче было бы приобрести, если бы официальная деятельность их распространялась лишь на дела духовно-административные, ограничиваясь в делах чисто духовных лишь кругом тех лиц, которые сами добровольно стали бы к ним обращаться.
Таким образом, составители проекта надеялись разом достичь двух целей: избавить официальных раввинов от потуг на роль знатоков галахи, «с оставлением чисто духовных дел за талмудистами» (!), и тем самым создать условия для практического применения маскильских гражданских добродетелей: знания русского языка, секулярной образованности и прочих, столь нужных при неуклонном, как казалось тогда многим чиновникам, выходе еврейских общин из традиционалистской изоляции. О том, что «чисто духовным делам» в этой реформе придавалось скромное и, в сущности, бездуховное значение, говорит не только выражение «талмудисты», с его пейоративными коннотациями, но и брошенное мимоходом сочувственное замечание о молодых раввинах, которые, мол, иногда действительно пренебрегают «внешней обрядовой стороной религии и разными мелочами, имеющими в глазах евреев старого века значение неприкосновенных религиозных обычаев»[362]362
Материалы комиссии по устройству быта евреев (по Империи). Ч. II. С. 146–148.
[Закрыть]. Получалось так, что сепарация сугубо духовной и религиозно-административной сфер относит первую не к ядру, а к периферии вероисповедания. В таком перераспределении атрибутов внешнего и внутреннего и был ключ к последующей вероятной дискредитации институтов, обрядов, обычаев, первоначально объявленных свободными от административного вмешательства. Дихотомия «духа» и «буквы» вновь представала этаким перевертнем.
Хотя сдвоенный институт уездного раввина и уездного правления по делам веры евреев не был введен[363]363
Одной из причин сдачи проекта МВД в архив было временное смещение инициативы в «еврейской политике» в 1864 году из Петербурга в Вильну, на уровень генерал-губернаторской администрации, о чем подробнее речь пойдет в гл. 9 и 11 наст. изд.
[Закрыть], проект 1863–1864 годов, по-видимому, укрепил представление бюрократов о том, что государственная регистрация иудейских обрядов, связанных с рождением, браком, разводом и смертью, не вторгается в область спиритуального. Однако практика функционирования старого, введенного еще в 1820-х годах казенного раввината в эпоху после Великих реформ разошлась с этим представлением. С возрастанием бюрократической активности на местах казенный раввин, как агент государственной власти, тонул в пучине все множившихся обязанностей и поручений (составление различных отчетов, разъяснение единоверцам новых законов, участие в судебных расследованиях и полицейских мероприятиях)[364]364
Известный мне случай, когда раввин высказал прямо противоположное мнение об объеме своих обязанностей, свидетельствует о секуляризующем эффекте определения, которое МВД давало «духовно-административным делам». Маскильски настроенный раввин уездного городка Режица (Витебская губерния), выпускник Виленского раввинского училища Б.А. Гительсон в 1872 году, ходатайствуя о разрешении преподавать в частном еврейском училище, доказывал, что исполнение раввинских обязанностей оставляет ему массу свободного времени, которое можно было бы с пользой для дела употребить на обучение детей русской грамоте («…лишать раввина права обучать своих единоверцев русской грамоте равно отнять у портного одно из главных его орудий – иглу»): «У евреев вовсе нет экстренных религиозных обрядов, которые не терпели бы отлагательства на несколько часов… Обряды обрезания и нарекания имен младенцам совершаются во время утренней молитвы, часов в 7 или 8 утра, и есть работа никак не более 10-ти минут, а обряд бракосочетания обыкновенно бывает в ночное время и никогда ранее 6-ти часов вечера и есть тоже работа не более 10-ти минут…» (LVIA. F. 567. Ap. 5. B. 3523. L. 35–35 ap.). Поистине арифметическая простота аргументации: значимость ритуала сводится к его продолжительности. Маскил, возможно, желал польстить адресатам своего прошения, делая этот завуалированный комплимент православной литургии.
[Закрыть], так что подчас ему ничего не оставалось делать, как, нарушая закон, просить о совершении того или иного обряда кого-либо из неформальных духовных руководителей общины.
Главное же, последствия даже исправной (номинально) службы казенных раввинов постоянно напоминали об отсутствии той резкой линии, которую бюрократам так хотелось прочертить, – грани между делами «чисто духовными» и «духовно-административными». Наглядным отрицанием такой схемы была проблема развода среди евреев, драматически обострившаяся к концу XIX века. Как доказывает автор посвященной этому сюжету монографии ЧаеРан Фриз, сосуществование казенного раввината с духовными раввинами приводило к тому, что все больше браков, заключенных в соответствии с еврейским законом, но почему-либо с нарушением закона государственного (не в присутствии казенного раввина или без своевременной регистрации в метрической книге), затем расторгалось корыстными или безответственными мужьями при фактическом поощрении со стороны казенных раввинов. Перед лицом государства такой брак не имел никакой юридической силы, и духовный раввин, совершивший обряд, не решался настаивать на его законности, дабы не подвергать себя преследованиям за присвоение прерогативы казенного «коллеги». Поэтому муж мог безнаказанно покинуть жену без выдачи ей требуемого еврейским законом подтверждения развода, что закрепляло за женщиной статус неразведенной и, следовательно, делало невозможным для нее новое замужество. Защищаясь от этого манипулирования на противоречиях между Сводом законов и Талмудом, пострадавшие еврейки постепенно прокладывали дорожку в гражданские суды, где при везении можно было найти управу и на бывших мужей, и на попустительствующих им раввинов. В конечном счете метрикация брака – вроде бы не более чем регистраторская, безразличная к глубине и силе религиозных убеждений функция казенного раввина – отозвалась упадком традиционного авторитета раввинов духовных[365]365
Freeze Ch. Y. Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia. P. 116–130 et passim.
[Закрыть].
* * *
Яснее всего нацеленность послениколаевской политики невмешательства на дискредитацию вероисповедания прочитывалась в случае ислама, в особенности на Северном Кавказе. Эта тема не так далека от предмета настоящего исследования, как может показаться с первого взгляда, и остается только сожалеть о том, что в историографии еще не появилось систематического сравнительного анализа конфессиональных мероприятий властей на двух стратегически важных окраинах – западной и кавказской. Географическая удаленность и разная культурная маркировка этих окраин («Запад», «Восток») не препятствовали циркуляции между ними управленческого опыта. (Сравнение это тем более уместно, что аннексия земель Речи Посполитой и проникновение империи на Северный Кавказ и в Закавказье не просто происходили более или менее одновременно, но и, взятые вместе, радикально усложнили управление империей как полиэтническим государством[366]366
См. важные наблюдения на этот счет: LeDonne J.P. Building an Infrastructure of Empire in Russia’s Eastern Theater, 1650s – 1840s // Cahiers du monde russe. 2006. Vol. 47. № 3. P. 607–608.
[Закрыть].) В 1860-х годах в Западном крае и Царстве Польском служило немало администраторов с кавказским опытом за плечами. Противостояние газавату выработало в умах многих из них устойчивый образ «фанатичной», «ложной» религиозности, изначально враждебной имперскому порядку. Сложившийся там набор критериев был востребован и для оценки тех непривычных форм религиозной жизни, будь то католической или еврейской, с которыми этим же людям пришлось вплотную столкнуться на западе империи после 1863 года.
В политике по отношению к самому исламу к середине 1850-х годов окончательно определилась альтернатива, зревшая в течение нескольких предшествовавших десятилетий, екатерининской стратегии узаконения и регламентации. В эпоху Екатерины власти знали «магометанство» преимущественно по сообществам с четко выделенной, урбанизированной духовной элитой, влияние которой на единоверцев обуславливалось связью с древней традицией книжной учености. Таким носителям религиозного авторитета было легче, чем каким-либо «низовым» подвижникам веры, встроиться или хотя бы подстроиться под навязываемый империей иерархический порядок. Иное дело – Дагестан, Чечня и другие области Северного Кавказа в первой половине XIX века. Здесь российская администрация впервые близко познакомилась с обновленческим движением суфийских братств, которое можно с некоторым упрощением назвать «народным исламом». Его отличали не только борьба за утверждение в горских общинах норм шариата и эгалитаристские тенденции, но и того рода спонтанная экспрессия в отправлении публичных обрядов, которая была несовместима с этосом Polizeistaat и очень нервировала имперских бюрократов, в каком бы вероисповедании они ее ни наблюдали[367]367
Jersild A. Empire and Orientalism. P. 12–37.
[Закрыть]. Встреча с суфизмом обозначила предел способности имперской администрации к дифференцирующей трактовке мусульманских религиозных практик. Разумеется, власти в Тифлисе и Петербурге были, в сущности, правы, когда сокрушались о «фанатизирующем» воздействии шейхов братства Накшбандия, в особенности таких, как непримиримый Абдуррахман Согратлинский, на войско Шамиля; используя для характеристики их вероучения ярлык «мюридизм» (первоначальное значение слова «мюрид» – член братства, ученик суфийского шейха), люди империи более или менее точно передавали суть полученной Шамилем духовной санкции на ведение войны против России. Однако выводы эти были абсолютизированы и в дальнейшем автоматически распространялись на любые попадавшие в поле зрения изводы суфизма. Так, в середине века власти не делали никакого различия между проповедовавшими газават вирдами братства Накшбандия и ответвлением братства Кадирия под главенством шейха Кунта-Хаджи, который осуждал войну как помеху смирению и самосовершенствованию и даже навлек на себя гонения в имамате Шамиля. Достаточно было пристрастия кадиритских суфиев к обряду т. н. громкого зикра – коллективной экстатической молитвы с пением и танцами, чтобы увидеть в братстве зародыш нового газавата (громкий зикр, вообще популярный в суфизме, действительно служил в войске Шамиля чем-то вроде боевой песни, что, конечно же, живо запечатлелось в памяти российских современников). Командующий войсками Терской области М.Т. Лорис-Меликов основывал свое заключение о проповеди Кунта-Хаджи на несомненной для имперского слуха неблагонадежности братства – подобно тому, как в те же годы «эксперты» по католицизму в Западном крае опасались, что общее пение церковных гимнов под органную музыку в костеле непременно пропитает крестьян-прихожан сочувствием к «полонизму»: «Учение зикра, направлением своим во многом подходящее газавату, служит теперь лучшим средством народного соединения, ожидающего только благоприятного времени для фанатического пробуждения отдохнувших сил»[368]368
Северный Кавказ в составе Российской империи. С. 96–100, 140–142, цитата из приводимого авторами фрагмента донесения Лорис-Меликова наместнику Кавказскому – с. 141. В начале 1860-х годов Р.А. Фадеев, тогда офицер при штабе наместника, а впоследствии известный публицист и идеолог российского господства на Северном Кавказе и в Закавказье, проводил прямую параллель между «зикристами» и польскими повстанцами: «Представляется более чем вероятным, – писал он в докладе новоназначенному наместнику вел. кн. Михаилу Николаевичу, – что распространение зикры на Кавказе подчинено правильному плану, что руководители зикристов в Чечне и Дагестане находятся во взаимной связи между собой и с Турцией. Подобное сотоварищество представляет очевидное сходство с польским революционным комитетом по цели и даже по образу действий, хотя основания того и другого различны между собой, как Азия и Европа» (Фадеев Р.А. Собр. соч. СПб., 1889. Т. 1. Ч. 2. С. 79–96).
[Закрыть]. Словом, платой за победу в Кавказской войне стала не просто навязчивая исламофобия, но и ослаблявшая аналитический и прогностический потенциал бюрократии недооценка возможности аполитичной религиозной мотивации в коллективных действиях подданных. Любые массовые проявления религиозности брались под подозрение как прикрывающие политический умысел, производные от него или его провоцирующие.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?