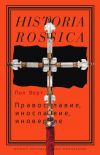Текст книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"

Автор книги: Михаил Долбилов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
Глава 1
Политизация религиозности: основания и антиномии конфессиональной политики империи
В 1868 году специальная Ревизионная комиссия «по делам римско-католического духовенства в Северо-Западном крае», учрежденная двумя годами ранее виленским генерал-губернатором К.П. Кауфманом, одним из самых активных борцов с «полонизмом» и «латинством», представила в Министерство внутренних дел отчетную записку о своей деятельности. Особое внимание в этом документе было уделено рекомендованным комиссией мерам по регламентации культа и ограничению массовых проявлений религиозности – мерам, которые уже успели к тому времени навлечь на имперскую администрацию обвинения в грубейшем нарушении канонического права:
Если государство гарантирует религии полную терпимость и неприкосновенность ее со стороны светской власти в ее догматах и учреждениях… то это не иначе как под условием полнейшего невмешательства религии в дела государства, под условием столь же строгого со стороны религии самоограничения себя одним исполнением духовной миссии и невторжения в мир политики и власти светской… [Принцип невмешательства] имеет своей необходимой антитезой не только право, но и обязанность государства при нарушении церковью ее нормальных к нему отношений войти в дела сей последней…[68]68
LVIA. F. 378. BS. 1866. B. 1340. L. 108 ap. – 109.
[Закрыть]
Эта декларация об интервенции во имя невмешательства как нельзя лучше отразила антиномии в религиозной политике имперского государства, восходящие еще к эпохе Петра I: между веротерпимостью и секуляризирующей дискриминацией того или иного вероисповедания; между сравнительным безразличием к сфере духовного и усиленным конфессиональным дисциплинированием; между опорой властей на религиозные элиты и чиновничьим антиклерикализмом. Наконец, в высшей степени примечательна двойственность характеристики светского надзора над конфессией – как одновременно права и обязанности государства.
Взаимосвязь религиозной политики и практик религиозности в Российской империи интенсивно изучается в последние годы не только историками, но также антропологами, социологами, фольклористами[69]69
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700–1740. М., 2000; Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia / Ed. R. Geraci and M. Khodarkovsky. Ithaca: Cornell University Press, 2001; Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII века. М.: Индрик, 2003; Панченко А.А. Христовщина и скопчество; Paert I. Old Believers, Religious Dissent and Gender in Russia, 1760–1850. Manchester University Press, 2003; Shevzov V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. Oxford University Press, 2004; Breyfogle N. Heretics and Colonizers: Forging Russia’s Empire in the South Caucasus. Ithaca: Cornell UP, 2005; Vulpius R. Nationalisierung der Religion. Russifizierungspolitik und ukrainische Nationsbildung, 1860–1920. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2005; Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia / Ed. Mark D. Steinberg and Heather Coleman. Indiana University Press, 2007; и др.
[Закрыть]. Большинство исследователей видят теперь в феномене имперской веротерпимости[70]70
Werth P. Schism Once Removed: Sects, State Authority, and the Meanings of Religious Toleration in Imperial Russia // Imperial Rule / Ed. by A. Miller and A. Rieber. Budapest: Central European University Press, 2004. P. 85–108; Idem. The Institutionalization of Confessional Difference. P. 152–172; Crews R. For Prophet and Tsar. См. также: Вишленкова Е.А. Заботясь о душах подданных: Религиозная политика в России первой четверти XIX века. Саратов, 2002; Дорская А.А. Государственное и церковное право Российской империи: Проблемы взаимодействия и взаимовлияния. СПб., 2004.
[Закрыть] нечто большее, чем демагогию имперских правителей или камуфляж насильственных обращений в православие. Однако, отказываясь от прежней упрощенной трактовки, можно впасть в другую крайность – идеализацию веротерпимости Романовых[71]71
В этом духе выдержана недавняя работа А.К. Тихонова, в которой зачастую воспроизводятся принятые когда-то у имперской бюрократии оправдания репрессий, гонений и других ограничительных мер в отношении неправославных исповеданий (Тихонов А.К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в последней четверти XVIII – начале ХХ века. 2-е изд. СПб., 2008). Как кажется, автор исходит из презумпции о том, что неправославные подданные по определению не могли быть столь же лояльны российскому государству, как православные, и неизбежно были подвержены сепаратистским настроениям. Отсюда трактовка веротерпимости как уникального свойства Российской империи, милосердно разрешавшей неблагонадежным конфессиям существовать на своей территории. С этой точки зрения преследования духовенства или запреты на какие-либо обряды предстают незначительной данью, которую должны же были эти конфессии заплатить за свое признание. См. также рецензии Д. Сталюнаса и П. Верта на первое (2007) издание книги Тихонова (почти ничем не отличающееся в содержании от второго): Pinkas: Annual of the Culture and History of the European Jews. 2008. Vol. 2. P. 172–180 (Сталюнас); Central Eurasian Reader: A Biennial Journal of Critical Bibliography and Epistemology of Central Eurasian Studies. 2008. P. 397–398 (Верт).
[Закрыть] и отождествление ее с современными понятиями свободы совести и религиозного плюрализма.
Положительная семантическая аура слова «веротерпимость», настраивающая порой на некритическое прочтение религиозной политики империи, отчасти нейтрализуется предложенной недавно Р. Крузом концепцией «конфессионального государства» (confessional state)[72]72
Crews R. Empire and Confessional State: Islam and Religious Politics in Nineteenth-Century Russia // American Historical Review. 2003. Vol. 108. № 1. P. 50–83.
[Закрыть]. Речь идет о таком государстве, где власть приемлет и в какой-то мере пестует конфессиональную разнородность не потому, что руководствуется идеалом самоценности каждой из опекаемых вер, а потому, что само поддержание различий между ними помогает воспитывать в подданных законопослушание и сознание своей функции и места в обществе. В сущности, мы имеем здесь дело с одной из ипостасей Polizeistaat, «well-ordered police state» (термин М. Раева), или «регулярного» государства эпохи (раннего) Нового времени. Это государство переходило с позиции сравнительно пассивного «надсмотрщика» над подданными к интервенционистской, креативной регламентации социальных отношений и культурной среды, к устроению «общего блага».
Хотя идиологема православного царства являлась составной частью саморепрезентации монархии и – особенно в XIX – начале XX века – центральным элементом националистического мышления, а православие занимало официальное положение «первенствующего и господствующего» вероисповедания, в своем повседневном существовании империя зависела от института религии и практик религиозности как таковых, безотносительно к вероисповеданию. Принадлежность к той или иной признанной государством конфессии опосредовала гражданские отношения подданных к государству и являлась для последнего незаменимым инструментом управления, контроля и категоризации населения. Человек рождался, вступал в брак (и разводился), производил потомство и умирал, а также приносил присягу, молился за императора и правящий дом, выполняя в каждом из этих случаев таинства и/или обряды соответствующего вероисповедания. Строго говоря, подданный становился видимым для государства постольку, поскольку исповедовал свою веру.
Имперский конфессионализм предполагал – в идеале – снисходительное отношение властей к неправославным конфессиям при условии их большей или меньшей открытости прямому административному контролю и выполнения их духовными лицами ряда предписанных функций. Они включали ведение метрических книг, оглашение императорских манифестов, поддержание общественного порядка, внушение людям моральных принципов, совместимых с имперским верноподданничеством, и т. д.[73]73
Crews R. For Prophet and Tsar. P. 21.
[Закрыть] В этой государственной регламентации была своеобразная диалектика: вмешательство государства, «бюрократизация» конфессии влекли за собой не только навязывание перемен в богослужении и обрядах, подчас и вторжение в область вероучения (что официально, как правило, отрицалось), но и частичные преимущества – повышение статуса духовных лиц данного вероисповедания, определенную защиту от прозелитизма других вероисповеданий, консолидацию религиозных практик, расширение возможностей строительства храмов, финансирования духовного образования и проч.[74]74
В отечественной историко-правовой литературе бюрократизация конфессии обычно не рассматривается как неотъемлемый элемент режима имперской веротерпимости. См., напр.: Рейснер М.А. Государство и верующая личность: Сборник статей. СПб., 1905; Дорская А.А. Государственное и церковное право Российской империи: Проблемы взаимодействия и взаимовлияния. С. 175 и др.
[Закрыть] В этом смысле принадлежность к признанной государством конфессии была сродни сословной принадлежности: обязанности и ограничения хоть как-то компенсировались привилегиями. Вполне закономерно, что в «конфессиональном государстве» бюрократизация «господствующей» веры была наиболее глубокой.
Идеологическая и культурная почва, на которой взрастал режим имперской веротерпимости, не была монолитной. «В России, – пишет Р. Круз, – терпимость была структурой для интеграции подданных – неправославных христиан, число которых постоянно возрастало по мере расширения империи. Этот порядок зиждился на мнении, выработанном мыслителями Просвещения по всей Европе, о том, что повсюду у разных религий обнаруживаются общие черты. Являясь основательно разработанными системами дисциплинирования, терпимые веры могли оказаться ценными для “просвещенных” правителей. Там, где насилие было слишком грубым инструментом, обращение к религиозному авторитету могло способствовать превращению в лояльных и дисциплинированных подданных тех людей, которые, возможно, пропустили бы мимо ушей слово правителя, но которых можно было убедить послушаться Бога». Исходя из этой посылки, Круз показывает, как данная стратегия была распространена при Екатерине II на крупнейшее по численности верующих нехристианское вероисповедание в империи – ислам. Он отмечает роль, которую в эволюции взглядов Екатерины сыграли камералистские учения (в частности, Иоганна Генриха фон Юсти, Йозефа фон Зонненфельса) о социальной, моральной и демографической полезности не какой-то одной, а всех основанных на божественном откровении религий, разумно регулируемых государством. Предостерегая от чрезмерной набожности, поглощающей те человеческие силы, которые должны направляться на лучшее устройство земной жизни, камералисты наделяли государство широкими полномочиями решать по своему усмотрению, какие именно стороны вероучения или обрядности, будучи «вредными» или «излишними», требуют правительственного вмешательства. Произвольность разграничения «государственных дел» и области религиозно-духовного опыта, проведения различия между догматом и ритуалом, между «духом» и «формой» веры была столь же неотъемлемым компонентом политики «конфессионального государства», что и включение нехристианских вер наряду с христианскими в число терпимых и опекаемых государством.
Круз тщательно анализирует различные способы интеграции ислама в политико-административные структуры империи в Поволжье и – уже в XIX веке – в казахской Степи и Средней Азии; ход создания духовных иерархий для мусульман; порядок сотрудничества между светскими властями и духовными главами общин в делах повседневного надзора над массой населения и даже толкования веры[75]75
Crews R. For Prophet and Tsar. P. 9–10, 40–43 et passim.
[Закрыть]. Однако нельзя не заметить, что собственный case study Круза (характерным образом оставляющий в стороне кавказскую арену «встречи» государства и ислама) столько же конкретизирует предложенную им общую концепцию «конфессионального государства», сколько провоцирует дальнейшую дискуссию вокруг нее. Может ли эта концепция объяснить контраст между сравнительно успешной имплантацией ислама в управленческую ткань империи (заметим, не во всех ее регионах[76]76
См. об. этом: Северный Кавказ в составе Российской империи. С. 251–262.
[Закрыть]), с одной стороны, и параллельным культивированием ксенофобских представлений о фанатичном «магометанстве» – с другой? Ставя вопрос шире – не развился ли камерализм и в этом случае, как и во многих других, в некий гибрид с отторгающим регламентацию управленческим режимом российского самодержавия?
В данной главе я стараюсь лишь приблизиться к ответу на этот вопрос. Первым шагом будет попытка построить такую модель изучения имперской конфессиональной политики, которая принимала бы в расчет как внутренние противоречия последней, так и общность подходов властей к православию и неправославным, т. н. иностранным, исповеданиям.
Дисциплинирование и дискредитация как парадигмы конфессиональной политики
Мусульмане, которых в Поволжье еще в 1740–1750-х годах наравне с язычниками насильственно загоняли в православие, вероятно, больше, чем какое-либо другое вероисповедание в Российской империи, ощутили на себе и выиграли от толерантной составляющей конфессиональных мероприятий Екатерины II. Однако, несмотря на всю разницу в отношении властей к мусульманам при Екатерине и ее предшественниках, фундамент «конфессионального государства» – пока еще в смысле не поликонфессиональности, а конфессионализации – был заложен при Петре I. Пожалуй, для описания его церковной политики, имевшей долгосрочные последствия для воззрений имперской бюрократии на религию и религиозность, больше бы подошел громоздкий термин «конфессионализирующее государство».
В новаторском исследовании А.С. Лаврова петровская «реформа благочестия» – фронтальное и зачастую жестокое (но при этом не давшее сразу прочных результатов и потребовавшее возобновления уже в 1740-х -годах) вторжение государства в область православной, а тем самым и старообрядческой религиозности – эвристично сопоставляется с Католической реформой (Контрреформацией)[77]77
Второй термин, вошедший в Европе в употребление в XIX веке, используется в научной литературе на русском языке чаще, но первый, подразумевающий, что преобразования в римском католицизме начались еще до Реформации и не были только лишь защитной реакцией на нее, более корректен. См.: Апполонов А., Горелов А. Контрреформация // Католическая энциклопедия / Ред. о. Григорий Цёрох. Т. 2. М., 2005. Стб. 1263–1265.
[Закрыть]. Представляется, что эта аналогия задает гораздо более релевантный контекст для понимания петровской лепты в творчество позднейших архитекторов имперской веротерпимости и объяснения живучести наследия «петринизма», чем напрашивающиеся, но оказывающиеся поверхностными параллели с протестантизмом[78]78
В.М. Живов, отмечая несомненное сходство синодального устройства с протестантскими консисториями и связь обоснованного Феофаном Прокоповичем тезиса о праве монарха на управление духовными делами с писаниями протестантских теоретиков государственного права, тем не менее подчеркивает, что «идея подчинения церковного управления государству была в это время общеевропейской модой… так что с собственно протестантским вероучением этот образец мог и не ассоциироваться, его выбор… ни о какой приверженности Петра или Прокоповича к протестантизму не свидетельствует» (Живов В.М. Из церковной истории времен Петра Великого. М., 2004. С. 56–60, цитата – с. 60). Что касается резкой антикатолической риторики Прокоповича, то, по мнению Живова, и она была продиктована не догматическими, а прагматическими интересами и служила инструментом в идеологической атаке на противников из высшего православного клира, чью позицию петровский сподвижник отождествлял с папизмом и «латинством». Иными словами, филиппики Прокоповича против католических догматов или «латинских» ухищрений барочного красноречия (которым он и сам владел в совершенстве) вовсе не исключали заимствования у католиков практик конфессионализации и дисциплинирования.
[Закрыть]. В основу реформы благочестия Петр и его ближайшие сподвижники в этом деле Феофан Прокопович и Феодосий Яновский положили начало борьбы с «суеверием», которое, в свою очередь, определялось настолько широко, непредсказуемо и волюнтаристски, что характеристику эту, по словам Лаврова, «можно было приклеить как ярлык к чему угодно»[79]79
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. С. 445.
[Закрыть]. Это могла быть и «слишком» набожная молитва, и «чересчур» строгая аскеза, и «непомерно» усердное пощение, и «избыточно» частое хождение в церковь. Явно предвосхищая в этом отношении просветительское толкование суеверия, легко включавшее в себя церковное вероучение и институты целиком, петровская реформа в своей практической части напоминает более раннюю традицию – предписанное Тридентским собором отождествление «суеверия» с народными, неортодоксальными религиозными практиками. Многие петровские мероприятия почти воспроизводили те или иные сегменты опыта, накопленного к тому моменту в Западной Европе пост-Тридентской католической церковью в выявлении и репрессии народных верований и в насаждении единой, подконтрольной церкви конфессиональной идентичности. Это и ограничение крестных ходов, и освидетельствование высшим клиром чудес от икон и святынь, и запрещение признанных неканоническими или грубыми иконографических изображений, статуй святых, и кодификация преследования колдовства – перечисление нетрудно продолжить.
Сравнение с Католической реформой не должно замыкаться на репрессивных или разрушительных мерах. Хотя и в гораздо меньшей степени, чем католический клир, петровское и послепетровское государство сколько-то преуспело в упорядочении православного ритуала, приведении его в соответствие с каноном и внушении подданным конфессиональной дисциплины. К примеру, курируемую Синодом т. н. Канцелярию иконного изображения в 1723 году чуть не угораздило уничтожить палехскую школу религиозной живописи, но даже и в гонениях на народное религиозное искусство отразилась по-своему оправданная теологическая программа – противодействие антропоморфизму и защита монотеизма в иконографии. Петровский указ об упразднении часовен и недопущении молебнов перед иконами вне стен храма, вызванный недоверием преобразователя к «народопоказательной» молитве в людных местах и стремлением предупредить соседство православных со старообрядцами (последние нередко молились в часовнях, поскольку там не было «никонианского» причта), привел к сносу одних часовен и передаче под хозяйственные нужды других, чем, понятно, оскорбил чувства многих верующих[80]80
Там же. С. 415–416, 424–434. Закрытие сельских часовен и домовых церквей с целью сосредоточить религиозную жизнь в приходском храме было как раз в начале XVIII века обычным явлением в тех частях католической Европы, где постановления Тридентского собора последовательно исполнялись духовенством. См.: Hsia R. Po-chia. The World of Catholic Renewal, 1540–1770. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 205.
[Закрыть]. Однако, в сочетании с более ранним, 1716 года, указом о записи в раскол при условии двойного оклада, этот шаг вписывался в широкую конфессионализационную кампанию. Она не только начала размежевание между православными и старообрядцами в повседневной социальной реальности (как по части обрядности, так и при заключении браков, крещении детей), но и впервые закрепила за старообрядчеством хотя бы какой-то правовой статус, придала ему свойство конфессионального сообщества. Впрочем, по мнению Лаврова, и само православие в России лишь в то время и во многом именно благодаря подобной политике становится институционализированной конфессией. Лишь тогда внутри рыхлой массы верующих, весьма условно объединенных разнородными религиозными обычаями, выделяется более или менее значительная группа тех, для кого осознание принадлежности к данному вероисповеданию стало важнейшим элементом самоидентификации. Фиксации отграничения, отличности православных от старообрядцев служило требование государством ежегодной исповеди и составления исповедных книг[81]81
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. С. 39–40, 60–74.
[Закрыть].
Петр, следовательно, проделал силами секулярного государства некоторую долю той необходимой управленческой и пастырской работы, с которой православная церковь не очень успешно пыталась справиться в XVII веке[82]82
См. недавно предложенную трактовку раскола как последствия неудачной политики церковного дисциплинирования: Michels G.B. At War with the Church: Religious Dissent in Seventeenth-Century Russia. Stanford, 1999.
[Закрыть]. Своеобразной платой за это стало превращение церкви в орудие «социального дисциплинирования», использование клириков в качестве проводников светских норм законопослушания и техник подчинения регулярному государству. Таковы истоки специфического симбиоза светской бюрократии и духовной власти (более сложного, чем предполагает модель одностороннего «огосударствления» церкви), обнаружившегося впоследствии в отношениях империи с неправославными верами.
С учетом столь уникальной роли государства в конфессионализации, постулируемое сходство петровских деяний с Контрреформацией, успех которой, напротив, больше зависел от католического клира, чем от светских правителей, требует, вероятно, дополнительных доказательств. А.С. Лавров, хотя и принципиально оспаривающий распространенный в историографии тезис о «пресловутом протестантском влиянии» на Петра[83]83
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. C. 341–343 и др.
[Закрыть], не задается целью систематически проследить в петровской церковной политике источники вдохновения и каналы заимствования у католиков. Но интересны даже и разрозненные ремарки о том, например, что Феофан Прокопович и Феодосий Яновский были «хорошими знатоками польской церковной жизни» и, в частности, таких, по их логике, провоцирующих «суеверия» особенностей культа, как народная религиозная скульптура, или о том, что описание епископских объездов епархий в «Духовном регламенте» напоминает порядок католической визитации[84]84
Там же. С. 343 прим. 5, 416–417, 430 прим. 252.
[Закрыть]. Без ответа на вопрос о механике вероятного трансфера[85]85
В отечественной литературе, начиная с К.В. Харламповича и кончая В.М. Живовым (Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1. Казань, 1914; Живов В.М. Вопрос о церковной юрисдикции в российско-украинских отношениях XVII – начала XVIII века // Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 344–363), хорошо изучен вклад русинских клириков из Киевской митрополии в подготовку и проведение никоновской и петровской церковных реформ, но, вероятно, необходимо специальное исследование, которое бы показало, как знакомство этих образованных православных с конкретными практиками католической (да и протестантской) конфессионализации в Речи Посполитой и других странах находило применение в российских условиях.
[Закрыть] отмеченное сходство может выглядеть как генетическим, так и типологическим и, если рассматривать его в терминах структуры «длительной протяженности» (longue durée), может быть отнесено, скажем, на счет отдельных функциональных подобий между католической иерархией и самодержавной монархией. (Примечательно в этой связи, что прямых аналогов петровской реформы благочестия в православии за пределами России не отыскивается.)
Не претендуя на решение вопроса о подоплеке сходства петровских мероприятий с тридентинскими принципами, в соответствующих главах настоящего исследования я намерен развернуть гипотезу о том, что конфессиональные стратегии Российской империи еще и в XIX веке сохраняли некий заряд Католической реформы. Речь пойдет о фактическом открытии имперской бюрократией массовой католической религиозности на бывших землях Речи Посполитой. Это открытие произошло поздно и доставило тем больше тревог, что здесь Просвещение меньше нивелировало те самые зрелищность и чувственность католического ритуала, подражания которым опасался тот же Петр, запрещая своим православным подданным, к примеру, хранить и распространять резные иконы и изваяния святых. После Январского восстания 1863 года, особенно в 1865–1868 годах, администрация в Вильне с исключительным рвением и даже азартом предавалась не просто репрессиям против католического клира, но тому, что объявлялось (не всегда искренне) регламентацией культа ради восстановления его каноничности и искоренения «суеверий» и «фанатизма». (Последнего, вольтерьянского, словечка Петр I еще не знал, зато с его языка не сходил близкий по смыслу и не менее растяжимый термин «ханжество».) Несмотря на разделявшие Петра и виленскую Ревизионную комиссию почти полтора столетия, «ревизоры» католицизма и по существу дела, и даже в некоторых деталях повторили последовательность петровских начинаний в отношении православия в 1722–1724 годах. Их взыскательный взор обращался на чересчур многолюдные крестные ходы, слишком многочисленные часовни, неосвидетельствованные мощи и ложные чудотворные иконы, «вызывающие» скульптуры в храмах и т. д. Мы видим также общность психологических типов среди исполнителей обеих реформ благочестия: генерал-майору Г.П. Чернышеву, в 1720-х годах неутомимо выискивавшему запрещенные резные образа Св. Николая Мирликийского и прочие «неприличные» иконы по приходским и монастырским храмам[86]86
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. C. 418, 432.
[Закрыть], под стать был печально знаменитый в Вильне 1860-х годов католикофоб А.В. Рачинский, буквально охотившийся на популярные у местных католиков статуи Христа (подробнее см. гл. 5 и 6 наст. изд.).
Кажется не лишенным резона предположить цикличность конфессионализационной – или дисциплинирующей – парадигмы в имперской политике[87]87
Применительно к европейской истории тезис о пришедшейся на XIX век «второй эре конфессионализации» высказан в работе О. Блашке: Blaschke O. Das 19. Jahrhundert: Ein Zweites Konfessionelles Zeitalter? // Geschichte und Gesellschaft. 2000. Bd. 26. S. 38–75. В моем исследовании внимание уделяется прежде всего специфике конфессионализации в Российской империи и уже во вторую очередь – компаративным параллелям.
[Закрыть]. По мере того как империя разрасталась и становилась подлинно многовероисповедной, встреча с очередным неправославным исповеданием, во-первых, влекла за собой своего рода рефлекс «петринизма» – попытки властей вмешаться и исправить худое положение дел, вызванное, как мнилось, отсутствием или ослаблением должного авторитета духовных лиц, их злоупотреблениями, возмутительной неразберихой в отправлении культа. Во-вторых, в случае уже институционализированных конфессий, подобных католицизму, у властей появлялась возможность при таком вмешательстве использовать методы дисциплинирования, которые были опробованы к тому моменту в данной конфессии где-либо за границей, но (будто бы) не затронули ее членов на территории, вошедшей в состав империи. Конкретизировать это наблюдение позволяет еще одна предложенная А.С. Лавровым диахронная аналогия – между петровской реформой благочестия и иозефинизмом (по имени императора Иосифа II) – инспирированной Просвещением политикой регулярного государства в империи Габсбургов в 1770–1780-х годах: «Как не сопоставить введение Петром “паспортов”, резко затруднивших передвижение паломников, с запретом на многодневные паломничества, введенным Иосифом II? Разумеется, речь идет не о формальном первенстве, а о том, что петровская реформа как решала ряд оставшихся от прошлого нерешенных задач, так и представляла собой попытку облечь новейшие просветительские идеи в законодательную плоть»[88]88
Лавров А.С. Колдовство и религия в России. C. 446.
[Закрыть]. Расширяя рамку этого сопоставления, мы еще более убедимся в условности идеи первенства применительно к этой ситуации: опыт иозефинистской веротерпимости сохранял актуальность для экспертов по вероисповедным делам в России в течение долгого времени после смерти просвещенных монархов – Иосифа и немало взявшей у него Екатерины II[89]89
Один из таких экспертов – А.Н. Мосолов, в 1877–1882 и затем снова в 1894–1904 годах возглавлявший Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, – прямо указывал на преемственность российской администрации культов по отношению к иозефинизму. См. гл. 10 наст. изд.
[Закрыть], и при этом сознание нерешенности «оставшихся от прошлого» конфессионализационных задач в своей империи становилось порой не менее острым, чем давным-давно у Петра. Выражаясь образно, столкновение с католической религиозностью (которое по-настоящему произошло далеко не сразу после разделов Речи Посполитой) заставило парадигму конфессионализации описать круг. Изначально родственная Католической реформе и в чем-то обогащенная, в чем-то выхолощенная к началу XIX века влиянием Просвещения, она словно бы вернулась к католикам, которые оказались под властью российских императоров и были сочтены недостаточно дисциплинированными в собственной вере или утратившими таковую дисциплину вследствие разрушительной политизации/«полонизации» веры. «…Религиозный фанатизм, воспитываемый в клериках, делает из них людей с антигосударственными и противоправительственными стремлениями, и, наоборот, полонизм р[имско]-к[атолических] семинарий облегчает образование из их воспитанников фанатиков и изуверов», – так обосновывали в 1868 году власти в Вильне неотложность «органической» реформы «в лицах, учреждениях и условиях быта римско-католического духовенства»[90]90
LVIA. F. 378. BS. 1866. B. 1340. L. 94 ар., 110–110 ар.
[Закрыть].
Сопоставление с иозефинизмом, особенно в его жестко рационалистической версии (запрет паломничеств и других обычаев благочестия как неразумной траты времени и причины расстройства материального благосостояния подданных; вообще отторжение от традиционной обрядности), высвечивает кажущийся парадокс в петровской церковной политике и преемственных с нею позднейших стратегиях управления конфессиями. Добиваясь унификации религиозных практик и насаждая чувство принадлежности к конфессии, светская власть одновременно демонстрировала глубокое недоверие, а то и презрение к тем или иным группам и категориям духовных лиц и даже со вкусом упражнялась в расшатывании религиозно-духовных авторитетов. На примере православия этот мнимый алогизм наиболее удачно истолкован в монографии В.М. Живова. Хотя предложенную в ней объясняющую модель – совмещение в деятельности Петра нескольких парадигм – исследователь увязывает прежде всего с особенностями элитарного барочного мировосприятия и поведения («игра в многозначность»)[91]91
Живов В.М. Из церковной истории времен Петра Великого. С. 53 прим. 21.
[Закрыть], ниже представится не один случай показать очень похожий букет секулярного дискурса и конфессионализации в куда более позднюю и «серьезную» эпоху середины и третьей четверти XIX века.
Рассматривая предысторию введения синодального управления и ревизию Петром чина архиерейского поставления, Живов раскрывает переменчивость и взаимную конвертируемость амплуа, в которых могли или вынуждены были выступать в заданной Петром системе культурных координат православные иерархи. Положительные роли: религиозный просветитель, ревнитель православия как отечественной веры и проводник реформ – посредством риторического кунштюка можно было обратить в отрицательные: обскурант с теократическими замашками, сеятель «латинской» смуты или разносчик протестантского соблазна. Так, митрополит Стефан Яворский, после смерти патриарха Адриана номинально первенствующий архиерей в России, приехал в Москву с миссией просветителя единоверных великорусских невегласов, традиционной с середины XVII века для русинского православного духовенства из Киевской митрополии. Несмотря на последовательные действия в этом направлении, он уже в 1710-х годах, выступив против эксцессов петровского вмешательства в дела церкви (но все же не государственного вмешательства как такового), снискал себе в ближайшем окружении царя опасную репутацию поборника клерикализма и приверженца иезуитской схоластики. Полемизировавший же с Яворским Феофан Прокопович обвинялся многими современниками в протестантских симпатиях и попрании православной традиции. Стремясь избавиться от этой дурной славы, он умело ассоциировал свое ратоборство против митрополита с тем все еще респектабельным ортодоксальным скепсисом в отношении киевской учености, который преобладал в московском высшем клире в конце XVII века[92]92
Там же. С. 56–57, 119–130.
[Закрыть]. Таким образом, Петр и его советники манипулировали уже сложившимися оппозициями просвещения – невежества, секуляризации – клерикализма, православия – инославия. Наряду с этим приемом они использовали для легитимизации весьма радикальных новшеств в церковной жизни канонические фикции. Главными из них были поддерживаемая после 1700 года (и до учреждения Синода) иллюзия возглавления православной церкви в России восточными патриархами и риторическое уподобление Синода традиционному архиерейскому собору. И то и другое не прошло бесследно для развития церковных институций: фантомы были не совершенно призрачны[93]93
Там же. С. 45–47, 85–119.
[Закрыть]. Как мы увидим по ходу дальнейшего изложения, риторика приверженности канону, историческому установлению вошла впоследствии в арсенал тактик экспертов по конфессиональным делам и не всегда оставалась пустым звуком даже по отношению к католикам.
Для понимания того, как и при Петре, и при его далеких преемниках работал один из базовых механизмов конфессиональной политики, очень ценны наблюдения Живова над сделанными Петром в 1716 году дополнениями к чину поставления архиерея («Пункта в прибавку исповедания архиереам»). Новые требования к епископам по части заботы о религиозной дисциплине паствы оформлялись так, чтобы ставимый архиерей, произнося обещание, словно бы изобличал сам себя в злоупотреблениях и суевериях. Пункт о борьбе с излишествами традиционного благочестия – юродством, кликушеством, обоготворением икон и проч., описывая эти девиации в брезгливом тоне, обязывает епископа для их искоренения совершать регулярные инспекции епархии, но предупреждает, чтобы это делалось «не ради лихоимания и чести» (т. е. честолюбия). Пункт о непостройке церквей «свыше потребы» сопровождается упоминанием архиерейских «прихотей», ради которых могли возводиться новые храмы. Запрет рукополагать священнослужителей «свыше подобающие потребы», и особенно для унаследования прихода сыном или зятем священника, усиливается оборотом «скверного ради прибытка». За строками Чина избрания и поставления маячила весьма неприглядная фигура князя церкви, которая в тот же период была объектом издевательского пародирования во Всешутейшем и всепьянейшем соборе. Учреждение Синода повело к дальнейшему разрастанию дисциплинарной части архиерейского обещания[94]94
Там же. С. 194–227, особ. с. 203–205.
[Закрыть]. Эта эволюция свидетельствует о взаимозависимости, если не взаимодополняемости символической дискредитации духовенства и государственно-церковных приемов конфессионализации:
…Петр… хотел сделать из духовенства агентов социального дисциплинирования – за отсутствием других подходящих кандидатов. Духовенство, однако, было плохо приспособлено к этой роли, у него были совсем другие навыки и приоритеты. Поэтому для того, чтобы его использовать, нужно было его переделать, а для того, чтобы оно поддавалось этой переделке, его нужно было дискредитировать, что, конечно, плохо соотносилось с его будущей ролью дисциплинирующего общество агента. Дисциплинирование принадлежало одной парадигме, дискредитация – другой, и нет смысла пытаться уложить их в прокрустово ложе единой системы. Основной целью Петра было, в конечном счете, утверждение собственной власти и создание под этой властью «регулярного» государства, и с этой целью он манипулировал различными культурными практиками (дисциплинирующими, секуляризационными, просвещенческими), всякий раз решая отдельную задачу[95]95
Там же. С. 45.
[Закрыть].
Подчеркну еще раз, что, на мой взгляд, петровские навыки барочной герменевтики не были единственно возможным движителем этой замысловатой механики. И в последующие эпохи отмеченные парадигмы конфессионального администрирования продолжали этот странный менуэт: отчуждающие жесты по адресу той или иной веры аккомпанировали ее регламентации и, следовательно, определенному «одомашниванию».
Оглядываясь на петровскую церковную политику как прообраз управления конфессиями в позднейшие периоды, нельзя пройти мимо еще одной антиномии реформы благочестия. Она связана с представлением о внутренней, подлинной вере как противоположности «ханжества». Вообще, акцент на брутальности обращения Петра с православной церковью, на его регламентаторстве чреват тем, что историк легко сводит востребованную преобразователем православную религиозность к клише казенной веры, заученного соблюдения обрядов в знак лояльности кесарю[96]96
От этой тенденции несвободна новейшая статья В.М. Живова, в которой вмешательство светской власти в сферу индивидуального религиозного опыта при Петре I и его преемниках описывается как неудавшаяся «дисциплинарная революция» (в развитие концепции Ф. Горски, исследовавшего роль кальвинистского религиозного дисциплинирования в формировании государства эпохи раннего Нового времени [Gorski Ph. The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe. Chicago, 2003]): «…власть берет религиозное дисциплинирование в свои руки. Это немедленно превращает данный процесс в один из феноменов чистого принуждения… Нельзя сказать, что момент государственного принуждения полностью отсутствовал в религиозном дисциплинировании, например, в католической Германии времен Контрреформации. …С самого начала, однако, это принудительное дисциплинирование сочеталось там с духовной реформой, выдвигавшей на первый план индивидуальную религиозную чувствительность, которая и легла в основу нового католического благочестия. Петр ни к какому обновленному благочестию не стремился» (Живов В. Дисциплинарная революция и борьба с суеверием в России XVIII века: «Провалы» и их последствия // Антропология революции: Сб. ст. / Ред. И. Прохорова и др. М., 2009. С. 327–360, цитата – с. 351–352). Можно согласиться с выводом автора о том, что государственное религиозное дисциплинирование в XVIII веке не было успешным как проект трансформации массовой православной религиозности, но применение с конца XVIII века сходной модели конфессиональной политики к другим вероисповеданиям едва ли дает основание говорить о полном «провале». Да и в отношении православия XIX век принес более гибкие приемы государственного дисциплинирования, основанные на взаимодействии с хотя бы ограниченной инициативой клира и «низовым» благочестием мирян. См., напр.: Shevzov V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution.
[Закрыть], а те же нападки на «ханжество» причисляет к словесной эквилибристике. Между тем актуализированная петровскими мерами оппозиция духовности и ритуала или, может быть, точнее, благочестия и его проявлений также поддавалась манипулированию, причем не только направленному сверху вниз. А жгучий политический контекст, в котором это происходило, сделал впоследствии вопрос о характере религиозности важным для режима имперской веротерпимости.
В оригинальной работе о «священной пародии» при петровском дворе Э. Зицер реконструирует харизматический культ, который строился, с одной стороны, на привычной идеологеме царского помазанничества, а с другой – на бытовавшем в узком кругу избранных признании прямой, не опосредованной церковью причастности Петра к дарам Святого Духа. Преданность ближайших сподвижников монарху должна была переживаться как духовный восторг той же природы, что доводилось испытывать ученикам Христа. Соответственно тому, политическая нелояльность приравнивалась к отсутствию веры, к безнадежной аспиритуальности. С наибольшим драматизмом это тождество было сформулировано Петром в знаменитом «объявлении» царевичу Алексею 1715 года: «…за благо изобрел сей последний тестамент тебе написать и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься». Зицер показывает, что выражение «нелицемерно обратишься» было больше чем метафорой. В соединении с цитатой из евангельской притчи о ленивом рабе, зарывшем данные ему таланты в землю в надежде, что этим он исполнит волю господина лучше, чем пустившись в рискованные предприятия (Мф 25:14–30), и высказываниями наподобие «не трудов [твоих], но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может», призыв к обращению звучал отголоском спора апостола Павла с учением об оправдании делами. Если апостол противопоставлял плотскому обрезанию «обрезание сердца духом, не писанием», т. е. Ветхим Заветом (Рим 2:28–29), то русский царь ставил в вину своему сыну покорность, читай лицемерие, при отсутствии «охоты», т. е. внутренней, истинной и истовой веры в божественное призвание отца-помазанника[97]97
Зицер Э. Царство Преображения: Священная пародия и царская харизма при дворе Петра Великого. М., 2008. С. 147–151.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?