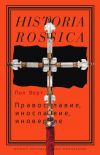Текст книги "Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II"

Автор книги: Михаил Долбилов
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
В целом «оттепель» для католиков во второй половине 1850-х годов выражалась не столько в официальной отмене жестких запретов и ограничений, сколько в том, что власти, не связывая себя обязательствами, соглашались смотреть сквозь пальцы на недостаточно строгое исполнение этих запретов и ограничений. Запоминающимся знаком этой «оттепели» стала возросшая публичность отправления католического культа. К примеру, архиепископ Киги, не сумевший убедить Александра II в справедливости папских претензий к царскому правительству, на обратном пути из России мог утешиться при виде тысяч верующих, которые встречали его при въезде в Ковно и сопровождали на службу в костел[307]307
Boudou A. Stolica Święta a Rosja. T. 2. S. 87.
[Закрыть]. Захолустный, казалось бы, город принадлежал к Тельшевской католической епархии, где большинство паствы составляли литовские крестьяне. Выплеснувшийся на улицы города массовый энтузиазм стал возможен столько же вследствие оживления католической религиозности под влиянием местного клира, сколько благодаря снисходительности губернской администрации, которая не пожелала по-николаевски пресечь спонтанное изъявление «толпой» своих чувств, да еще адресованных не просто латинскому епископу, а послу папы римского.
Другим случаем неожиданной популяризации католицизма в российском культурном ландшафте стала серия проповедей, прочитанных в конце 1858 – начале 1859 года в кафедральной церкви Св. Екатерины в Петербурге доминиканским аббатом из Франции Домиником Сояром[308]308
В России его фамилию Souaillard произносили и как Сульяр, Сольяр.
[Закрыть]. Сояр приехал в Россию с полномочием от генерала Ордена доминиканцев Жанделя провести визитацию монастырей ордена (в чем незадолго до того было отказано самому Жанделю)[309]309
Донесения шефу жандармов кн. В.А. Долгорукову на французском языке о проповедях Сояра и его контактах в Петербурге см.: ГАРФ. Ф. 109. Секр. архив. Оп. 3. Д. 1535. Агенты отмечали присущий Сояру дар слова, отменные светские манеры, «ловкость» и «вкрадчивость» (Там же. Л. 3–3 об.), но, кажется, не очень интересовались его попытками исполнить поручение генерала доминиканцев.
[Закрыть]; однако получение на то разрешения от российских властей требовало таких хлопот, что французский гость отказался от визитации и увлеченно занялся проповедованием, благо ДДДИИ тому не препятствовал – при условии предварительной цензуры текста проповедей. По разным свидетельствам, Сояр раз за разом собирал полный храм слушателей, как католиков, так и православных, причем не только знать, но и простолюдинов, которые заведомо не могли понять французскую речь[310]310
Boudou A. Stolica Święta a Rosja. T. 2. S. 97–100.
[Закрыть]. В высшем свете Сояр, похоже, так же быстро вошел в моду, как это случалось тогда с заезжими медиумами и устроителями спиритических сеансов. Ораторское искусство, живость изложения, артистизм самой личности проповедника казались многим чем-то необычным, резко отличающимся от православного обихода. Конечно, не все разделяли этот восторг, и, как мы увидим ниже, в несочувственно настроенных посетителях модуляции голоса и жесты Сояра (меньше обращало на себя внимание содержание проповедей) только укрепили стереотипное представление о профанации католической веры. Журнал «Духовная беседа» откликнулся на успех Сояра корреспонденцией Д.А. Толстого, уже заявившего тогда о себе как эксперте по истории католицизма в России[311]311
Статья, вероятно, по редакторскому недосмотру вышла без подписи: О французском проповеднике Сойаре // Духовная беседа. 1859. Т. 5. № 2. С. 57–60. В последовавшей полемике с Д.П. Хрущовым Толстой не скрывал своего имени. См.: Толстой Д. По поводу статьи г. Д. Хрущова в «Петербургских ведомостях»// Духовная беседа. 1859. № 9.
[Закрыть]. Сояр виделся ему не меньше чем знамением недобрых времен, предвестием новой угрозы православной вере с Запада. Эти трафаретные гиперболы соседствовали в статье с проницательными суждениями. Одну из причин притягательности французских проповедей Толстой находил в том, что «славянские тексты, встречающиеся в наших проповедях, для иных из русских… почти вовсе непонятны»; признавал он и слабость подготовки многих православных священников к деятельности проповедника. Критику хватило кругозора, чтобы разглядеть в обаянии и рвении молодого проповедника отпечаток тех социальных и культурных перемен, которые произошли в европейском католическом мире за пару последних десятилетий: «Поучения Г. Сойара, доставляя духовное утешение римско-католической пастве, вместе с тем могут оживить и вообще Латинский католицизм в России тем новым элементом современности, который придали этой религии новейшие даровитые проповедники Франции»[312]312
[Толстой Д.А.] О французском проповеднике Сойаре. С. 59, 58.
[Закрыть].
Обнародование конкордата, посольство Киги и проповеди Сояра произвели впечатление на современников тем, что эффектно выбивались из привычной ситуации «поднадзорности» католичества, из традиции сухой, чисто бюрократической терпимости к этой конфессии. Однако эти события не означали крутого поворота в политике властей по отношению к католической церкви, что было вполне ясно и католикам, пусть даже находившим повод для осторожного оптимизма (тот же Сояр, судя по его письмам Жанделю[313]313
Boudou A. Stolica Święta a Rosja. T. 2. S. 98.
[Закрыть], меньше радовался разрешению на чтение проповедей, чем негодовал на громоздкие процедуры, через которые надо было пройти, чтобы его получить). Та часть православной имперской элиты – церковной или околоцерковной, – от которой прямо или косвенно зависело принятие решений по делам католической церкви и духовенства, оставалась включенной в дискурс неизбывной чуждости «латинства»; нужен был лишь малый раздражитель, чтобы задействовать этот потенциал.
Свидетельством стойкости таких предубеждений была сохранявшаяся непримиримость к русским католикам-эмигрантам. Наиболее деятельным и известным из них был иезуит князь И.С. Гагарин, сын члена Государственного совета С.И. Гагарина, который обратился в католичество в 1842 году и спустя десять лет, еще при Николае, был заочно судим в России уголовным судом за отпадение от православия и самовольное пребывание за границей. Приверженный идеалу воссоединения Восточной и Западной христианских церквей и находивший некоторую поддержку своим инициативам в ордене, Гагарин с радостью воспринял воцарение Александра II и издал в 1856 году главное сочинение своей жизни – трактат «Будет ли Россия католической» («La Russie sera-t-elle catholique»). Русская национальная идентичность никогда не теряла значимости для Гагарина, и план слияния русского православия с католичеством он мыслил как отвечающий коренным интересам и своего отечества, и вселенской церкви[314]314
Наиболее полная биография Гагарина, с акцентом на его экуменизм и с привлечением новых архивных материалов: Beshoner J.B. Ivan Sergeevich Gagarin. The Search for Orthodox and Catholic Union. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2002. А. Валицкий рассматривает те же сюжеты с позиции интеллектуальной истории: Walicki A. Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa, 2002. S. 285–360.
[Закрыть]. Способ исполнения проекта он видел в соглашении «трех воль»: российского императора, папы римского и православного духовенства в России, представленного Синодом или епископатом (в этом было что-то от «иерархического» чина «воссоединения» униатов 1839 года, и недаром Гагарин, желая доказать отсутствие сколько-нибудь серьезных догматических расхождений между католичеством и православием, ссылался на то, что в 1839 году Синод принял униатов в православие, не требуя их официального отречения от прежних догматов, которые по условиям Брестской унии были именно католическими[315]315
Подробнее см.: Walicki A. Rosja, katolicyzm i sprawa polska. S. 321–322.
[Закрыть]). В России трактат, само собой, подвергся цензурному запрету, прочитали его целиком немногие, и большинство этих читателей, включая самого горячего оппонента Гагарина – славянофила А.С. Хомякова, сошлись во мнении, что имеют дело с очередным витком иезуитской интриги и клеветы на православие. В декабре 1856 года Гагарин обратился к Александру II с прошением о дозволении ему навестить в Москве восьмидесятилетнего отца, с нетерпением ожидавшего свидания с сыном. Вопрос решался по линии III Отделения, новый глава которого князь В.А. Долгоруков неожиданно быстро согласился удовлетворить прошение. Однако последнее слово было в данном случае не за этим компетентным ведомством. Новость об оказанной Гагарину милости возмутила столпов православной общественности, в том числе митрополита Филарета и А.Н. Муравьева, ропот недовольства поднялся в московских домах, близких Гагариным, так что отец эмигранта был вынужден отозвать свое приглашение, против чего ни III Отделение, ни император, конечно, не возражали. Как отмечает Дж. Бешонер, подозрения, что Гагарин под предлогом верности сыновнему долгу намеревался заняться католическим миссионерством, имели под собой почву[316]316
Beshoner J.B. Ivan Sergeevich Gagarin. P. 121–126, 263 note 77.
[Закрыть]. Правда, обращение соотечественников посредством теологических диспутов в интеллектуальных салонах, о котором он мечтал, мало походило на засевшие в воображении его русских недругов картинки иезуитского кознодейства – помпезных, искусительных для наивного простонародья богослужений и процессий. В лице Гагарина, как понимали это вдохновители запрета на его приезд, католицизм изолировался от контакта с «большой» Россией – контакта прямого, не опосредованного чужим языком или культурой.
Риторика самоуничижения «господствующей веры» на фоне проблем православия в Западном крае
Итак, несмотря на делавшиеся католикам ad hoc уступки, капитальным препятствием к дальнейшей либерализации оставалась фобия католического прозелитизма. Вне зависимости от того, была ли она субъективно испытываемой эмоцией, ссылки на эту угрозу еще как работали в процессе принятия решений. При этом конкретные, довольно осторожные, меры властей не оправдывали страха печальников православия перед наступлением католицизма (или лютеранства) на православную паству. Тут мы имеем дело с чем-то вроде самовнушения. Драматизация, которую послесевастопольский критический пыл и актуализованная дихотомия внешнего обряда и внутренней веры привнесли в дискуссии о судьбе православия, – эта драматизация начинала жить собственной жизнью.
Вообще, с середины 1850-х годов в среде и бюрократов, и публицистов заметно учащаются нелестные сравнения синодального православия с другими конфессиями и вероисповедными сообществами. Тон этого сопоставления зачастую далек от хладнокровного, который подобал бы нейтральному обзору чужих институций и порядков, достойных заимствования или подражания. В рекомендациях такого рода, конечно, недостатка не было, и вовсе не надуманных проблем православной церкви они касались, но пробивались сквозь них и отзвуки самоуничижения паче гордости, как если бы, указывая на очевидные, тривиально-осязаемые преимущества иных конфессий, православным старались раскрыть глаза на некие потаенные сокровища родной веры. Ниже я остановлюсь на нескольких сюжетах, имеющих прямое или косвенное отношение к конфессиональной политике в западных губерниях.
В начале 1860 года действительный статский советник Помпей Николаевич Батюшков, вице-директор ДДДИИ (т. е. второй человек в департаменте после Сиверса[317]317
В упомянутом выше письме митрополиту Филарету обер-прокурор Синода А.П. Толстой противопоставлял Батюшкова как защитника православия всем остальным чиновникам ДДДИИ, однако изменил это благоприятное мнение после подачи Батюшковым записки, о которой речь ниже.
[Закрыть]) и член от МВД в учрежденном в августе 1859 года при Синоде комитете (из духовных и светских лиц) по улучшению материального положения православного духовенства западных губерний, произвел смятение в высшем церковном кругу. Окольным путем, через самого Александра II (выйти же на царя ему удалось, видимо, благодаря знакомствам в окружении императрицы Марии Александровны[318]318
См. несколько более позднюю, 1862 года, записку Батюшкова «О польском элементе в западных наших губерниях», представленную императрице: РО РНБ. Ф. 52. Ед. хр. 47. Л. 1 (помета автора о подаче записки). В последующих предложениях, подававшихся им в комитет, Батюшков ссылался на собственную записку как на сочинение «неизвестного автора», намекая при этом на особый авторитет этого анонима. Эти приемы по меньшей мере не противоречат той резкой характеристике, которую дал Батюшкову С.Д. Шереметев: «Великий честолюбец, он промышлял официальным патриотизмом и принадлежал к группе тех узких людей, нетерпимых и повелительных, которые при отсутствии сердечности стяжали себе какое-то особое положение в служебной иерархии и в обществе, воплощая в себе все неприглядное и отталкивающее типа так называемых “простых русских людей”. Эти “простые русские люди” были… не без лукавства, и, действуя именем патриотической идеи, они способны были, как люди крайние и доктринеры, примешать к своей с виду почтенной деятельности черты совсем иного свойства» (Шереметев С.Д. Мемуары. С. 216). На этих страницах мы еще встретимся с Батюшковым в качестве попечителя Виленского учебного округа (1868–1869).
[Закрыть]), он подал в комитет, где заседал сам, анонимную записку о материальном обеспечении и моральном состоянии сельского приходского духовенства в Западном крае, преимущественно в северо-западных губерниях. Главной темой записки была адаптация экс-униатов, все еще находившихся под католическим влиянием, к синодальному православию после «воссоединения» 1839 года.
По своим связям и карьере Батюшков являлся человеком петербургского чиновного мира и в качестве такового вроде бы не должен был питать сочувствия к особенностям церковной организации и обихода у «воссоединенных». До подачи упомянутой записки – а авторство ее все же получило неформальную огласку – он находился в отличных отношениях с синодалами и слыл среди них последним рыцарем православия в подчинившем себя лютеранским и католическим интересам ведомстве иностранных исповеданий. За этой репутацией стояли и практические действия. Еще до назначения в ДДДИИ Батюшков, возглавляя в МВД комитет по строительству православных храмов в западных губерниях, выработал приемлемый как для казны, так и для местных помещиков (большинство которых, будучи католиками, не горели желанием тратить деньги на православные храмы в своих имениях) план финансирования соответствующих мероприятий[319]319
Freeze G. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. Р. 201–205, 226–227.
[Закрыть]. Хотя и не так быстро, как хотелось светским и духовным чиновникам в столице, число каменных церквей в Могилевской, Витебской, Минской губерниях стало возрастать.
В 1857 году Батюшков заявил о себе докладом, в котором доказывал недопустимость переноса резиденции католического епископа Тираспольского в Саратов, центр губернии с двадцатитысячным католическим населением. Под его доводами вполне мог бы подписаться отправленный в отставку Скрипицын. Переезд главы недавно образованной (по условиям конкордата 1847 года) епархии Фердинанда Кана из заштатного Тирасполя, где строительство собора и здания для семинарии было приостановлено по обстоятельствам военного времени, изображается в докладе звеном в цепи иезуитских происков. Батюшков указывал на опасное и вредное для православия сближение со стороны латинян, навязчивое и крайне льстивое их обращение с людьми, соединенное с хитрым искусством вкрадываться в расположение тех, с кем они обращаются, а со стороны православных – русское простодушие и гостеприимство, которые нисколько не предохраняются опасением того вреда, какой может произойти из тесного сближения с людьми иноверного исповедания[320]320
Цит. по: Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России. С. 112.
[Закрыть].
Тревога усугублялась тем, что при преобладании среди мирян немецких колонистов (из галицийских немцев происходил, кстати, и сам епископ Кан[321]321
См. его краткую биографию: Там же. С. 341.
[Закрыть]) большинство клира в поволжских католических приходах составляли поляки, и перемещение в Саратов епископальной кафедры усиливало этот этнический дисбаланс.
По получении этого доклада министр внутренних дел С.С. Ланской распорядился о подыскании иного места для резиденции епископа Тираспольского, но исполнение затянулось, а потом и вовсе заглохло. Вероятно, неудачный исход саратовской инициативы укрепил Батюшкова в худших подозрениях: у католиков сильная рука в Петербурге! Спустя полтора года, в 1859-м, он обратил свою бдительность конфессионального администратора на самые многолюдные в империи католические епархии – Виленскую и Тельшевскую. В короткой, но рассчитанной на сильное воздействие записке «О латинской пропаганде на западе России» он рисовал картину бурного и, разумеется, злокачественного для православных расцвета католицизма в западных губерниях после конкордата 1847 года. Свидетельством тому выставлялось и будто бы неподконтрольное властям проведение пышных религиозных празднеств, и действительное, хотя и не столь впечатляющее, как утверждалось в записке, увеличение после 1847 года числа католических храмов. Одним из первых среди столичных бюрократов Батюшков ополчился против ширившегося тогда среди крестьян-католиков Ковенской и Виленской губерний, под руководством приходских священников и с благословения епископов, движения братств трезвости. В отличие от местных чиновников, поначалу довольно благожелательно отнесшихся к коллективным обетам целых селений не употреблять водки, Батюшков упирал на то, что это движение перекинулось «на Жмудь» и соседние местности из Царства Польского, а туда – из Познанского княжества и Галиции; что его истинными вдохновителями являются иезуиты и что создаваемые в приходах общества, или братства, трезвости служат католическому духовенству новым орудием «нравственного» господства над народом «под личиною ригоризма и духовной чистоты». (Он мог бы столь же многозначительно добавить, что обеты трезвости посвящались провозглашенному в 1853 году папой Пием IX догмату Непорочного Зачатия Девы Марии.) Хотя в записке ксендзам инкриминировалось применение насилия и устрашения для принуждения крестьян к обету трезвости («стращают народ церковными покаяниями, не крестят младенцев семейств, не принадлежащих Обществу… другие водят непослушных по базару на веревке, с ярлыками на плечах и барабанным боем, как преступников, пока они не примут присяги…»), решающая роль морального авторитета духовенства в организации движения не оспаривалась. За всей этой деятельностью Батюшков прозревал направляемый из одного центра политический замысел, план польского выступления против России: «…если ныне поднято… чисто религиозное знамя, то это потому единственно, что это знамя менее опасно другого, для которого пора, по их (организаторов. – М.Д.) расчету, еще не наступила. Принимая благодушие правительства за индифферентизм и за недостаток энергии, они надеются воспользоваться им для прочного развития и укоренения латинства на западе России»[322]322
РО РНБ. Ф. 52. Ед. хр. 29. Л. 1–8 об.
[Закрыть]. Напрашивавшийся вывод был, в общем-то, простым: какими бы подонками ни были ксендзы, православным есть чему у них поучиться по части умения влиять на народ.
И вот как раз в анонимной записке от февраля 1860 года Батюшков раскрывал свое видение причин моральной деградации местного православного духовенства и распада его связей с паствой. Собственно говоря, вице-директор ведомства иностранных исповеданий полагал, что православный клир в западных губерниях близок к утрате паствы как таковой: «Не прошло 20 лет от воссоединения униатов, как уже явились в них мысли обращения в латинство. Отчего это? Оттого, что воссоединенное духовенство утратило свое нравственное вековое влияние на паству. А это оттого, что с переходом в православие оно было оставлено на произвол случая»[323]323
Там же. Ф. 573. Ед. хр. AI/60. Л. 42 об.
[Закрыть]. Корень всех бед таился в самой структуре православного духовенства и традиции замещения приходских вакансий. Духовное сословие, согласно записке, после 1839 года быстро переполнилось балластом – тьмой-тьмущей ненужных дьяконов и церковнослужителей, что в сочетании с законом от 20 июля 1842 года о содержании православных причтов в западных губерниях за счет натуральных повинностей крестьян, включая барщину на церковных землях[324]324
О разработке и принятии Положения 1842 года см.: Римский С.В. Российская церковь в эпоху Великих реформ (Церковные реформы в России 1860–1870-х годов). М., 1999. С. 179–183.
[Закрыть], ложилось на прихожан особенно тяжелым бременем («Теперь везде дьячки, пономари, просфирни, много диаконов. Образовалось огромное сословие, которое поселяне должны содержать»). Более того, предельное сужение возможности законного выхода из духовного сословия, превращающее его в «отдельную касту», приводило к появлению необразованных священно– и церковнослужителей, которые занимали свои места по «родовому праву», де-факто получая их в наследство, и не чувствовали никакого призвания к служению церкви. Отсюда же – и безостановочное дробление приходов, так что уже возникло немало приходов менее чем со ста душами населения («чтобы разместить учеников семинарий, полуграмотных причетников и просвирен-вдов»)[325]325
РО РНБ. Ф. 573. Ед. хр. AI/60. Л. 42а–43, 46 об.
[Закрыть].
Спустя несколько лет многое из того, о чем писал Батюшков, имея в виду прежде всего бывшее униатское духовенство, станет чуть ли не трюизмом в рассуждениях и светских, и церковных деятелей о российском православном духовенстве в целом; щегольским словечком «каста» будут пестреть служебные записки, неофициальные проекты, переписка. С этой точки зрения интереснее то, чтó именно Батюшков предлагал сделать для выхода из кризиса и как он это аргументировал. По замечанию Г. Фриза, выдвинутый этим преуспевающим чиновником МВД – пусть и под прикрытием анонимности – проект переустройства духовного сословия был радикальнее, чем мысли по той же проблеме в прогремевшем на всю Россию «Описании сельского духовенства» священника Беллюстина[326]326
Freeze G. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. P. 228.
[Закрыть]. Упрощая, можно сказать, что речь шла о придании сословию некоторых характеристик открытой на входе и выходе профессиональной группы. В числе главных мер Батюшков настоятельно советовал сократить численность духовного сословия, полностью исключив из него церковнослужителей (например, причетники должны были бы набираться из мирян в порядке найма) и оставив дьяконов только «при городских церквах» «для торжественности служения»; при замещении иерейских и дьяконских вакансий детьми священнослужителей оценивать кандидатов прежде всего по их церковной образованности и проявленному чувству призвания к «пастырскому поприщу»; облегчить священнослужительским детям, такого призвания не выказывающим, доступ к гражданскому образованию, а в духовных семинариях «уничтожить замкнутость воспитания» (разрешив, в частности, семинаристам проживать вне учебного заведения); отменить условие вступления в брак для рукоположения в священники[327]327
РО РНБ. Ф. 573. Ед. хр. AI/60. Л. 50–54 об. Один из аргументов в пользу такого преобразования непосредственно касался вопроса о размытом этнокультурном самосознании «русских» крестьян в Западном крае. Обновленному духовенству предстояло не только открыть множество приходских школ, но и мобилизовать их на борьбу против наступления «полонизма» – ведь это так важно в «настоящее время, когда польская литература провозглашает во весь голос свою национальность, стараясь уверить, что западные области наши до Смоленска и Пскова составляют исконную Польшу; когда в помещичьих имениях учреждаются сельские школы, где по примеру, данному австрийским правительством в Галиции, вводятся учебники на местном крестьянском русском наречии, печатанные польским шрифтом, и когда латинское духовенство и помещичьи прикащики внушают крестьянам мысль, что они поляки, а не русские…» (Там же. Л. 54). В начале 1860 года Батюшков весьма четко формулировал задачу, актуальность которой более влиятельные бюрократы националистической закваски признáют только в преддверии Январского восстания. Например, виленский генерал-губернатор В.И. Назимов переключился в этот националистический дискурс где-то в середине 1862 года (см.: Западные окраины Российской империи. С. 164–166).
[Закрыть]. Последний пункт особенно занимал потенциального реформатора: он подчеркивал, что лишь по обычаю соблюдаемый в синодальной церкви запрет на рукоположение безбрачных не находит себе канонического оправдания и что его снятие, во-первых, восстановит «у нас вполне Апостольские правила и соборные постановления, соблюдаемые доныне на Востоке», и, во-вторых, позволит пополнить ряды миссионеров теми молодыми клириками, кто сможет всецело, не размениваясь на семейные хлопоты, посвятить себя подвижнической проповеди православия. А это так необходимо для отпора «иноверным пропагандам»[328]328
РО РНБ. Ф. 573. Ед. хр. AI/60. Л. 47–47 об., 50.
[Закрыть].
Если «Апостольские правила» и канонические устои в современных вселенских патриархиях представляли собой некий высокий, отвлеченный идеал, то не что иное, как практика управления и пастырских обязанностей, сложившаяся в униатской церкви на западе империи и не уцелевшая после «воссоединения» 1839 года, приводилась в записке Батюшкова в качестве ближайшего прецедента для желательной реформы в «господствующем» вероисповедании. Пожалуй, именно эти позитивные отзывы об униатстве – самый смелый и, как ни странно, наименее привлекший внимание исследователей[329]329
См.: Freeze G. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. P. 228; Римский С.В. Российская церковь в эпоху Великих реформ. С. 217–220.
[Закрыть] ход в аргументации автора: официальная трактовка «воссоединения» как возвращения заблудших братьев по крови и вере в родную семью и на стезю истины признавала в униатском вероисповедании положительным лишь то, что совпадало (или казалось совпадающим) с догматикой и чином синодального православия. Батюшков же намеренно противопоставлял униатский опыт вытеснившим его синодальным порядкам. Так, говоря о непомерном разбухании духовного сословия, он ставил в пример униатскую экономность и рациональную организацию богослужения: «…униатское духовенство состояло из священника и наемного дьячка, а Базилианский орден нанимал органиста». Куда лучше, чем православным, давалось униатским священникам общение с другими сословиями: «униатское духовенство, как и прежнее латинское, было большею частью из дворян, имеющих, хотя небольшие, поместья», и сыновья священников, поступая в гимназии или частные пансионы, не ощущали себя париями в компании ровесников-дворян. Теперь, увы, не так: «По воссоединении духовенство подчинено общим правилам русской церковной организации. Сыновьям священников стеснен доступ в гражданские учебные заведения». Со ссылкой на ту же модель – социально открытое духовенство и автономная в решении своих внутренних дел церковь – предлагалось учредить «приходские советы из почет[ных] прихожан, по выбору всего прихода». Советы должны были регулировать взаимоотношения между духовенством и паствой, раскладывать и собирать специальные церковные налоги и подати, выплачивать духовенству жалованье из доходов с земли, заниматься благоустройством храмов и проч. Батюшков без экивоков подытоживал, что спроектированные им меры «будут представлять подобие прежней организации униатского духовенства до воссоединения с православием» (правда, приходских советов, столь напоминавших протестантские, у униатов все-таки не было) и «дадут священникам возможность более времени посвящать пастве…»[330]330
РО РНБ. Ф. 573. Ед. хр. AI/60. Л. 42а, 43, 55–55 об.
[Закрыть].
В записке Батюшкова эклектически смешивались донационалистическое представление об унии как церкви, лояльной престолу и сохраняющей историческую позицию между католицизмом и православием, и представление вполне националистическое – о неизбывном русско-польском соперничестве в восточных землях бывшей Речи Посполитой, при котором не оставалось места полутонам и оттенкам самоидентификации. Первое делало акцент на скромное, но почтенное своеобразие униатства, второе же принимало за аксиому униженность и нищету униатской церкви под гнетом польской шляхты и «латинства» (о чем Батюшков – в данном случае – избегает упоминать). Думается, ссылка на униатство выполняла функцию иносказания: в записке, предназначенной для синодалов, высокопоставленный чиновник не решался прямо утверждать, что исходным образцом социальных и институциональных достоинств, пока не обретенных православной церковью, является церковь римско-католическая.
Оппоненты Батюшкова уловили и вывели наружу этот мотив. Резче всех выступил в марте 1860 года митрополит Литовский Иосиф Семашко, кому в числе других глав православных епархий Западного края синодальный комитет, огорошенный откровениями «неизвестного автора», послал записку на отзыв. Коллизия мнений Батюшкова и митрополита весьма любопытна. Годом раньше, в феврале 1859 года, Иосиф представил Александру II собственную записку (см. подробнее гл. 4 наст. изд.), где предпринимал отчаянную попытку убедить адресата в реальности угрозы полонизации и окатоличивания массы «русского народа» на территории своей епархии; по этому поводу, как мы еще увидим, у него не раз возникали трения с виленским генерал-губернатором В.И. Назимовым, который во второй половине 1850-х годов разделял модную среди столичной бюрократии установку на невмешательство светской власти в «чисто духовные» дела. Как бы то ни было, общность воззрений на опасность «разрусения» местного крестьянства не смягчила безотрадного впечатления Иосифа от проекта Батюшкова. Высмеяв высокую оценку пастырских качеств униатского духовенства до 1839 года[331]331
«[Униатское приходское духовенство] состояло в решительной зависимости от Латинян и безмолвствовало при совращении Униатского народа в Латинство. Ныне даже случающиеся совращения есть плод того восхваляемого сочинителем времени» (РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 284. Л. 137 об. – копия записки от марта 1860 года, представленная при отношении митрополита Иосифа митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору от 9 августа 1864 г.; с несущественными разночтениями и без указания, кто был автором критикуемого Семашко проекта, текст записки от марта 1860 года опубл. в: [Иосиф Семашко]. Записки Иосифа, митрополита Литовского. СПб., 1883. Т. II. С. 691–696, цитата – с. 695–696).
[Закрыть] – когда сам он, как-никак, был одним из униатских епископов, – главный организатор «воссоединения» очевидным образом принял на свой личный счет нарекания местному экс-униатскому клиру за апатию, злоупотребления законом 1842 года о натуральных повинностях и отчуждение от себя паствы. По Иосифу, автор записки валил с больной головы на здоровую: именно «воссоединенное» духовенство составляло единственную силу, которая в последние двадцать лет осознанно сопротивлялась польско-католическому натиску; с 1845 года в Литовской епархии в православие обратилось около 4 тысяч католиков, тогда как совратилось в католицизм не более 300 православных (разумеется, эта подрумяненная статистика скрывала тайно исповедующих католицизм). Осуществление же идей насчет упразднения сословной категории церковнослужителей и укрупнения приходов будет только на руку польским панам – истинным виновникам бедности крестьян, сказывающейся и на положении православных причтов. Немногие другие из предложенных мер, например касательно «безженства» священников, Иосиф находил частично приемлемыми, но или далеко не первоочередными, или неприменимыми как раз к западным губерниям[332]332
РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 284. Л. 135–136 об., 137.
[Закрыть].
Острие полемики митрополит обратил против явного интереса автора записки (чье имя вряд ли осталось для него тайной) к чужой вере. Ставя под сомнение приверженность автора православию, Иосиф приписывал ему доктринерское бездушие, изобличающее, по этой логике, «латинствующий» ум и характер: «…судя по содержанию и выражениям, записка сочинена или не знающим положения западных губерний, или преданным видам Римских Католиков. Упразднить вдруг несколько сот приходских церквей; лишить места десять тысяч диаконов, дьячков, пономарей и просфирен… есть поднять вопль и слезы во всем Православном населении западных губерний… заставить страдальцев обратить взоры и упование на торжествующих тамо иноверцев»[333]333
Там же. Л. 136 об. См. также: Freeze G. Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. P. 229.
[Закрыть]. Повод высказаться на эту тему еще экспрессивнее Батюшков дал Иосифу спустя четыре года, когда, уже после Январского восстания, он представил (и на сей раз не раскрывая имени официально) несколько переработанную версию своей записки[334]334
Показательно, что и после восстания Батюшков продолжал писать о моральной деградации экс-униатского духовенства: случаи смелого, даже ценой жизни, сопротивления местных православных священников повстанческим отрядам не меняли для него общей картины. В последующих главах это воззрение на экс-униатский клир, довольно распространенное среди чиновников, подвергается подробному анализу.
[Закрыть] высшим церковным иерархам, включая митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Исидора[335]335
Характеристику преосвященного Исидора (Никольского), которая отчасти объясняет, почему Батюшков мог надеяться на его содействие своему проекту, см.: Алексеева С.И. Святейший Синод. С. 47–48.
[Закрыть]. У Иосифа снова запросили мнения об однажды уже отвергнутых им предложениях, и в ответном отношении Исидору он напускался на злосчастного анонима: «Нынешние обстоятельства здешней страны как бы нарочно сложились, чтобы… обличить неосновательность суждений записки неизвестного автора… [Он] с каким-то наслаждением указывает на потребность подражать римско-католическому духовенству, а духовенство это осрамило себя ныне пред глазами всего мира самыми низкими страстями»[336]336
РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 284. Л. 133 (отношение митрополита Иосифа митрополиту Исидору от 9 августа 1864 г.).
[Закрыть].
Конечно, Иосиф перегибал палку (намеренно), предполагая в авторе тайного агента католиков, но фраза «с каким-то наслаждением» била не совсем мимо цели. По-своему она передавала присущий проектотворцам вроде Батюшкова критицизм относительно собственной церкви, тем более запальчивый, чем менее вероятным представлялось принятие их проектов к реализации.
Случай Батюшкова не был уникален для тогдашней высшей бюрократии. Риторика досады на родную веру за ее несостязательность, «неконкурентоспособность» с чужими разделялась в 1850-х годах и деятелем, который историкам более знаком в ипостаси апологета православия и гонителя католицизма, – М.Н. Муравьевым. Внимание Муравьева к проблемам православной церкви обострилось после смерти Николая I, когда в надежде на карьерный взлет он, бюрократ с немалым стажем и связями, но к тому моменту уже почти двадцать лет томившийся на средней руки посту управляющего Межевым корпусом, старался зарекомендовать себя специалистом в различных сферах государственного управления. (Тогда же, вспомним, его младший брат Андрей начал борьбу за влияние в высшем церковном кругу.) Активное, официальное и неформальное, участие Муравьева в 1830-х годах в подготовке «воссоединения» униатов придавало и позднее известный вес его соображениям о конфессиональной политике. Об условиях, в которых этот амбициозный чиновник начинал обсуждать изъяны православной церкви, позволяет судить еще не привлекавший внимания историков кавказский дневник Муравьева за май – июль 1856 года. В отпуск на Кавказ он отправился для лечения, но дневник целиком и полностью сосредоточен на служебных предметах, и, по всей вероятности, автор намеревался по возвращении оформить его в официальный отчет для подачи «наверх». Поездка действительно не была вполне частной уже потому, что старший брат высокопоставленного путешественника, Н.Н. Муравьев-Карский, занимал должность наместника в этом крае; объединенные враждой к бывшему наместнику кн. М.С. Воронцову и его стилю управления, братья стремились предотвратить грядущую замену Карского кн. А.И. Барятинским, протеже Воронцова[337]337
Характер записей приближен к официальному; это видно из того, что в одной из них Муравьев, упоминая о Карском, называет его не братом, а «нынешним наместником» (LVIA. F. 439. Ap. 1. B. 3. L. 57).
[Закрыть]. Разбору – весьма пристрастному – воронцовского наследия и был по преимуществу посвящен досуг Муравьева. В сущности, ведение путевого журнала стало для него чем-то вроде тренинга в неусыпной ревизорской наблюдательности и дотошной фиксации беспорядков и недостатков – начиная от применения адатов (горского обычного права) в наказаниях за уголовные преступления (традиционные штрафы за «воровство, грабеж и бродяжничество» он предложил заменить высылкой горцев целыми аулами в Сибирь, благо «слишком довольно есть свободных земель в Тобольской и Томской губерниях») и вплоть до отсутствия отхожих мест при минеральных купальнях (ведь «нарзан гонит мочу и слабит»)[338]338
LVIA. F. 439. Ap. 1. B. 3. L. 52 ap. – 53, 60, 77 ap. – 78, 79 ap.
[Закрыть].
К последствиям «апатии» (кодовое слово в дневнике) прежней тифлисской администрации причислялись и неудачи православного миссионерства. В Ессентуках Муравьев встретился с членами миссии, учрежденной для обращения из ислама осетин, и после беседы негативно оценил результаты их усилий. Тому были и меркантильные, и собственно религиозные причины, и в обоих случаях, по Муравьеву, православная церковь упускала из виду опыт иноверческого прозелитизма. Во-первых, «миссии не дается средств, чтобы склонять какими-либо житейскими выгодами народ к принятию христианства, как это делается миссионерами католиками в других землях». Во-вторых, по сию пору в переводе на осетинском языке имеется только одна Псалтырь. Литургии же нет в переводе, и служба в церквах производится на русском и грузинском языках, которые большею частью осетин не понимаются. Хотя евангелие и переведено (на осетинский. – М.Д.), но вот уже 3-й год, что пересматривают правильность перевода и не решаются оное напечатать, по общей апатии к делу и потому что некому как должно проверить правильность перевода[339]339
Ibid. L. 55 ap. – 56 (запись от 8 июля 1856 г.).
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?