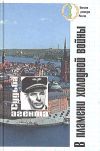Текст книги "Гуляния с Чеширским котом"

Автор книги: Михаил Любимов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)
«Джентльмен никогда не ударит женщину без повода»
Совсем недавно, согласно общественным опросам, любимым стихотворением англичан оказалось знаменитое «Если…» Редьярда Киплинга, хорошо известное в России:
О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, —
Земля – твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты – человек!
Это и есть моральный кодекс джентльмена (и строителя коммунизма – сходство!), своего рода декларация о намерениях, желаемое и отнюдь не всегда действительное.
Мне понравилось у писателя Юрия Давыдова о его дворняжке Раде, которая по запаху «не различала, хороший человек иль не ахти. Виной тому разнообразие дезодорантов. Смешалось все, сбивает Раду с толку, кто джентльмен, а кто шпана». Вообще, нам, крестьянам, не понять прелестей городской жизни, вот и Бродский тянет в унисон:
Но что трагедия, измена
для славянина,
то ерунда для джентльмена
и дворянина.
Правила «справедливой игры» – часть кодекса джентльмена – хотя и с огрехами, но соблюдались в свое время в узких кругах английской аристократии (как и в России); разве возможно было перенести пощечину и не вызвать обидчика на дуэль, не прослыв трусом? Не сдержать своего слова? Оскорбить даму?
Моральный кодекс существует в каждом обществе и в каждом обществе повсеместно нарушается – не будет ли натяжкой втягивать в английский национальный характер ДЖЕНТЛЬМЕНСТВО? Или это всего лишь аморфное производное из спортивности, возросшей на хлебах Итона и Кембриджа? Термин «джентльмен» всегда был размыт:
Уильям Шекспир: «Князь Тьмы – джентльмен».
Оскар Уайльд: «Английский джентльмен в сельской местности охотится на коне за лисицей: бессловесное в погоне за несъедобным». Или другое: «Джентльмен никогда не оскорбит ближнего непреднамеренно».
Маргарет Тэтчер: «Все мужчины слабы, а слабее всех джентльмены».
Актриса Барбара Стрейзанд: «Сегодня мужчина считается джентльменом, если перед поцелуем он вынимает сигарету изо рта».
Английский поэт Кристофер Лоуг рассказывает, что в полицейском участке, куда он был доставлен за участие в демонстрации против ядерного оружия, полицейские категорически требовали обращаться к ним не иначе как «сэр». Да я и сам в разговорах с «бобби» предпочитал называть их «сэрами» (так гаишника-капитана мудро кличешь полковником, и он прощает езду в нетрезвом виде). И официанты «сэры»…
Можно даже прийти к ужасному выводу, что в Англии к концу двадцатого века все стали джентльменами, и виноваты в этом не только исчезновение старых сословных барьеров и обвал империи, но и возникновение массовой телевизионной и эстрадной культуры. Джентльмен исчез, поглощенный чернью. Слезы льются из моих глаз.
Да здравствуют ретрограды!
Что такое консерваторы и консерватизм, в России знают немногие (особенно если консервативную партию России возглавляет человек с характерной фамилией Убожко). Слово изрядно замызгали в советские времена, связывая то со зловредным лордом Керзоном, угрожавшим стране Советов, то с не менее мерзким Чемберленом, отдавшим Чехословакию на растерзание Гитлеру, то просто с дуботолками.
КОНСЕРВАТИЗМ в одном из своих аспектов – это нежелание принимать нововведения и вполне твердая приверженность традициям. Консерватизма англичанам не занимать: тут и левостороннее движение, и своеобразная система мер и весов, и яростная защита фунта против введенного евро. Вся история противоречивого и безрадостного вползания Великобритании в Европейское сообщество, с бесконечными конфликтами то вокруг рыболовства, то вокруг говядины, с постоянной ностальгией по прошлому величию – не очевидный ли это пример консервативного настроя нации?
Английские традиции священны. До сих пор существует орден Подвязки, созданный Эдуардом III в XIV веке для двадцати четырех храбрейших рыцарей, когда они развлекались в кругу прекрасных дам. И повод был не менее прекрасен: с точеной ножки спала подвязка, король галантно поднял ее, торжественно взглянул на хохотавших рыцарей (они тут же примолкли), примерил подвязку и молвил: «Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает!» Сие мудрое изречение записано на знаке ордена рыцарей Подвязки, и никому не приходит в голову это менять. Остались орден Британской империи и Член Британской империи, и нет комплекса неполноценности, как у нас, когда с неистовством прозелитов вытравливают слово «советский» и меняют улицу Горького на Тверскую.
Английская консервативность и традиционность (об этом еще пойдет речь) имеют множество проявлений, и тут мне хочется вновь молвить с радостью, что русские в своем консерватизме очень похожи на англичан. «Демократические реформы» не только не одобрены, но и не поняты массой русских именно вследствие нашей консервативности, несмотря на сильнейшую пропаганду; населению не мешают мавзолей Ленина и памятники ему во всей России, даже улицу Нахимсона в Ярославле, большевика, жестоко подавившего там восстание и убитого инсургентами, и то переименовали с большим скрипом.
Вшивые интеллигенты
Кое-кто считает, что прагматизм и эмпиризм сделали англичан «антиинтеллектуальными» и это страшная особенность их национального характера. Действительно, бурное развитие научно-технической революции, компьютеризация, рост материального уровня в странах западной цивилизации, как ни странно, отодвинули интеллектуалов на задний план. Может быть, этому способствует обуржуазивание нации? – о Милль, Герцен и Маркс, где вы?! Или пошлый утилитаризм? Зачем читать Гёте или Фаулза, если очень хочется сожрать свиную ногу?
Еще Джордж Штейнер утверждал, что англичане просто не в состоянии понять, как важны идеи и идеология в остальной части Европы; Рихард Вагнер по этой же причине не терпел англичан и считал, что «англичанин – это овца с практическим инстинктом овцы вынюхивать пищу в поле». Французский историк Тэн во время визита в Англию заметил, что в колледжах больше совершенствуют тело, а не голову. В Англии писательством не прожить – разве лишь отдельным везунчикам! – приходится преподавать в университетах, сотрудничать в газетах и журналах, это вам не Союз советских писателей. Это касается и других представителей «свободных профессий».
Боюсь, что я вновь на пороге открытия нового великого закона: развитие цивилизации, прогресс научно-технической революции задвигает интеллигенцию (головастиков или яйцеголовых, а не программистов и прочих технарей) на задний план.
К этому выводу я пришел не сразу: начинал я с презрительного отношения к интеллектуалам и в своей диссертации всласть отхлестал английскую интеллигенцию за то, что она слишком бурно реагировала на преследования диссидентов в СССР и почему-то видела угрозу миру не только в НАТО, но и в миролюбивом Варшавском пакте. Буржуазная ограниченность и полное непонимание сути пролетарской демократии. Со злобной радостью я цитировал пассаж из сатирической книги Джорджа Микеша, который отвел душу на интеллектуале из университетского района Блумсбери:[56]56
Местечко знаменито тем, что там в двадцатые годы в доме Вирджинии Вулф, ныне известной больше по пьесе Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?», собиралась группа писателей и художников, включая философа Д. Е. Мура, повлиявшего на Б. Рассела, писателя Э. Форстера, критика и философа Литтона Стрэчи, поэта и драматурга К. Фрая и экономиста Д. Кейнса, ставшего впоследствии мировой величиной.
[Закрыть] «В политическом отношении такой интеллектуал должен принадлежать к крайнему левому крылу. При этом он не интересуется благосостоянием народа в Англии или за границей, ибо это попахивает „практической политикой“, а он должен увлекаться идеологией. Он не принадлежит ни к одной партии, ибо это уже „конформизм“. Он, не задумываясь, назовет Советскую Россию „реакционной и империалистической“, лейбористскую партию – „конгломератом состарившихся тред-юнионистских бонз“, французских социалистов – „путаниками“, другие западные социалистические партии – „размякшими буржуазными клубами“, американское рабочее движение – „придатком большого бизнеса“, причислит всех коммунистов, анархистов и нигилистов к „отсталым реакционным неофашистам“. Его позитивное кредо должно быть оригинальным, например: „только брахманизм может спасти мир!“»
Самое пикантное в том, что занюханный интеллигент из Блумсбери почти по всем пунктам оказался прав! Этот комический эксцентрик, с золотой цепочкой на руке, в алых вельветовых ботинках, небритый несколько дней и с котом на плече (естественно, не Чеширским), смотрел далеко и видел в одном кубическом ярде воздуха гораздо больше, чем чиновный сухарь в английском истеблишменте или советской номенклатуре. И вымахал в жреца: СССР оказался колоссом на глиняных ногах (только он обрушился не от немецких ударов – в таких случаях русские, наоборот, обретают чугунную крепость! – а от собственной свободы и глупости). Лейбористы избавились от гнета тред-юнионов, коммунисты с прочими «левыми» ушли на политические задворки, и значительно прибавилось «придатков большого бизнеса» в России и других новодемократических странах. И конечно, гонка вооружений и радости технического прогресса привели мир на грань экологической катастрофы, и никто толком не ведает, как и когда будут уничтожены неисчислимые запасы бактериологического, химического и ядерного оружия.
– Опять ты со своей экологией! – возмутился Кот. – Уж не член ли ты «Гринпис»? Но скажи честно: ты встречал хоть один раз в жизни истинного английского интеллигента, кроме меня?
Встречал, но немного.
На всю жизнь запомнился Дик Кроссман, отнюдь не эколог. В шестидесятые годы в Лондоне еще не бесчинствовали беспредельщики-террористы и бомбы не разносили целые дома в Сохо и Сити, это потом ни в чем не повинные пассажиры надолго застревали в метро из-за телефонного звонка о заложенной бомбе, это потом стали проверять на металл посетителей больших универмагов. Тогда в парламент запросто проходили на галерею для публики, и никто не просвечивал и не заставлял раскрывать сумки, и каждый избиратель и вообще любой добрый малый, жаждавший поговорить «за жизнь» с парламентарием, лишь заполнял зеленую карточку, которую важный служитель относил в зал заседаний.
Правда, я не был уверен, что Дик Кроссман откликнется на мой зов и покинет задние скамейки, где по традиции сидела оппозиция, – слишком знаменит, почти каждый день либо блестящая статья, либо остроумнейший спич в палате общин (даже оппоненты-консерваторы, отлынивающие от своих обязанностей за стойкой парламентского бара, в это время возвращались на свои места), почти каждый день на ТВ – куда больше?
За плечами преподавание в Оксфорде, политические и философские труды, в том числе о Платоне и Сократе, дружба с фабианцами (кто не помнит легендарных Сиднея и Беатрису Уэбб?). В трудное военное время – у руля службы психологической войны, проводившей пропаганду по разложению фашистской армии, интеллектуальная звезда лейбористской партии, мерцавшая над схваткой между «правым» лидером партии Хью Гейтскеллом и радикальной «Группой за победу социализма». Главный редактор самого интеллигентского журнала, «Нью-Стейтсмен», позволявшего себе изысканно крыть последними словами всех и вся, не поливать грязью на бульварный манер, а мягко поглаживать, ядовито улыбаясь а-ля Свифт – к концу процедуры оставались лишь голый зад и взрывы хохота.
Но вообще-то слишком умен и образован и для лейбористов, где нужно нравиться неотесанным профсоюзникам, и для консерваторов, почитающих узколобых крупных собственников, процветающих домохозяек, дряхлых колониальных полковников и прогнивших аристократов.
Хотя Отец Народов уже давно томился в небесных пространствах, инерция его презрения к социал-демократам продолжала жить. Разве они не предатели рабочего класса и Октябрьской революции? Разве не они привели к власти сбрендившего Адольфа, а после войны шипели как змеи в правительствах Восточной Европы, пока их всех не передушили? Именно так тогда нас учили относиться к лейбористам, хотя отмечали важность работы с ними.
Заполнять зеленую карточку я не рискнул, но как познакомиться? Пригласить на прием в посольство? Уже приглашал, но он не явился, возможно, с Советами у него свои непростые счеты. Вычитать в парламентском справочнике домашний адрес, дождаться прихода домой и вручить приглашение лично? Но когда он возвращается домой? Вдруг у него юная любовница (ох уж эта профессура!) или просто он бултыхает в баре лед в скотче? Можно провертеться у дома целую вечность, и не глупо ли выглядит, что второй секретарь посольства великой державы вручает таким странным образом приглашение? А может, пойти на острую комбинацию? Задеть на улице плечом, извиниться и заговорить? Или уронить ему под ноги атташе-кейс? Или рухнуть самому на землю, словно куль с мукой, неужели он не поможет встать?[57]57
Умную голову раскаленной иглой прожигала навязчивая идея: уронить под ноги зонт, который внезапно раскрывается, как парашют! Но я побоялся воплощать ее в жизнь, опасаясь перекошенного от испуга лица, глубокого обморока и паралича подопытного кролика.
[Закрыть] О, проклятая чопорность англичан!
Вот беда! Так что же делать? Об этом я напряженно думал в зале для посетителей «матери парламентов», и как раз в тот роковой момент, когда мыслительный процесс достиг апогея (возможно, создал сверхмощное поле притяжения, куда, как в паучью сеть, залетали жертвы!), появился блистательный Дик Кроссман. Высокий, хорошо сложенный, с седоватыми волосами, то ли расчерченными посередине прямым пробором, то ли сложившимися в ему одному известную конфигурацию. Вроде бы чуть наивные, кругловатые глаза, прикрытые очками в тонкой, почти невидимой металлической оправе, белозубая улыбка на выразительных губах, облик чуть отстраненный, чуть удивленный, в Пензе назвали бы «профессорским» и не ошиблись бы.
Кто-то из великих учил, что размышление притупляет волю и мешает действию, но, к счастью, в голове у меня сработал какой-то винтик (или болтик), и, трепеща, я подошел к великому человеку.
– Здравствуйте, мистер Кроссман! Помните, мы недавно беседовали на приеме во французском посольстве? Мне хотелось бы пригласить вас на ленч.
Обмирая от страха (фыркнет и пройдет мимо?), я протянул визитную карточку. Вдруг начнет допрашивать, когда именно мы имели счастье обмениваться суждениями? Правда, я хорошо знал, что большие люди постоянно болтаются в иностранных посольствах и вряд ли обладают такой колоссальной зрительной памятью, чтобы фиксировать все физиономии, которые к ним подкатываются как колобки.
Кроссман протянул мне руку и лучезарно улыбнулся:
– Конечно, помню! Мы славно тогда поговорили (вот что значит воспитанный человек, а я – наглый врун и шпион!). Знаете что? У меня нет с собой записной книжки, позвоните моему секретарю, и он выберет для нас с вами удобное время…
Он послал мне еще одну светлую улыбку и быстро прошел к ожидавшему его посетителю. Окрыленный удачей, я вылетел из Вестминстерского дворца, ощущая себя Гераклом, только что совершившим все двенадцать подвигов: шуточка ли, заарканить «звезду», будущего министра по социальным вопросам лейбористского «теневого кабинета», близкого друга лидера партии, Гарольда Вильсона! И вообще моему тщеславию льстила циркуляция в верхах, к тому же солидные политики меньше врали в приватных беседах, чем вечно перепуганные опоссумы из Форин Офиса, и иногда могли запросто выложить нечто секретное.
Набирая заветный номер секретаря, я нервничал, зная, как вежливо и красиво англичане умеют дать от ворот поворот, однако все обошлось, и вскоре мы счастливо соединились за вполне пристойным ленчем в моем любимом «Кафе Ройал», где пивали и едали все гении Англии и, наверное, все выдающиеся советские шпионы (о скромность, ты сестра таланта). Предварительно прочитал содержательную заметку о Платоне в энциклопедии «Британника». Между прочим, невежда, впервые в жизни услышавший о Платоне и прочитавший заметку, способен так огорошить профессора философии, что тот будет страдать от собственного невежества и перечитывать философа в оригинале – так уж устроен мир: образованные люди вечно сомневаются, а разные малограмотные отморозки лепят трюизмы и чувствуют себя на коне.
Видный политик идет на контакт с мелкой сошкой из посольства не ради омарового супа в хорошем ресторане (точнее, не только ради него), а чтобы получить крохи информации о политике правительства дипломата. Тут я тоже подготовился и с глубокомысленным видом изложил некоторые нестандартные тезисы, почерпнутые из материалов АПН, они, по моему разумению, могли свидетельствовать о моей близости к высочайшим кругам, тем паче что иногда я прямо бухал «как говорил Никита Сергеевич», намекая, что чуть ли не парился вместе с ним в бане.
Не знаю, как оценил мою персону бывший шеф службы психологической войны, но вскоре через секретаря он пригласил меня в клуб «Атенеум» – редкость для парламентария, эта братия не бросает свои представительские денежки на ветер, уж лучше провести вечер с пикантной дамой, а ресторанный счет списать на высокопоставленный контакт. Но не будем лить бальзам на душу: в то время советские граждане были экзотической изюминкой и вызывали такой же интерес, как инопланетяне.
Английские клубы подавляют солидные рестораны помпезным фасадом, но пасуют перед изысканной кухней, зато там бродит невидимый дух избранности (вступают туда по рекомендации), члены клуба, уминая скучные, как тоска вдовы, ростбифы, приветствуют друг друга из-за столов, изысканно помахивая пальчиками, перекидываются шутками, и все это создает атмосферу чарующего интима. У массивных облезших дверей «Атенеума» торчал импозантный швейцар, отворявший дверцы у подлетавших лимузинов с сильными мира сего. В библиотеке, обложенной со всех сторон полками с фолиантами в сафьяновых переплетах и подшивками старых газет, в честерфилдовских креслах небрежно возлежали сэры и пэры, задумчиво потягивая из рюмок порт и хрустя костями, в том числе и собственными. Там мы приобщились к скотчу, а затем проследовали в общий зал, где я съел до умопомрачения вываренную рыбу с еще больше вымученной вареной картошкой. Ответное приглашение в ресторан «Скотс», приют почитателей рыбы, жареная камбала (в СССР ее, одноглазую, глубоко презирали, а в Англии высоко ценили) под бутылку шабли – в те юные годы меня еще не развратили тонкие вина, но о шабли я уже был наслышан благодаря приверженности к нему Чехова Антона Павловича.
Рандеву стали ритуальными, не слишком плодотворными, но полезными и приятными для обеих высоких сторон. Однажды после очередного ленча Дик Кроссман неожиданно пригласил меня к себе домой (основная его резиденция была в городишке Бэнберри, в Лондоне находились апартаменты для работы). Обстановка в квартире укрепила меня в мысли, что талантливые люди в Англии и везде имеют сходные склонности создавать свой индивидуальный стиль, то бишь не набивать дом сверкающими белыми комодами, кроватями из красного дерева, пригодными для плац-парада, хрустальными горками, забитыми саксонскими и веджвудскими сервизами, и прочим китчем. Нет, талантливые медленно и любовно заполняют свою обитель тем, на что неприхотливо падал глаз в течение жизни: старый секретер, дагеротипы в рамках прошлого века, потертые, но весьма симпатичные подушки на кривоватом кожаном диване, ампирные канделябры, неожиданные кружева на китайском столике и, конечно, необъятные полки с книгами! Атмосфера не создавалась нарочито, словно по последнему журналу о домоустройстве, а тихо и незаметно – так прорастает трава на прославленных газонах.
И Кроссмана задел коммунизм. Он рассказывал мне, как в разгар сталинских репрессий тридцатых годов его возлюбленная – британская коммунистка – умоляла его уехать вместе с ней в коммунистический рай – Советскую Россию, и только здравый смысл удержал его от этого.
– Естественно, она исчезла навсегда, видимо, отправили в лагерь или расстреляли по подозрению в шпионаже… – заметил он грустно. – А ведь было время, когда я хотел вступить в компартию. Как писал Игнацио Силоне: «В конце концов в мире останутся лишь коммунисты и бывшие коммунисты». (Силоне зрел в корень: именно так и получилось в пореформенной России.)
Иногда я с ужасом ловил себя на том, что согласен с его социал-демократическими ересями. Но одно дело, когда критика СССР исходила из уст врагов марксизма и коммунизма, вроде зловредных тори, верных слуг капитала, другое дело – суждения человека, самого прошедшего через печальные круги иллюзий и разочарований и отвергшего бога, на которого молился.
Однажды он принес на встречу четыре маленькие книжки сказок Беатрисы Поттер – в Англии она как у нас Корней Чуковский.
– Это для вашего сына. Книги моего детства.
Отметим, что птицы высокого полета обычно так поглощены собою, что пропускают мимо ушей такие банальные известия, как наличие ребенка у случайного знакомого.
– Майкл, – сказал однажды Кроссман, – а почему бы вам не приехать ко мне поужинать на уик-энд, в субботу вечером? Доедете на поезде до Бэнберри, я встречу вас там, на станции.
Я с энтузиазмом принял его приглашение – такое случалось редко, не так уж были популярны в Англии советские дипломаты, к тому же, полагаю, у бывшего шефа службы психологической войны хватало возможностей узнать, кто скрывается под личиной дипломата. Ну и что? Велика ли разница?
Итак, вояж в загадочный Бэнберри, естественно с санкции резидента. В те времена передвижение советских граждан ограничивалось двадцатью пятью милями, в остальных случаях повелевалось подать в Форин Офис уведомление, именуемое нотификацией, с указанием маршрута, пункта назначения и мотивов поездки. При составлении меморандума у меня возникли сомнения: означает ли субботний ужин ночевку у хозяина? Уик-энд – понятие растяжимое, а англичане амбивалентны. Впрочем, последний поезд из Бэнберри уходил в 11 вечера, к этому времени можно наговориться всласть и преспокойно отбыть. Может, уточнить у Кроссмана по телефону? Звучать будет идиотски: вы меня приглашаете с ночевкой или без? Есть ли лишняя кроватка? Может, мне остановиться в отеле? Растя в себе истинного джентльмена, преисполненного чувства собственного достоинства, я воздержался от звонка и записал в нотификации: возвращение в субботу поездом.
Я всегда любил поезда. Блаженствовал даже в подмосковной электричке, не говоря о сладостных, но редких вояжах в дореволюционных вагонах с умывальниками, отделанными бронзой (в шестидесятые они еще сохранялись на рейсах за границу), наслаждался неторопливой сменой ландшафтов, ритмично успокоительным мельканием фонарных столбов, внезапностью распахнутых полян с патриархальными коровами и бесконечными просторами. Все это с известной скидкой зримо присутствовало на пути в Бэнберри, наводя на мысли, что напрасно англичане жалуются на высокую плотность населения.
Встретили меня всей семьей, как родного: жена оказалась намного моложе Кроссмана, оба были в джинсах и пуловерах, дети вели себя как взрослые, протягивали руки для рукопожатия и не капризничали. Трапеза стартовала часов в восемь, причем на кухне (!), и развивалась в самой непринужденной манере, кушанья отличались подкупающей простотой (салат, курица, картошка), и я с грустью думал, что скоро придется уходить. Но самым поразительным явилось мытье посуды: в этот процесс были втянуты все, включая меня и детей, и я подумал, что это, наверное, не только помощь хозяйке (если она потом не станет все перемывать), но и воспитание коллективизма. Все-таки не угасло социалистическое чувство у лейбористов!
– Извините, но мне пора, – молвил я и прощально утер салфеткой рот. – Последний поезд уходит в одиннадцать.
Кроссман не удивился, а просто окаменел, его изогнутая бровь дернулась несколько раз и застыла, как капля на трескучем морозе.
– Я указал в нотификации, что возвращаюсь сегодня… – пояснил я.
Тут раздался такой гомерический хохот, что стол затрясся и слезы выступили у Дика на глазах, даже носовой платок пошел в ход.
– В вашем представлении приглашение за город на уик-энд означает лишь ужин? – хохотал он. – За кого же вы держите англичан?
Я чувствовал себя так, словно в плавках попал на прием к королеве.
– Но вы говорили лишь об ужине… – слабо пищал я, краснея и бледнея от собственного идиотизма. – Я не могу остаться, это будет серьезным нарушением правил.
– Нет! Это preposterous (нелепо)! – Редкое, очень интеллигентное слово, я давно взял его на вооружение и достаю из колчана, когда хочется блеснуть эрудицией.
Кроссман полистал телефонную книгу, нашел нужный номер и позвонил. Я с напряжением наблюдал за развитием событий, представляя длительную бюрократическую волокиту, звонки по начальству, согласование, а поезд тем временем уйдет, и я невольно стану нарушителем…
– Форин Офис? Дежурный? (Residence clerk – боже, уж не резидентура ли там? Я еще тогда не сталкивался с надписями на улицах «Парковка машин разрешается только резидентам».) Это говорит Дик Кроссман. (Он не представился как член парламента, кто же его не знал!) У меня сейчас гостит в Бэнберри занятный советский дипломат (мягкий хохоток), очень милый человек (хохоток понежнее). Я пригласил его на уик-энд, но он почему-то решил, что должен уехать сейчас же, в субботу. И указал это в нотификации…
На другом конце провода, по всей видимости, прозвучал ответный понимающий смешок: мол, что взять с этих русских, хлебающих щи лаптем?
– Вот его фамилия. Спасибо.
Сложнейший вопрос был решен в одну минуту, мы мирно закончили трапезу и уже вдвоем с хозяином проследовали в его кабинет, расположились в креслах у камина и с полчасика побеседовали о текущих делах, прихлебывая портвейн из графина. Впереди маячила первая в жизни ночь в английском доме, причем без санкции резидента – не звонить же посередине ночи в Лондон? Ведь в те времена за импровизированные ночевки начальство давало такие втыки, что приходилось писать подробные объяснения: не сеял ли я дикий овес (одна из любимых английских идиом) в уютном домике с красным фонарем? На всякий случай я все же позвонил жене и деловито сообщил, что ночь она проведет в печальном одиночестве, намек был мгновенно понят, не было сомнений, что она сообщит коллегам: «Не давайте команду „в ружье!“ и не ищите супруга по всем бардакам Альбиона».
Моя спальня размещалась в холодной комнате, без всякого отопления (английская традиция, полезная для здоровья, а если дрожишь с головы до пят, натяни колпак и положи в ноги бутылку с горячей водой или грелку), на постели лежала хрустящая от крахмала пижама, стояла мертвая деревенская тишина, и я долго не мог уснуть. Нет, не привидения волновали меня – их я как-нибудь одолел бы! – вспоминались многие трюки КГБ в отношении иностранцев, поселенных в одиночные номера: внезапно входила дама в халате, вроде бы перепутавшая дверь: «Ах!» – вскрикивала она, халат падал на пол, оголив идеальную фигуру лейтенантши КГБ. Или нежная соблазнительница уже ожидала жертву, запрятавшись под одеяло и призывно разбросав бедра…
Но увы, искушения святого Антония на меня не обрушились, ночь прошла бледно, а утром мы отправились осматривать ферму. Еще в юности я впитал Марксов тезис об «идиотизме деревенской жизни», в сельском хозяйстве понимал как свинья в живописи, и поэтому демонстрация амбара, конюшни, скотного двора и даже катание по полю на тракторе меня совершенно не тронули. Кроссман, наоборот, был очень увлечен своим амплуа «здорового кулака» и гордился, что может не только писать эссе и толкать спичи, но и работать на маленьком тракторе, сажать и сеять. Комплекс многих рафинированных интеллигентов, вспомним Льва Толстого.
Меня провожали тоже всей семьей, все было так трогательно, что я навсегда полюбил этого врага коммунизма, который по своей простоте намного превосходил моих высоких шефов, преданных идее равенства и братства. Даже в ведомственных санаториях брандмейстеры редко снисходили до общения с простыми топорниками, а тянули коньячок в специальных люксах в кругу таких же раздувшихся от собственного величия вельмож.
Последний раз мы встретились в баре «Кафе Ройал» и решили перейти в расположенный в Сохо ресторанчик «У Исаака», славившийся отменной еврейской кухней. В разгар ленча к столику подошел официант и передал Кроссману записку, написанную на клочке бумаги. Он прочитал, брови его поднялись, глаза на миг округлились, он передал записку мне. «Ваш стол прослушивается!» – прочитал я и чуть не уронил челюсть в рыбу-фиш.
Что за нонсенс? Может, какой-нибудь враг Кроссмана? Нет. Провокатор явно должен знать меня, тут жирный намек на шпионаж. Неужели спецслужбы? Вдруг таким незатейливым образом они решили насторожить Кроссмана и свести на нет наши отношения? На сленге КГБ – «профилактировать». Мы спокойно продолжали трапезу и беседу, словно ничего не произошло, хотя по лицу Кроссмана я понимал, что этот инцидент ему неприятен и непонятен.
Все стало на свое место, когда на выходе из ресторана меня кто-то сильно хлопнул сзади по плечу. Я обернулся, готовясь броситься с мечом на полчища контрразведчиков с гаубицами, но увидел своего старого знакомца, Джека Левайна, американского кинорежиссера – он радостно хохотал и грозил мне пальцем: мол, кончай шпионить, старик! Ничего себе розыгрыш!
Дальше грянули всеобщие парламентские выборы, лейбористы одержали победу, и Кроссман стал министром – естественно, времени на встречи с дипломатами и шпионами у него поубавилось, да и министрам подобает встречаться с послами, не меньше. А через пару месяцев меня вышибли из Англии как персону нон грата.
Кроссман умер сравнительно рано, кажется от рака, оставив миру «Дневники» – блестящие страницы об английской политике, обидно было, что в них не мелькнуло мое скромное имя (слезы!) – наверняка он забыл о такой мелкой сошке и маленькой мошке (слезы! слезы!).
– Кошки не любят мошек, хотя мошки любят кошек! – заметил Кот. – Как ты можешь рассчитывать на место в сердце английского интеллектуала или, как говорите вы в России, интеллигента?
А я, каюсь, мечтал стать интеллигентом. В коммунистической России интеллигенцию традиционно уважали, порой без всяких на то оснований. Особые ласки партии доставались писателям, и в их творческом союзе неизменно состояли заместители председателя КГБ. Как я рвался в эту неземную компанию! Как завидовал бескорыстным, честным гениям, которые сходили за обыкновенных людей, когда неторопливо хлебали в дубовом зале ЦДЛ рыбную солянку, пропуская для вдохновения рюмку-другую-третью водочки!
То, что на Западе интеллектуалов ценят гораздо ниже, чем процветающих бизнесменов или сенаторов, я впервые осознал после своей отставки, когда на волжских круизах читал просветительские лекции англо-американским туристам на их родном языке. Поскольку в моем творческом багаже уже были пьеса и много статей, я представлялся англичанам не только как лектор, но и как писатель и журналист – в советской аудитории это укрепляло престиж. Но мои подопечные реагировали на такое представление вяло и даже со снисхождением, и тогда, будучи кандидатом наук, я решил украсить себя званием «профессор». Отношение моментально изменилось («Ах, профессор, ох, профессор!» – ведь это уже преподаватель в университете!), а когда по ходу перестройки я признался в принадлежности к КГБ, то моя популярность резко взлетела и меня почтительно стали именовать «полковником». Оказалось, что шпионы популярнее разных писак и прочих интеллектуалов…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.