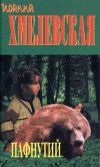Текст книги "Брынский лес"

Автор книги: Михаил Загоскин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Вы уже знаете, любезные читатели, что Левшин вовсе не походил на этих героев любви и самоотвержения, которые умирают, произнося имя своей любезной и в продолжение нескольких томов питаются одной любовью и воздухом. Он не ел более суток и хотя чувствовал непреодолимое отвращение от своего собеседника, однако ж присел к его пирогу и утолил свой голод.
– Ну, теперь, молодец, – сказал поддьяк, – не хочешь ли подкрепить себя травничком?
– Спасибо! Я вина не пью, – отвечал Левшин.
– И это напрасно, любезный!.. Вино веселит сердце человеческое, и одни поганые татары его не пьют, а ведь мы с тобой православные. Выкушай чарочку!
– Нет, право, не могу.
– Ну, как хочешь! – Поддьяк спрятал блюдо с остатками пирога, сел к столу и начал что-то писать, а Левшин прилег опять на лавку и предался своим грустным думам. Так прошло часа два или три. Вдруг в передней комнате послышались громкие голоса. «Ступай, ступай!» – кричал кто-то. «Ребята, помогите! Вишь, он в притолку упирается!»
– Что у вас там? – спросил поддьяк, вставая. Двери отворились, и вошел огнищанин, а за ним трое земских ярыжек, из которых один вел за ворот мужика, оборванного, замаранного грязью, с подбитыми глазами и окровавленным лицом.
– А! Это ты, Антошка Шелыган? – сказал поддьяк, обращаясь к земскому ярыжке, который тащил за собою мужика. – Кого ты это подтенетил?
– Да вот, батюшка Ануфрий Трифоныч, идем мы, я да Ивашка Кучумов, по Зарядью, глядим – лежит этот хмельной на улице на самой середине. Ну, долго ль до греха – место проезжее. Мы стали его подымать, а он учал драться, да еще вздумал народ скликать; кричит, что мы его обобрали.
– Ах он мошенник!.. пьяница этакий!
– Помилуй, батюшка! – промолвил мужик.
– Молчи! – закричал поддьяк. – Ты кто таков? Ко-лотырник какой-нибудь! Бездомный бродяга!..
– Нет, батюшка! я живу при месте, работником на подворье.
– А валяешься пьяный по улицам.
– Отец родной! – вскричал мужик, кланяясь в ноги. – Прикажи слово вымолвить!
– Ну что? Говори!
– Вот как дело было: стою я у стенки…
– У стенки! – прервал огнищанин. – Видно, ноги-то не держат!
– Батюшка! да я хмельного в рот не беру!.. видит Бог, не беру!
– Добро, добро! – сказал поддьяк. – Ну, говори: стоишь ты у стенки…
– Вот они, батюшка, ко мне и подошли, да ни с того ни с другого – и ну ко мне придираться: что, дескать, ты тут стоишь? Да так, мол, стою! Ты, дескать, вор, высматриваешь, как бы что стянуть!.. Да и ну меня по скулам!.. Сбили с ног, вытащили мошну с деньжонками…
– Не слушай, Ануфрий Трифоныч, – прервал один из земских ярыжек. – Он врет: мы его пальцем не тронули, а, видно, он сам спьяна где-нибудь рожей-то на угол наткнулся.
– Не тронули! – повторил мужик. – Бога вы не боитесь!.. Посмотрите-ка на мои глаза!
– Что глаза? – прервал поддьяк. – Глаза как глаза! Заплыли с перепоя – вот и все!
– С какого перепоя, батюшка?.. Я и по праздникам-то вина не пью.
– Не пьешь… да ты и теперь еле жив – пьяница этакий!.. Алексей Пахомыч! – продолжал поддьяк, обращаясь к огнищанину. – Ну, посмотри, хмелен ли он?
– Какой хмелен! – сказал огнищанин. – Лыком не вяжет!.. Бутуз, подойди-ка к нему поближе… Ну, что?
– Фу-ты, батюшки, – промолвил земский ярыжка, наморщив рожу. – Да от него как от бочки, так винищем и несет!
Мужик заревел.
– Господи Боже мой! – говорил он, всхлипывая. – Вот грех какой! Ни за что ни про что избили – да я же виноват! Кормилец!.. отец родной!.. да вели мне хоть деньжонки-то отдать!
– Ах ты дурак этакий! – подхватил огнищанин. – Да почему ты знаешь, кто твои деньги взял? На улице народу-то много: как валяешься пьяный, так тебя всякий прохожий оберет.
– Пустите, пустите! – раздался в передней комнате женский голос. – Я дойду и до вашего старшего, что вы, в самом деле!.. Иль на вас управы нет?
– Кто там закричал? – спросил поддьяк.
– Я, батюшка! – сказала Жанка, входя в комнату.
– Что ты, голубушка?
– А вот что, кормилец: управы прошу грабеж!..
– Что ты это мелешь?
– Нет, не мелю!.. Этот парень мой батрак…
– Так что ж?
– А то, что его избили и ограбили вот эти озорники.
– Врешь ты, дура! Они подняли его пьяного на улице.
– Пьяного?.. Что ты, батюшка, перекрестись! Да он вина-то сродясь не пивал!
– Так, видно, сегодня в первый раз хлебнул, – сказал один из ярыжек.
– Неправда!.. Моя работница стояла у ворот и все видела. Вот что, батюшка, – продолжала старуха, – этот земский ярыжка на меня злится! В прошлый праздник я ему ничего не дала, так он и хотел выместить на моем работнике.
– Ах ты разбойница! – вскричал поддьяк. – Да как ты смеешь такие речи говорить?!
– Постой-ка, голубушка! – сказал огнищанин. – Ведь ты держишь Мещовское подворье?
– Я, батюшка!
– Заявляли ли тебе наказ боярина нашего, князя Михаилы Никитича Львова, чтоб мести каждый день улицу перед домом, а?
– Заявляли.
– Так что ж ты не исполняешь этого приказа? Вот уж четвертый день, Ануфрий Трифоныч, не могу добиться: сам заходил – не слушает, да и только!
– Помилуй, батюшка! ведь всю прошлую неделю дождик так и лил, грязь по колено – чего тут мести?
– Чего мести? – заревел поддьяк. – Ах ты бунтовщица этакая!.. Сказано, мести, так мети!
– Да она никогда не метет, – подхватил огнищанин. – Все соседи жалуются.
– Соседи! – повторила старуха. – Ну, так я всю же правду скажу. У меня как просохнет перед домом, так пылинки не найдешь; а вот мой сосед, Михей Бутрюмов, у него и метлы-то в заводе нет, а все с рук сходит – и не диво: он к твоей милости каждый праздник с поклоном ходит.
– Эге! – вскричал поддьяк. – Извет!.. донос в лихоимстве!.. О, старуха, да это дело не шуточное!.. Алексей Пахомыч! садись-ка, брат, да пиши, а я порядком ее допрошу.
– Что ты, что ты, кормилец! – вскричала старуха испуганным голосом. – Какой извет?.. Я это… так – к слову молвила.
– К слову?.. Вот мы тебе дадим слово!.. Пиши: такого-то месяца и числа, земские ярыжки, Ивашка Кучумов и Антошка Шелыган, подняли на улице в Зарядье пьяного батрака с Мещовского подворья. Хозяйка батрака… Как тебя зовут?..
– Батюшка, помилуй! – завопила старуха, повалясь в ноги. – Сглуповала, отец мой, сглуповала!
– Чего тут миловать! Говори, как тебя зовут?..
– Федосья Архипова.
– Федосья Архипова… хорошо!.. Женка Федосья Архипова… Да ты что? Замужняя, вдова или девка?
– Горькая вдова, батюшка, сиротинка горемычная! Взмилуйся, отец родной! не губи!.. Баба я старая, глупая!..
– А вот как тебя вспрыснуть шелепами, да посидишь в остроге, так будешь умнее!.. Ну, пиши: хозяйка вышесказанного батрака, вдова Федосья Архипова, с великим шумом и буйством и насилием ворвалась в Земский приказ, и учла она, вышереченная вдова Федосья Архипова, говорить непригожие речи и разными хульными словами позорить честь не токмо земского ярыжки Шелыгана, но и начального человека, огнищанина Алексея Подпекалова, якобы оный, Подпекалов, предаваясь злому лихоимству и хищению…
– Батюшка, я этого не говорила! – вскричала старуха. – Видит Бог, не говорила!.. К присяге пойду…
– Пиши, Алексей Пахомыч, пиши.
– Послушай, Ануфрий Трифоныч, – сказал Лев-пгин, подойдя к столу. – Мне надо с тобой словечко перемолвить.
– Ну что, молодец? – спросил поддьяк, отойдя в сторону с Левшиным.
– А вот что: денег у меня нет…
– Знаю, любезный, знаю!
– А есть золотой перстень – вот посмотри.
– Да!.. Перстенек хоть куда.
– Возьми и носи его на здоровье, только дозволь мне поговорить с этой старухою и отпусти ее домой вместе с работником.
– Нельзя, любезный, право, нельзя! Как дашь повадку, так после с ними и не сладишь.
– Так ты не берешь?
– Как бы не взять… Да, право, надобно поучить уму-разуму эту старую каргу – выскочка этакая!
– Ну, полно!.. Надень-ка перстень на палец…
– Дай-ка, дай… Смотри, пожалуй!.. Как по мне делан!.. И он, точно, золотой?
– Я не стану тебя обманывать.
– Ну, что с тобой делать! Быть по-твоему.
Поддьяк подошел к огнищанину, пошептался с ним и сказал старухе, которая дрожком дрожала и едва держалась от страха на ногах:
– Что, голубушка, присмирела небось? Будешь помнить?..
– Буду, батюшка, буду!
– И напредки не забывай: выше лба уши не растут.
– Так, батюшка, так!
– На носу себе заруби!
– Зарублю, батюшка, зарублю!
– То-то же!.. Ну, уж так и быть, Бог тебя простит!.. Ступай домой со своим батраком, да смотри, старуха, вперед всегда мети перед домом!
– Кормилец! да я и так каждый день…
– Опять заговорила!.. Уж коли сказано, что не метешь – так не метешь! Да смотри за работником, чтоб он вперед по улицам-то пьяный не валялся.
– Батюшка, дело прошлое, а ведь он человек трезвый, – покарай меня Господи…
– Эка назойливая баба! – вскричал поддьяк. – Ты у ней хоть кол на голове теши, а она все свое!.. Уж коли в Земском приказе по обыску окажется, что ты и сама пьяна, так не смей перечить, дура этакая!.. Без вины виновата!
– Слышу, батюшка, слышу!
– То-то слышу!.. Смотри, попадешься в другой раз… да и теперь… кланяйся вот этому молодцу. Кабы не он упросил…
– Ах, Господи! – вскричала старуха. – Да это никак… Ну, так и есть!.. Ах ты, мой ясный сокол!
– Да, бабушка, это я. Поди-ка сюда на минутку. – Левшин отвел ее к стороне и сказал: – Ну что, Архиповна, чай, твои жильцы, соседи-то мои, больно перепугались?
– Ах, батюшка! Каких страстей я-то натерпелась!.. Думаю, убьют у меня в дому человека.
– А мои соседи что?
– Ведь я тебя все у окна дожидалась. Хотела сказать, что на дворе-то засада; кликала тебя, да ты, как шальной, так на двор и пробежал.
– Не о том речь, Архиповна. Ты мне скажи, что мои соседи?..
– Да что, батюшка, видно, больно переполошились: лишь только тебя со двора свели, так жилец-то мигом собрался…
– Собрался!.. Куда?
– А кто его знает! В дорогу, батюшка.
Левшин побледнел.
– В дорогу! – повторил он. – Кто?.. Вот тот постоялец?
– Ну да! У которого дочка-то жила рядом с тобой, в светелке. Батюшки, как заторопились!.. Запрягли две тройки, расплатились со мной, да и поминай как звали!
– Так они уехали?
– Уехали, батюшка.
– Послушай, Архиповна: ты верно знаешь, кто такой этот проезжий?
– Нет, родимый, видит Бог, не знаю!
– Да разве ты не могла спросить у работницы?
– Пыталась, да, видно, заказано: не говорит, да и только… На что, дескать, тебе, Архиповна, знать, кто твои жильцы? Платили бы они только исправно за постой.
– И ты не знаешь также, куда они поехали?
– Не ведаю, батюшка!.. Ну, прощенья просим, мой отец!.. Ох, скорей бы отсюда убраться!.. Спасибо тебе, что ты меня, старуху, из беды выручил!.. Недаром, батюшка, говорится: «Язык мой, враг мой!» Эка я дура, подумаешь, пришла управы просить!.. Ну, дай Бог тебе доброго здоровья!.. Счастливо оставаться!
Вслед за старухою и ее работником вышли все из покоя, и Левшин остался по-прежнему один с поддьяком, который принялся рассматривать с большим вниманием перстень. Он снял его с пальца, положил на ладонь, привесился и сказал вполголоса:
– Что за прах такой!.. Легок, больно легок!.. А кажись не дутый!.. Ну, молодец, поддел ты меня!.. Ведь перстень-то не золотой!..
– Мне, однако ж, давали за него пятнадцать рублей, – отвечал Левшин.
– Пятнадцать!.. Что больно много! Кабы мне дали за него пять, так я бы в ножки поклонился!.. Ну, да делать нечего: что с воза упало, то пропало!.. А только если он медный, так это, любезный, на твоей совести останется, ведь мы не жиды: нам грешно друг друга обманывать.
– Да кто тебя обманывает? – прервал с нетерпением Левшин. – Вольно ж тебе не верить!
– Ну, ну, не гневись! – молвил поддьяк, принимаясь опять за письмо. – И то сказать: даровому коню в зубы не смотрят.
Левшин сел на скамью и предался снова своим грустным размышлениям. И так все кончено! Сбылись его предчувствия: она уехала из Москвы!.. Он навсегда расстался с нею… О, кончено навсегда… Где станет он искать ее?.. И в Москве не найдешь того, кого не знаешь по имени; а не Москве чета наша матушка святая Русь: широко она раскинулась; в ней одной полтрети всего мира Божьего, и, куда ни поедешь, везде люди живут.
«Нет! – думал Левшин. – Не судил мне Господь быть счастливым. Сиротой я живу – сиротой и умереть придется!.. Я знаю, Колобов сказал бы мне: “Что ты, брат! Разве одна звезда на небе светит? Мало ли красных девиц на Руси живет! Приглянулась тебе одна – погоди: приглянется другая!” Нет, коли не она моя суженая, так не обходить мне налоя рука в руку с сердечным другом, не меняться с ним кольцами!.. Видно, моя суженая-ряженая – мать сыра земля. Много звезд на небе… да, много – не перечтешь… да солнышко-то одно!.. И то слава Богу – поглядел я на нее, полюбовался… Ах, нет, нет! лучше б вовсе ее не видать!..»
На дворе стало смеркаться; поддьяк прибрал к стороне свои бумаги, вынул из поставца сулею с травником, ковригу хлеба, студень, горшок с гречневой кашей, накрыл стол ширинкою и расположился на нем ужинать вместе с огнищанином. Разумеется, он пригласил также и своего арестанта, но Левшин отказался. Когда поддьяк и огнищанин опорожнили по нескольку чарок травника, то у них пошла такая разгульная речь, побасенки, которые они принялись рассказывать друг другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшин не мог скрыть своего омерзения; он лег на лавку, повернулся к ним спиной и притворился спящим. Часа полтора продолжалась эта пытка, наконец полупьяные собеседники разошлись. Поддьяк скинул с себя верхнее платье, пробормотал молитву, отвесил несколько земных поклонов – и лишь только повалился на скамью, то в ту же минуту заснул мертвым сном. Левшин не скоро последовал его примеру. Он также помолился – и, вероятно, молитва его была усерднее, но глаза его не смыкались почти всю ночь. Он заснул перед самым рассветом, или, лучше сказать, задремал, потому что этот сон не мешал ему слышать беспрестанный стук, похожий на работу плотников, которые что-то строили в близком расстоянии от Земского приказа.
VI
На восточной стороне небосклона начинали уже тухнуть звезды, но, увенчанный своими заборами, высокий Кремлевский холм был еще покрыт ночною тенью. Внизу, у его подошвы, как седое море, волновался утренний туман над обширным Замоскворечьем. Все было погружено в глубокий сон. Но вот темно-голубые небеса начинают становиться прозрачнее; вот осыпались искрами и засверкали кресты высоких колоколен; вот облились светом и позлащенные главы церквей: народ зашевелился по улицам. Москва проснулась.
Меж тем тревожный сон Левшина все еще продолжался; этот ночной стук, который он слышал в своем забытьи, превратился в какой-то невнятный говор людей; потом началось громкое чтение, вслед за ним послышались стоны, плач и рыдания, а там как будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль – и все затихло. Во все это время Левшин не спал, а находился в том полусознательном состоянии, когда мы сквозь сон слышим близкие к нам звуки и хотя не очень ясно, однако ж различаем окружающие нас предметы, но в то же самое время грезим и видим сны, в которых, разумеется, ложь и истина беспрестанно сменяют друг друга. Левшин слышал очень ясно этот разговор, чтение, плач и вопли; полузакрытым глазам его представлялись, как будто бы в тумане, низкие своды Земского приказа, его тяжелые стены, окно с железной решеткой; он видел лампаду, которая висела перед иконою – и меж тем ему казалось, что он стоит в церкви, где при тусклом свете погребальных свечей отпевают покойника; что священник читает разрешительную молитву; что родные и друзья усопшего лобызают его с плачем и рыданием; что вдруг тяжелая гробовая крышка с громким стуком падает на церковный помост – и среди общего мертвого молчания раздается удушливый вопль покойника. Он медленно подымается из гроба.
Левшин слышит вокруг себя какой-то непонятный шепот; все теснятся, спешат к церковным дверям, а он стоит, как прикованный, и не может пошевелиться ни одним членом. Вот тухнут все свечи, но вместо темноты разливается кругом кровавый свет, похожий на зарево отдаленного пожара; церковный помост начинает колебаться. По всем углам, вдоль стен, везде подымаются надгробные плиты, и сотни мертвецов в белых саванах начинают показываться из своих могил. Покойник окидывает бездушным ледяным взором всю церковь. Глаза его встречаются с глазами Левшина: он подымает свою иссохшую руку, указывает на него пальцем – и вот вся толпа мертвецов, заскрежетав зубами, бросается прямо к нему, один из них хватает его за грудь… Он вскрикивает, и в ту же самую минуту подле него раздается знакомый голос: «Что ты, что ты, молодец?.. Это я!»
Левшин очнулся и вскочил.
– Эк ты как заспался! – продолжал поддьяк. – Не прогневайся, раненько я тебя бужу, да делать нечего; меня – прах бы их взял – еще ранее твоего разбудили, а теперь-то самый лучший сон и есть!.. За тобой, молодец, пришли от князя Ивана Андреевича.
– От князя Хованского?
– Ну да! Там в прихожей дожидается тебя пятидесятник с двумя стрельцами! Пойдем, любезный!
Поддьяк сдал пятидесятнику своего арестанта и когда вышел вслед за ним на крыльцо, то сказал: «Взгляни-ка, брат, сюда, налево!» Левшин обернулся. Почти рядом с Земским приказом, на высоких подмостках, лежал труп человека, одетого в черное платье; подле, на окровавленной плахе, стояла отрубленная голова его. Это бледное, обезображенное лицо, на котором замерло судорожное выражение нестерпимой муки и отчаяния, было до того ужасно, что Левшин невольно отвернулся.
– Кто это? – спросил он вполголоса.
– Да вот этот расстрига, что так вчера храбровал, – отвечал поддьяк.
– Никита?
– Да! Никита Пустосвят.
«Боже мой! – подумал Левшин. – Давно ли этот мятежник, окруженный бесчисленной толпой народа, шел в Кремль, как торжествующий победитель, а теперь!.. Куда девались все его защитники?.. Он умер один – и труп его, выставленный на позор, брошен, покинут всеми!»
В самом деле, вся площадь была пуста; в нескольких шагах от места казни стояли вооруженные стрельцы; по временам останавливались прохожие и, взглянув издалека на казненного преступника, продолжали спокойно идти своею дорогою. Один только нищий, в изорванном рубище, с распущенными по плечам волосами и непокрытой головой, стоял на подмостках подле казненного преступника; склонив над ним свою седую голову, он тихим голосом творил молитву, и слезы его капали на окровавленный труп. Этот нищий был Гриша.
– Ну, прощай, любезный! – сказал поддьяк, облобызав Левшина. – Дай Господи, чтоб все кончилось благополучно!.. Жаль мне тебя – видит Бог, жаль!.. Парень ты добрый, а коли правду говорят, что ты изменник…
– Мне нечего бояться, – прервал Левшин, – совесть моя чиста.
– Совесть?.. Что совесть, любезный… Коли у тебя другой заступы нет, так дело-то плоховато!.. Конечно, Бог не без милости, – почем знать, может статься, пожалеют твою молодость… Только смотри, любезный, коли тебя не казнят, так не забудь, заверни опять сюда.
– Зачем?
– А вот зачем: ты говорил, что тебе давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, друг сердечный… так и быть! Я тебе этот перстень за четырнадцать рублей уступлю?
– Хорошо, хорошо! – сказал Левшин, уходя вслед за своими провожатыми. Они вышли из Китай-города Каретными воротами и повернули налево.
– Куда вы меня ведете? – спросил Левшин.
– Куда велено, – отвечал пятидесятник.
– Да ведь, кажется, дом князя Ивана Андреевича Хованского не в этой стороне?
– Вестимо, не в этой. Он живет на Знаменке.
– Так мы идем не к нему?
– Нет.
– Куда же?
– А вот как придешь, так узнаешь.
Левшин замолчал. Дойдя до того места, где речка Неглинная впадает в Москву-реку, они поворотили направо, и когда, миновав церковь Ильи Обыденного и Зачатьевский монастырь, переправились Крымским бродом на ту сторону реки, то Левшину нетрудно было догадаться, что его ведут к боярину Кирилле Андреевичу Буйносову: он жил недалеко от Калужских ворот и, вероятно, один из всех ближних бояр не имел дома в Кремле или, по крайней мере, в его окрестностях. Подходя к этим брусяным хоромам, которые стояли в глубине обширного двора, Левшин увидел, что у ворот дожидается дворецкий боярина Буйносова. Пятидесятник сдал ему с рук в руки Левшина и отправился со своими стрельцами в обратный путь.
– Милости просим, Дмитрий Афанасьевич! – сказал дворецкий, отпирая калитку. – Боярин давно уже тебя дожидается. Все твои пожитки, – продолжал он, идучи с Левшиным по двору, – перевезли сегодня к нам. Уж не изволь опасаться, батюшка: синего пороха не пропадет!.. У нас, слава Богу, кладовых довольно.
– Да это, кажется, Ферапонт? – спросил Левшин.
– Вон что там у конюшни держит двух оседланных коней?.. Да, батюшка, это твой служитель.
Войдя по широкому крыльцу в обширные сени, в которых толпились человек двадцать боярских холопов, дворецкий отворил двери в первый покой и сказал:
– Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду доложу о тебе боярину, а ты побеседуй покамест с его милостью, – прибавил он, указывая на Колобова, который кинулся на шею к своему приятелю и закричал:
– Здравствуй, Дмитрий Афанасьевич! Ну, слава тебе, Господи! Не чаял я видеть тебя живым.
– И ты здесь, Артемий Никифорович?
– Как же! Ты помнишь, мы вчера с тобой уговорились прийти сюда попозднее вечерком?.. Вот я этак в сумерки и отправился за тобой на Мещовское подворье; лишь только дошел до Зарядья, глядь – навстречу мне Архиповна бежит бегом, шушун нараспашку, – впопыхах. «Куда бабушка?» – «В Земский приказ». – «Зачем?» – «Управы просить!.. Душегубцы этакие! разбойники!.. кнутобойцы!..» – «Да что такое?» – «Ограбили, батюшка, прибили до полусмерти моего Федотку!» – «Да кто?» – «А вот эти живодеры, кровопийцы, земские ярыжки!.. Ни за что ни про что изувечили у меня парня!.. Да его же, за то, что он кричал, в Земский приказ оттащили, воры этакие, висельники!..» – «А я, Архиповна, иду к тебе на подворье». – «Уж не к твоему ли крестовому братцу?» – «К нему». – «Ах, родной ты мой, да ведь его захватили стрельцы!» – «Как так? – «А вот как: пришли прежде его ко мне на подворье, засели по углам, и как твой крестовый братец вошел на двор – они его и цап-царап!» – «И увели с собой?» – «Увели, батюшка!.. Ну, уж перепугалась я!.. Экий денек! И стрельцы, и земские ярыжки!.. Да с ними-то я справлюсь! Слыханное ли дело: дневной грабеж!.. Нет, батюшка, я их доеду!.. Ударю на них челом боярину князю Львову; а коли он суда не даст, так я закричу “Слово и дело!” До царей дойду!.. Прощай, батюшка, прощай!» Я было хотел ее порасспросить хорошенько – куда! Моя старуха пустилась благим матом по улице, а я кинулся к боярину Кирилле Андреевичу, рассказал ему все; он отправился к князю Хованскому, а мне приказал перевести сюда все твои пожитки. Ну, брат Левшин, истинно Господь тебя помиловал! Вчера у нас в слободе один молодец, сотник полка Лопухина, сболтнул по-твоему, так его тут же уходили. Нет, брат, что Бог даст вперед, а теперь держи ухо востро!..
– Дмитрий Афанасьевич, пожалуй, батюшка, к боярину! – сказал дворецкий, входя из соседнего покоя.
В этом покое, в котором обыкновенно хозяин трапезничал со своими гостями, вся домашняя утварь состояла из большого дубового стола, лавок, покрытых коврами, и двух огромных поставцов, наполненных серебряной посудой. Разумеется, в переднем углу стояли на полке святые иконы в великолепных окладах; но голые стены комнаты не были ничем украшены, и только на одной из них висел, весьма дурно написанный масляными красками, портрет царя Алексея Михайловича. Пройдя этой комнатой, Левшин вошел в угольный покой, убранный по тогдашнему времени весьма роскошно: стены в нем были обтянуты кожаными позолоченными обоями, которые вывозились тогда из Голландии, а пол обит красным сукном. В одном углу подымалась до самого потолка расписанная крупными узорами изразцовая печь, на ножках или столбиках, также изразцовых. Вдоль стен стояло несколько стульев с высокими спинками; посреди комнаты, за столом, сидел в креслах, обитых малиновым рытым бархатом, человек пожилых лет; на нем был шелковый ходильный зипун, а сверх него камлотовый опашень. Это был боярин Кирилла Андреевич Буйносов. Несмотря на грустное выражение его взора, который изобличал какую-то глубокую душевную скорбь, он вовсе не казался ни угрюмым, ни суровым. Его бледное и худое лицо, на котором были еще заметны остатки прежней красоты, исполнено было благородства, без всякой примеси этой смешной боярской спеси, которая и в старину, и в нынешний век, и, вероятно, в будущие времена всегда останется верным признаком или грубого невежества, или природной глупости, слегка прикрытой европейским просвещением.
– Здравствуй, Дмитрий Афанасьевич! – сказал ласковым голосом Буйносов. – Садись, голубчик!
Левшин с низким поклоном отказался от предложенной чести.
– Ну, полно, без чинов!.. Садись, любезный!.. Ты, я чаю, больно умаялся!
– Я не знаю, как мне тебя благодарить, боярин… – промолвил Левшин.
– Что я, Дмитрий Афанасьевич? – прервал Буйносов. – Я тут ни при чем!.. Благодари, во-первых, Бога, а во-вторых, князя Ивана Хованского. Что я хлопотал о тебе, так это не большое диво: ты сын задушевного моего приятеля – дай Бог ему царство небесное!.. И тебя самого я люблю, почитай, как родного, а все бы мне не удалось вырвать тебя из злодейских рук, кабы не князь Иван Андреевич. Да и ты, молодец, охота же тебе дразнить этих бешеных собак!
– Что ж делать, боярин, не утерпел… Когда я услышал и увидел сам, до чего дошло буйство этих богоотступных мятежников, так сердце во мне заговорило.
– Сердце?.. Да неужели ты думаешь, что мы, старики, смотрим на это как на потеху?.. Нет, Дмитрий Афанасьевич, и наше сердце обливается кровью, и мы, называя это мятежное войско православным и христолюбивым, скорбим и сокрушаемся душою; да делать-то нечего: пришлось мирволить, коли сила не берет.
– Власть твоя, боярин, а по мне лучше погибнуть, чем мирволить злодеям. Ведь за правду умереть не беда.
– Кто говорит… Дай Господи и мне умереть за правду, лишь только бы смерть-то моя пошла впрок; а коли я умру только для того, чтоб убавилось число верных слуг царских, которых и без того немного остается, так что в этом толку? Князья Долгорукие, Ромодановские, боярин Матвеев попытались стать грудью против крамольников – что же вышло?.. Они погибли, а мятежники унялись ли злодействовать?.. Нет, они еще больше ожесточились. Когда дикий зверь сорвется с цепи да отведает крови человеческой, так не присмиреет, а сделается еще злее.
– Так что же, боярин, неужели давать волю этому зверю?..
– Коли сила есть, так не давай; а коли тебе одолеть его нельзя, так не лучше ли до поры до времени прикармливать его да втихомолку обкладывать тенетами, чем дразнить и гибнуть понапрасну?.. Эх, Дмитрий Афанасьевич! И я был молод, как ты, и у меня также кровь кипела в жилах – да уходился! Недаром говорят: «Век пережить, не поле перейти», чего не увидишь, чего не натерпишься!.. А горя-то, горя!.. – промолвил боярин, и на глазах его навернулись слезы. – Да, Дмитрий Афанасьевич, – продолжал он, – и тебе грустно жить в одиночестве, но ты еще молод: Бог даст, у тебя будет своя семья, добрая жена, милые дети; а каково быть круглым сиротой тому, кто смотрит уж в могилу?.. Как подумаешь: умереть на руках челядинцев, не оставить после себя ни роду, ни племени… Да что говорить об этом! Коли Господь послал крест, так неси его без ропота и покоряйся… Поговорим-ка лучше о другом. Тебе, Дмитрий Афанасьевич, нельзя в Москве оставаться, и чем скорее ты отсюда уедешь, тем лучше. Я на будущей неделе хочу отправиться в мою Брянскую вотчину, так возьму тебя с собой, а теперь поезжай в мою подмосковную; она на Серпуховской дороге и только в пяти верстах от Коломенского, да зато в стороне, кругом лесная дача, проезжей большой дороги нет, так ты, покамест, можешь там жить без всякого опасения. Только смотри – в Коломенское ни ногой! Туда часто изволит наезжать государь Петр Алексеевич, так иногда бывает очень людно. Неравно еще с кем ни есть повстречаешься, а на первых порах не худо бы, чтоб твои сослуживцы вовсе о тебе забыли: пусть себе думают, что ты без вести пропал. Может статься, денька через четыре я с тобой увижусь, а теперь прощай, любезный!.. Мешкать нечего. С тобой поедет твой слуга и один из моих домашних. Ну, с Богом, Дмитрий Афанасьевич, отправляйся.
Когда Левшин откланялся боярину и вышел на двор, то увидел, что все уже готово к его отъезду: у ворот дожидался боярский вершник, а у крыльца стоял Ферапонт, держа под уздцы двух оседланных коней. В одном из них Левшин узнал своего аргамака. Колобов был тут же. Он смотрел с немым восторгом на Султана. Этот гордый персидский конь, почуя своего седока, заходил ходуном, заплясал и начал грызть свои покрытые пеной удила.
– Ну, Дмитрий Афанасьевич, – сказал Колобов. – Достался тебе конь! Я еще его под седлом-то не видел. Вот уж подлинно всем взял!.. Огонь, а не лошадь!.. Жилки все играют!.. Хорош и тот, которого ты мне пожаловал, а все не то… Ну, прощай, друг сердечный!.. Когда-то приведет Господь опять увидеться?
– И, батюшка!.. – сказал Ферапонт, подводя к Лев-шину Султана. – Гора с горой не сойдется, а человеку с человеком как не сойтись!
– Боярин не сказал мне, куда тебя отправляет, – продолжал Колобов, – а намекнул только, что вряд ли ты скоро в Москву вернешься. Ну да Бог милостив, увидимся когда-нибудь.
Левшин обнял Колобова, вскочил на коня и через несколько минут доехал до Земляного вала, то есть нынешней Садовой улицы. Выехав Калужскими воротами за город, он, по старинному обычаю, снял шапку и помолился на соборы. Ферапонт последовал его примеру, перекрестился и сказал: «Прощай, матушка Москва белокаменная! Не долго мы в тебе погостили! Слава тебе, Господи, что я в Кремле побывал, а то бы не удалось и угодникам поклониться!» Оставя по правой руке Калужскую дорогу, Левшин пустился по Серпуховской. Он не говорил ни слова, но душа его была преисполнена грусти. Два дня тому назад он спешил возвратиться в свой родимый город, а теперь бежит из него, как изгнанник. Он был в Москве и не успел даже сходить на могилу отца своего и матери. Привязанность к родимой стороне всегда становится сильнее, когда мы переживаем о всех близких нашему сердцу; нам кажется, что мы еще не вовсе осиротели, если живем там, где покоятся кости наших кровных и родных, где мы родились, где встречаем тех, с которыми свыклись еще в ребячестве, где все напоминает нам о прежней семейной жизни, о детских наших радостях… Покинуть это место, быть может, навсегда расстаться со своей родимой стороною – о, конечно, это второе сиротство, едва ли легче первого!
Солнце было уже довольно высоко, когда наши путешественники, отъехав верст семь от Москвы, стали спускаться с крутой горы. Левшин продолжал ехать молча, но спутники его давно разговаривали меж собою. Боярский челядинец, пожилой человек лет пятидесяти, узнав, что Ферапонт видел Москву только мимоездом, пустился в россказни.