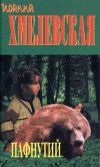Текст книги "Брынский лес"

Автор книги: Михаил Загоскин
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Часть вторая
I
В двух верстах от той поляны, на которой раскольники захватили Левшина и едва не убили его слугу, на берегу широкого оврага, в глубине которого лениво струилась, в топких берегах своих, речка Брынь, стояло несколько больших изб, соединенных меж собою крытыми переходами. Одна из этих изб была в два жилья; к ней примыкала низкая лачужка, которая, вероятно, служила кладовой; это можно было заключить из того, что она освещалась одним только, прорубленным под самою кровлей, волоковым окном и что ее толстые дубовые двери были окованы железом. Кругом этого главного жилья разбросаны были, без всякого порядка, отдельные избы, клети, сараи и амбары. Несколько поодаль от прочих строений стояла молельня: длинное и широкое здание с узкими окнами, в которых, вместо стекол, была вставлена слюда. На дощатой кровле этой молельни возвышался восьмиконечный деревянный крест. Вся эта группа строений, занимавших довольно большое пространство, обнесена была высоким бревенчатым тыном; в ограде было двое ворот: одними выезжали на дорогу, которая, круто спускаясь на дно оврага, вела к узкому мосту, перекинутому через речку Брынь; другая, находящаяся в противоположной стороне ограды, обращена была к расчищенному месту. На этой искусственной поляне разбросаны были огороды и несколько пчельников, обнесенных плетневыми заборами. Над первыми воротами, под навесом из листового железа, стояла большая икона Спаса Нерукотворенного, перед которой теплилась лампада. Внизу, с одной стороны ворот, устроена была низенькая сторожка, с другой – висели огромная оловянная умывальница и чистый ручник, или полотенце из белого холста. На воротах, под самым образом, было написано крупным полууставом: «Аще кто, входяй во святыя врата сии, не отречется от мира и вся скверны его, тот да будет нам яко же мытарь и язычник».
Этот раскольничий скит принадлежал филипповцам.
Пользуясь правом рассказчика, для которого нет запертых дверей, я попрошу вас, любезные читатели, заглянуть вместе со мною во внутренность этой кладовой, которая примыкала к избе о двух жильях. В ней стояло несколько сундуков, окованных железом, и сидел на скамье, со связанными назад руками, Левшин. Разумеется, в этой кладовой, в которую и днем едва проникал слабый свет, было темно, как в подземелье. Вот уже прошло более часу, как нашего путешественника втолкнули и заперли в эту лачужку. Конечно, положение его было не очень завидное: Левшин мог всего ожидать от этих неистовых изуверов, в глазах которых он был не только еретиком, но даже святотатцем и явным врагом православия; но, несмотря на это, он вовсе не раскаивался в своем поступке: он спас от мучительной смерти шесть человек, и в том числе женщину, по милости которой знает теперь, где живет его незнакомка. О себе самом Левшин беспокоился несравненно менее, чем о верном своем слуге, который, вероятно, не спрятался за куст, когда на них напали раскольники. Отбиться одному от целой толпы невозможно, но Левшин знал также, что Ферапонта одолеть нелегко, что он не дастся живой в руки и, без всякого сомнения, перестанет драться только тогда, когда его или вовсе изувечат, или убьют до смерти. Последнее было даже гораздо правдоподобнее: и на кулачной потехе бывают убитые, а этот бой вовсе не походил на потешный: все раскольники были вооружены дубинами и, вероятно, ожесточенные упорным сопротивлением Ферапонта, дрались с ним не на живот, а на смерть.
Несколько раз Левшин обходил кругом свою каморку. Он давно бы обшарил все и попытался узнать, нет ли для него какого-нибудь средства к побегу, но что он мог сделать со связанными руками?.. В один из этих обходов Левшин зацепил локтем за гвоздь, вколоченный в стену. Мысль, что он может как-нибудь перетереть на этом гвозде веревку, которой его руки были скручены назад, мелькнула в его голове. И вот он, оборотясь спиною к стене, приложил к гвоздю свои связанные руки и принялся за работу. С четверть часа трудился он без отдыха, измучился, исцарапал себе в кровь пальцы, но перепилил наконец кое-как веревку и стряхнул ее на пол. Когда его одеревеневшие руки поотдохнули, он принялся ощупывать стены своей тюрьмы. Добравшись до дверей, Левшин попытался упереться в них плечом, но тотчас же увидел, что этих дверей он не мог бы выломать и при помощи своего могучего богатыря Ферапонта. Продолжая обшаривать все углы, он ощупал в одном из них приставленную к стене лестницу.
Хотя Левшин был уверен, что лестница упирается одним концом в потолок и не ведет никуда, однако ж решился влезть по ней вверх; поднявшись ступеней на семь от земли, он почувствовал, что на него пахнуло свежим воздухом из отверстия, сделанного в потолке. Левшин стал подниматься еще выше и очутился на чердаке, подле открытого слухового окна. В первую минуту ему представилась какая-то возможность к спасению, но эта надежда недолго продолжалась: слуховое окно было так мало, что он не мог даже просунуть в него голову и посмотреть, что делается на дворе. Подышав несколько времени прохладным ночным воздухом у открытого окна, Левшин стал искать, нет ли на этом чердаке какого-нибудь отверстия поболее этого слухового окна. Он не успел сделать трех шагов, как вдруг остановился и стал прислушиваться. Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что кладовая, которая служила для Левшина тюрьмою, пристроена была к высокой избе о двух жильях, следовательно, чердак ее примыкал к стене второго жилья – и за этой-то стеною послышался Левшину хотя невнятный, но довольно звучный людской говор.
Левшин подошел к стене, повел по ней рукой и нащупал небольшие, но плотные двери с железными пробами, которые, однако ж, от легкого прикосновения, тихо отворились внутрь. Притаив дыхание и медленно подвигаясь вперед, Левшин вошел в просторный чулан, в котором по стенам развешаны были платья. Этот чулан отделялся от покоя, где раздавались громкие голоса разговаривающих, толстой бревенчатой стеной и дверью, которая, по-видимому, была заперта снаружи; в ней было прорубленное небольшое окошечко, вероятно, служившее для освещения чулана. Конечно, Левшину нетрудно было бы отгадать, что это сообщение между его тюрьмой и жилыми покоями сделано было для того, чтобы хозяин избы о двух жильях мог во всякое время и не выходя на двор заглянуть в свою кладовую; но Левшин думал вовсе не об этом.
Притаясь у прорубленного в дверях окна, он мог и слышать и видеть все, что происходило в соседнем покое, или, верней сказать, большой избе, потому что в ней были и полати, и печь с горнушкой, и шестак – одним словом, все то, что мы видим и теперь в крестьянских избах; разница была только в том, что над самым устьем печи были сделаны небольшие круглые отверстия; они служили для того, чтоб во время молитвы хозяина благодать проникала в печь, свободно входила в горшки, в которых варилась пища. Большая часть этой обширной избы была в тени, но весь передний угол ярко освещался тремя лампадами и восковыми свечами, которые горели перед иконами. В этом почетном углу за столом сидело шесть человек. Первое место, то есть под самими образами, занимал худощавый старик лет шестидесяти; из-под седых нависших бровей его сверкали серые, блестящие глаза. Во всех чертах лица его отражались внутренняя духовная гордость, жестокосердие и дикая, ничем не преклонная воля; а этот, исполненный мрачного огня, быстрый и беспокойный взгляд изобличал если не совершенное безумие, то, по крайней мере, какое-то исступленное состояние, близкое к сумасшествию. На нем был черный подрясник и кантырь, или раскольничий клобук, который отличался от обыкновенных монашеских клобуков только тем, что тулья его имела форму жидовской ермолки и обшивалась мехом; в правой руке держал он костыль, похожий на игуменский посох, на левой висели у него длинные лестовки, т. е. кожаные четки. Левшину нетрудно было узнать в этом чернеце полоумного раскольника, которого называли старцем Пафнутием. Подле него сидел человек пожилых лет, в белом суконном балахоне; он вовсе не походил на своего соседа: его приглаженные волосы и небольшая опрятная бородка представляли разительную противоположность с косматой и нечесаной бородой старика. С первого взгляда Левшин подумал, что видит перед собою воплощенную доброту, кротость и смирение. Этот раскольник, которого называли отцом Филиппом, говорил так тихо, таким мягким благозвучным голосом, что казалось, из уст его могли исходить только одни слова любви и милосердия; но Левшину стоило только посмотреть на его прищуренные, лукавые глаза, чтоб увериться в противном. В них выражалось такое коварное двуличие, такая искусственная кротость и притворное смирение, что, конечно, всякий предпочел бы иметь дело с его полоумным соседом, чем с ним. Тот походил на злую цепную собаку, а этот сладкоговорящий лицемер – на дикую кошку, которая прикидывается смиренницей для того, чтоб верней поймать и задушить свою добычу. Рядом с ним сидел небольшого роста старик, в сером зипуне, опоясанном веревкою. На огромной и вдавленной в широкие плечи голове его не было ни одного волоска; но зато необычайно длинная борода его, которая, покрывая всю грудь, опускалась ниже пояса, была предметом явного уважения и тайной зависти всех раскольников Брынского леса. Ученик знаменитого наставника черноболцев, Антипа Коровьи Ножки, он сам был известен во всех скитах под именем Волосатого Старца. Его прямой и узкий лоб, его бездушные, оловянные глаза, бессмысленные взгляды и совершенное отсутствие выражения в этих пошлых чертах лица, безжизненного в высочайшей степени, – все носило на себе отпечаток и природной глупости, и совершенного невежества. Если б борода этого лысого старика была не длиннее обыкновенных бород, то, вероятно, он прожил бы незаметно свой век в толпе безграмотных рядовых раскольников, которые повинуются своим наставникам из-за того, что они люди начитанные, и слепо верят им потому, что они говорят с ними языком, похожим на церковный язык, которым писаны все наши духовные книги.
Казалось, случай как будто бы нарочно свел вместе этих трех раскольников, чтобы олицетворить перед глазами Левшина три главных начала почти всякого раскола: безумный фанатизм, фарисейское лицемерие и глубокое, закоснелое невежество. Остальные три раскольника, сидевшие за столом, не отличались ничем от обыкновенных зажиточных мужиков и, по-видимому, не принимали никакого деятельного участия в беседе своих старшин.
– Оле бедствие!.. Оле скорбь неусладимая!.. – говорил старец Пафнутий. – Православные призывают еретиков, отрекаются от своего обета!.. Да потребит же Господь от земли память сих окаянных отступников!.. Да воспомянутся беззакония отцев их пред Господом, да приидет на главу их…
– Эх, полно, отец Пафнутий, не кляни! – прервал Филипп. – Или ты не ведаешь, что от изрекающих проклятия отвращается Господь, ибо гортань их яко гроб отверстый. Прежде бывшие братья и сестры наши не до конца свершили свой подвиг, – так что ж?.. Коли было начало благое, так будет и конец благой; а что они призвали на помощь еретиков и те их выручили, так в этом мы сами виноваты; коли они волей пошли в запощеванцы, так мы бы могли им и здесь в скиту местечко найти, здесь бы их никто не выручил. Вот, погоди, они вернутся к нам со своими пожитками.
– Да не дерзают! – закричал Пафнутий. – И како возмогут сии нечестивые грехолюбцы и плотоугодники внити во святые врата обители нашей.
– Ну, коли не во святые, так мы проведем их и задними. Я приму их с любовью, яко заблудших овец…
– Недостойное глаголеши, брате Филиппе! – прервал Пафнутий. – Скорее тьме смешатися со светом, чем единому из братии наших иметь общение и любовь с ними, отступниками от православной веры…
– Эх, отец Пафнутий! Да ведь человек слаб: протекая свое поприще, он претыкается, а претыкающийся падает – потщимся же восставить его. Ты станешь их увещевать, я тебе пособлю, и, может быть, они опять пойдут охотно в запощеванцы…
– А не захотят охотою, так можно и поневолить, – проговорил долгобородый.
– Ни, ни! – завопил Пафнутий. – Не достойны бо стяжать светлые венцы мученические. Пусть гибнут окаянные во грехе своем.
– И впрямь, – промолвил долгобородый, – пусть гибнут во грехе!
– Ну, как хотите!.. Так мы их в скит не пустим, а пожитки их оставим у себя.
– Нет, брате Филиппе! – прервал Пафнутий. – Все их доброе, сиречь пожитки, яко еретикам принадлежащие, да предадутся огню.
– Огню! – повторил Филипп. – Что ты, отец Пафнутий!.. Как станем этак все предавать огню, так нам и перекусить нечего будет.
– Да, братие! – продолжал Пафнутий. – Да! И пепел оных развейте по ветру, да не како прикасаясь к достоянию нечестивых, осквернимся и мы, православные.
Кошачьи глаза Филиппа завертелись во все стороны, он приподнялся, хотел что-то сказать, но вдруг остановился и начал молча перебирать свои четки.
– Истинно так! – промолвил долгобородый. – И покойный наставник мой Антипий увещевал братию сохранять себя от осквернения; он часто говаривал, что коли где погребен еретик, и на могиле его вырастет трава, и той травы пощиплет корова, и от этой коровы кто из братии выпьет молочка, то отлучить такового на шесть месяцев от церкви и троекратно читать над ним молитву от осквернения.
– Эх, братие, братие! – заговорил опять Филипп кротким и тихим голосом. – Да ведь и скверное, проходя чрез руки православных, освящается. Мало ли из наших и продают, и покупают, и деньги на торгу берут, а из каких они идут рук?
– Деньги! – прервал Пафнутий. – Берегитесь, братие, сей прелести сатанинской!.. Деньги бо суть печать антихристова.
– Деньги печать антихристова! – повторил Филипп, вовсе уж не кротким голосом. – Нет, отец Пафнутий, не безумствуй!.. Деньги дар Божий.
– Дар Божий!.. О людие крепковыйные и с окаменелым сердцем!.. Да разве ты не читал, Филипп, о звере и драконе антихриста?
– Читал.
– А что же мнится изображенным на сих еретичных деньгах – не дракон ли? Как же они не суть печать антихристова?
– Эх, Пафнутий! Да на них изображен Георгий Победоносец, поражающий дракона, сиречь сатану.
– Толкуй по-своему, толкуй!.. Нет, брате Филиппе, нечиста твоя вера. Се бо плоды кичливой мудрости бывшего твоего наставника – Андрея Поморянина. Берегись, возлюбленный Филиппе, берегись внимать льстивым речам сего прелестника!.. Не пастырь бо есть овец, а наемник… Что глаголю – наемник!.. Волк бо есть, пожирающий стадо!
– Ну, хоть и не волк, – прервал с приметным удовольствием Филипп, – а нечего греха таить: отец Андрей не великий ревнитель православия – осуетился, обмирщился!.. Да все-таки каков ни есть, а ведь другой заступы у нас нет… Кабы не он, так давно бы нам от прежнего мещовского воеводы житья здесь не было. Вы все ведаете, что благочестивая наша царевна Софья Алексеевна в своей царской милости его содержит и не токмо жалует, но даже грамотки к нему пишет: так поди-ка – обличи его!
– Обличу нещадно сего мироугодника! – воскликнул Пафнутий. – Не убоюсь ни льва, ни скимна…
– Ну хорошо, хорошо! – прервал Филипп. – Да речь теперь не о том. Послушайте, братие: мы захватили одного из проезжих еретиков, посягнувших на свободу служения нашего…
– Да, да! – сказал Пафнутий. – Святые угодники невидимо поборали с нами, и сей буйный нечестивец взят и ввержен в узилище…
– Сиречь заперт в моей кладовой. Да что ж мы станем, православные, с ним делать?
– Вестимо что, отец Филипп, – сказал один рыжий раскольник из числа тех, которые не принимали еще участия в беседе. – Не отпустить же его с поклоном домой!.. Ведь он, проклятый, разнес тесаком, почитай, надвое голову брату Федосею. Бог весть, будет ли жив?
– Так что ж, торговаться с этим еретиком? – подхватил долгобородый. – Петлю ему на шею…
– А мы с братией вот как думаем, – продолжал рыжий, – держать его взаперти, да не давать хлеба: пусть себе умирает своей смертью.
– Яко благочестивый запощеванец? – прервал Пафнутий. – Нет, братие, да не будет! Пусть гибнет сей еретик по закону, сказано бо есть: подъявший меч, от меча да погибнет!
– Оно так! – промолвил вполголоса Филипп. – Да чтоб оглядок не было. Ведь он был не один.
– Да тот в донос не пойдет, – сказал рыжий. – Гаврила так хватил его по маковке дубиною, что он и не пикнул.
– Полно, так ли?
– Да уж не бойся, отец Филипп, не встанет!
Во всякое другое время Левшин пришел бы в отчаяние от этих слов: он истинно любил верного своего слугу, но на этот раз его собственное положение было так ужасно, что ему некогда было пожалеть о бедном Ферапонте.
– Ну, это дело другое! – сказал, помолчав несколько времени, Филипп. – Коли того убили, так этого нельзя помиловать: живая улика! Да что это у вас за обычай такой?.. Одного уходят, а другого нет. Иль вы не знаете пословицы: семь бед – один ответ?
– Да вот отец Пафнутий указал нам захватить их живьем; их, дескать, допросить надобно: они подосланы от врага нашего, калужского архиерея.
– Истинно так! – подхватил Пафнутий. – Не странники бо суть мимоидущие, но лукавые соглядатаи.
– Сиречь языки? – сказал Филипп. – Нет, отец Пафнутий! Коли бы они были языки, так не полезли бы с нашими в драку: все бы втихомолку высмотрели, а там подали бы изветь калужскому архиерею или мещовскому воеводе. Да это все равно: подослан ли он или нет, а коли отпустим его живого, так он докажет на нас, что мы убили его товарища. Ну делать нечего, жаль молодца, да своя рубашка ближе к телу… Чу!.. Что это? Кто-то въехал к нам на двор… Что больно поздно?.. Кому бы кажется?..
– Отец Филипп, – сказал молодой детина, входя поспешно в избу. – Андрей Поморянин приехал.
– Андрей Поморянин!.. Зачем?..
– А вот как скажу, так узнаете! – раздался в дверях громкий голос.
– Отец Андрей! – вскричал Филипп, вставая.
Все собеседники его также встали, исключая Пафнутия, который, однако ж, поотодвинулся, чтоб очистить место для приезжего гостя. В избу вошел человек пожилых лет. Мы не станем описывать его наружность, потому что она известна нашим читателям. Левшин с первого взгляда узнал в нем проезжего раскольника, с которым повстречался на постоялом дворе.
II
Когда этот проезжий, которого называли Андреем Поморянином, помолился перед иконами, Филипп сказал ему с низким поклоном:
– Милости просим, батюшка!.. Радуюсь твоему посещению и творю земной поклон!..
– Дозволь, отец Андрей, и мне, – промолвил почтительно рыжий раскольник, – приветствовать тебя с нижайшим поклоном.
Все остальные раскольники отвесили также по низкому поклону, исключая Пафнутия, который сидел, не трогаясь, на своем месте.
– И я бы вас приветствовал, – сказал приезжий, окинув строгим взглядом всех присутствующих, – и я сказал бы: мир вам, братие! Да язык не повернется. Нет мира для вводящих богопротивные ереси; нет мира для вас, окаянных душегубцев, всуе призывающих имя Господне!
Эти неожиданные слова совершенно смутили Филиппа и всех прочих раскольников; один Пафнутий вскочил со своего места и хотел что-то сказать, но приезжий не дал выговорить ему ни слова и продолжал своим громовым голосом:
– Безумные! что вы это опять затеяли?.. Морить людей голодной смертью! Тому ли я учил тебя, Филипп, когда ты жил в поморье и был моим келейником?.. Ты человек грамотный, сам испытывал Писания, так говори же при всех: со времен апостольских бывали ли когда вольные мученики, по-вашему запощеванцы?.. Святые отцы наши ради того, чтоб победить земные страсти, постились, умерщвляли плоть свою; кто уморил себя гладом?.. Мученики!.. Да мученик тот, кого враги православия предают страдальческой смерти и кто, несмотря на все истязания, остается верен своему Господу. Вот если бы тебе, Филипп, должно было избрать казнь или отречение от православной веры отцов наших; когда бы тебе сказал судия неправедный: «Филипп! прими нашу новую никонианскую веру или гряди на место казни». О! Тогда иди смело на все мучения, иди, раб Божий, с радостью и веселием; ибо чело твое украсится нетленным венцом мученика. Если даже ты, дабы не осквернить себя, вкушая пищу из одной чаши с еретиком, погибнешь от глада, то и тогда страдальческая смерть твоя вменится тебе в добрый подвиг. Но тот, кого никто не вынуждает отступить от веры православной, кто может вкушать от трапезы братьев своих и просто, по собственному своему изволению, уморить себя гладом, сожжет огнем или предаст иной какой лютой смерти, – тот не мученик, а самоубийца, а наставники его – душегубцы, ибо навеки погубили его душу… Ты ведал все это, Филипп, для чего же ты дозволил?..
– Согрешил, батюшка! – сказал Филипп, смиренно преклонив голову. – Обезумел!.. Вот старец Пафнутий прельстил нас!..
– Да, да! – повторили вслед за Филиппом и другие раскольники. – Старец Пафнутий прельстил нас!
Пафнутий вскочил со своего места, глаза его сверкали, как у дикого зверя, посиневшие губы дрожали, вместо слов вылетали из уст его невнятные звуки – и вот, наконец, он завопил неистовым голосом:
– О, маловеры окаянные!.. Ученицы непотребные! Рабы неключимые!.. Тако ли посеянное мною в сердцах ваших семя, не возникнув, погибло от хульных речей сего нечестивого Поморянина?.. Бегите убо, предатели, да не како пожрет вас огнь небесный!.. А ты, проклятый миролюбец, волк хищный, облеченный в одежду пастыря, внимай своему обличению…
– Умолкни, окаянный! – прервал Андрей. – Давно ли ты сгубил всю братию в Фаддеевском скиту, уговоря их креститься по-твоему, каким-то крещеньем огненным… Теперь опять за то же?.. Ступай на свою сосну, спасайся на ней, как умеешь, но с нами нет тебе части!.. Послушайте, братие! – продолжал он, обращаясь к другим раскольникам. – Я не стану препираться с этим полоумным о вере, и коли вы желаете со мною примириться, так извергните его немедля из среды вашей и дайте мне клятвенное обещание отныне и навсегда не иметь никакого общения с этим звероподобным старцем.
– Ну что же, братие? – сказал Пафнутий, окинув быстрым взглядом всех учеников своих. – Что медлите?.. Изгоняйте вашего наставника!
– Да не гневайся, отец Пафнутий, – промолвил Филипп, – мы батюшку нашего, отца Андрея, на тебя не променяем.
– О, мерзость запустения! – возопил Пафнутий. – Приемлется наемник злочестивый, изгоняется пастырь добрый!..
– Да что, Пафнутий, – сказал один из раскольников, который еще не говорил ни слова, – коли доподлинно никто из святых отцов не был запощеванцем, так чему же ты нас учил?
– Истинно так! – похватил долгобородый. – Коли и угодники Божия вкушали пищу, так какой след нам, грешным?..
– Соблазнил ты нас, старец Пафнутий! – прервал рыжий раскольник. – Бог тебе судья!
– Ступай-ка добро, ступай! – промолвил долгобородый. – Чай, на твоей сосне грачи-то уж гнезд навили.
– С Богом, Пафнутий, с Богом! – сказал Филипп, указывая рукою на дверь.
Пафнутий подошел молча к дверям, схватил с полки глиняный горшок, ударил его оземь и, указывая на черепки, воскликнул:
– Тако да сокрушит Господь главы ваши, Иуде подобные отступники и предатели!.. Да постигнет вас скорбь земная и гибель вечная!.. Да приложит Господь беззакония к беззакониям вашим!.. Да будет ваш пост пресыщением, молитва грехом и хвалебная песня хулою!.. Се отрясаю на вас и прах, прилипший к ногам моим!.. Да будет тако, да будет!
– О Господи! – прошептал рыжий, глядя вслед уходящему Пафнутию. – Как он клянет!
– Эх, не ладно! – сказал долгобородый, почесывая затылок. – Чтоб худо не было!.. Вы слышали, православные, что он нам сулит?
– Слышали! – отвечали вполголоса все раскольники, поглядывая друг на друга с приметным ужасом.
– Что вы это, братие, чего испугались? – спросил Андрей.
– Да как же, батюшка! – промолвил долгобородый. – Разве ты не слышал?.. Старец Пафнутий проклял нас!
– Так что ж?.. Проклятия, изрекаемые нечестивым, падают на главу его.
– Вестимо! – подхватил Филипп. – Ну, чего вы испугались?.. Да пусть себе лается, над ним бы и тряслось, – разбойник этакий!.. Все горшки у меня перебил!
– Я давно бы спровадил его из наших мест, – сказал Андрей, садясь в передний угол, – да боюсь, чтоб этот шальной и вас всех не оговорил: и так идут о вас дурные слухи… Эх, братие, братие! губите вы вашими делами нашу правую веру!.. Да что ж вы стоите?.. Садитесь! Мне надобно еще о другом побеседовать с вами.
Когда все поместились кругом стола, Андрей, обращаясь к Филиппу, сказал:
– У вас сегодня в сумерки была в лесу драка с проезжими?
– Была, батюшка! – отвечал Филипп.
– За то, что они помешали Пафнутию довершить его беззаконное дело?
– Да мы еще тогда, отец Андрей, думали, что дело-то наше законное.
– Лжешь, Филипп! Ты и тогда этого не думал.
– Покарай меня, Господи!..
– Полно, Филипп, не клянись, не прилагай греха к греху!.. Ну, пусть другие это думали, а ты себе на уме!.. Эх, Филипп, заела тебя корысть!.. Ну, да речь не о том. Вы захватили одного из проезжих.
– Не я, отец Андрей!.. Я не указывал никого брать. Все это старец Пафнутий переполошил всю братию. Это, дескать, языки калужского архиерея – их надо допросить.
– Я не о том тебя спрашиваю. Один из этих проезжих у вас ли теперь в скиту?.. Ну, что же ты молчишь?.. Уж не опоздал ли я?.. Избави Господи!.. Да отвечайте же мне, жив ли этот проезжий?
– Живехонек, батюшка, – сказал долгобородый. – Он сидит теперь в кладовой отца Филиппа.
– Ну, слава тебе, Господи! – промолвил Андрей, перекрестясь. – Отлегло от сердца!.. Да знаете ли вы, глупые, кто этот проезжий?.. Ведь он человек не простой: он из начальных людей стрелецкого войска и прислан сюда не от калужского архиерея, а едет из Москвы с грамотой к боярину Куродавлеву.
– К боярину Куродавлеву! – повторили с робостью все раскольники. Филипп побледнел.
– Да, к боярину Куродавлеву, – продолжал Андрей. – Дело то не шуточное. Его надо немедленно освободить.
– Освободить? – сказал Филипп. – Нет, отец Андрей, это легко вымолвить… Ведь он одного из наших вовсе изувечил… полно, будет ли жив.
– А что ж ему было делать?.. Не шею же протянуть, когда на него напали!
– Да это бы уж так и быть! А вот что худо, батюшка: коли мы его отпустим, так нам всем беды не миновать… А все этот озорник Пафнутий!.. Сидел бы да сидел на своей сосне – сыч этакий!
– Да чего же ты опасаешься?
– Как чего?.. Ты нас, батюшка, не выдашь? Ну, был грех, что делать! Улики бы только не было, так и все концы в воду!.. А коли мы этого проезжего выпустим, да он донесет, что мы товарища его убили…
– Вот то-то и дело, что Господь вас помиловал. Вы его не убили: он теперь у меня в скиту.
– Как так? – вскричал Филипп. – Как же ты мне сказал, Ефрем…
– Сам видел, отец Филипп! – прервал рыжий. – Экое диво, подумаешь!.. Так Гаврила его только что оглушил?.. Ах, Господи!.. Ну, видно, у него лоб-то чугунный!
– Этот слуга стрелецкого сотника, – продолжал Андрей, – рассказал мне обо всем. Коли вы сегодня не отпустите его господина, так он завтра отправится к Куродавлеву; а вы знаете этого боярина: он шутить не любит. Как нагрянет к нам со своими холопами, так вы от него и места не найдете.
– Сохрани Господи! – вскричал Филипп.
– Да, да! – сказал долгобородый. – Коли дадим ему отпор, так он и скит-то наш по бревешку размечет.
– А коли покоримся, – промолвил рыжий, – так, чего доброго, он всех начальных людей в скиту, сиречь нас, отдерет нещадно батогами.
– Так мешкать-то нечего, – молвил Андрей, вставая. – Я возьму этого проезжего с собою, пусть он переночует в моем скиту… Пойдем, Филипп!
Если вам случилось видеть во сне, что вы приговорены к смерти или – что еще ужаснее – что ваша земная подруга, которую вы любите более своей жизни, лежит в гробу, что вы не можете ни плакать, ни вздыхать, и с чувством, которому нет названия, с этим чувством вечной, безнадежной скорби, смотрите на ее безжизненное лицо, покрытое смертною бледностью… и вдруг вы пробуждаетесь, и первый взгляд ваш встречает приветливую улыбку той, которая за минуту до того казалась вам бездушным трупом; если вы испытали на себе и весь ужас этого тяжкого сна, и все блаженство этого радостного пробуждения, то вы можете иметь некоторое понятие о том, что чувствовал Левшин. Казалось, что могло быть отчаяннее его положения? Ферапонт погиб, он сам под ножом убийц, для которых смерть его необходима, – и вот верный слуга его жив, а он свободен и, может быть, проведет остаток этой ночи под одной кровлей с той, которую и в мечтах своих он не надеялся уж встретить в здешнем мире!.. О, конечно, такие быстрые переходы от совершенного отчаяния к неизъяснимой радости бывают редко наяву.
Когда Андрей Поморянин вслед за Филиппом вышел из избы, Левшин отправился также назад в свою кладовую. Он только что успел спуститься с лестницы, как послышался снаружи звук ключей, и тяжелая дубовая дверь со скрипом отворилась. Филипп вошел первый; он держал в руке фонарь.
– Здравствуй, господин честной, – сказал он. – Я пришел освободить тебя. Не погневайся, батюшка! теперь только узнал… Ах, Господи, Господи!.. Этот безумный старец Пафнутий переполошил всю братию, да каких было дел наделали!.. Вот твой тесак, батюшка, – целехонек!.. Да пожалуй-ка, – продолжал он, поставив свой фонарь на один из сундуков, – пожалуй, я тебе ручки то развяжу!.. Ахти! Да что ж это?.. У тебя руки не связаны!
– Нет, любезный!
– Ах, они дурачье, дурачье!.. Посадить человека в кладовую…
– Не бойся! – прервал Левшин. – Все твои пожитки целы.
– Да твоя милость дело другое: вестимо, ты ничего не украдешь, а ведь они сглупа-то, не связавши руки, посадят всякого ко мне в кладовую. Ну, случись кто-нибудь другой – так долго ли до греха?.. Здесь всего довольно… Экий глупый народ!
– Пожалуй со мною, молодец, – сказал Андрей, – я отвезу тебя в мой скит. Твой слуга, кони и пожитки, все там.
– Да не обождать ли вам, как начнет светать? – промолвил Филипп, посматривая заботливо на свод сундуки.
– И теперь доедем, – сказал Андрей. – Дорога-то знакомая.
Они вышли на двор. У крыльца большой избы стояла телега, запряженная парой пегих лошадей. На передке сидел тот самый рослый детина, которого Левшин видел на постоялом дворе.
– Ну, садись, молодец! – сказал Андрей Поморянин Левшину. – Поедем!.. Тебе, я чаю, пора отдохнуть: понатерпелся ты сегодня… Ступай, Егор, – продолжал он, – теперь шажком, а как спустимся в овраг да переедем за Брын, так рысью. Ну, с Богом!
Когда они въехали на противоположный берег оврага и повернули направо лесом по торной и довольно широкой дороге, Левшин сказал своему спутнику:
– Ведь мы, кажется, любезный, не в первый раз с тобою видимся?
– Да, – отвечал Андрей, – мы сегодня кормили вместе с тобою на постоялом дворе… Ну вот, господин сотник, ты все добивался, чтобы я сказал тебе, куда еду. Видишь ли, что мы и сами не знаем, куда нас приведет Господь? Думаешь ехать в одно место, а попадешь в другое.