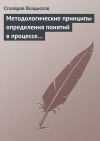Текст книги "Избранные работы по культурологии"

Автор книги: Н. Хренов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
1.19. Беспредметное искусство как одно из наиболее репрезентативных явлений Серебряного века. Феноменологический аспект беспредметного искусства
В искусстве Серебряного века, может быть, самым удивительным является то, что, затухая в своем развитии, символизм постоянно возрождался. Но уже в форме других течений и направлений, утверждавших по отношению к нему свою оппозиционность. Так происходило с акмеизмом, когда Н. Гумилев оказался в оппозиции и к символизму, и к А. Блоку. «Турнир» Блока с Гумилевым, – пишет С. Маковский, – начался на моих глазах и кончился только в 1921 году – смертью замученного личными невзгодами и разочарованием в революции Блока и расстреллянного в подвалах Гепеу Гумилева» [190, с. 238]. Но в особенности так произошло с футуризмом, подававшим себя антагонистом символизма, но на самом деле таковым не являющимся. Как утверждает О. Ханзен-Леве, полемическая и поверхностная критика символизма футуристами была лишь «внешней завесой глубокого духовного родства в языковом мышлении» [352, с. 111]. В этом родстве исследователя убеждало и «будетлянство» Хлебникова, и суждения Крученых, Д. Бурлюка и В. Каменского.
Остановимся, однако, на том, что обычно называют абстрактным или беспредметным искусством, которое тоже имеет свои истоки в символизме. Без этой разновидности искусства характеристика Серебряного века была бы неполной. Как символизм, так и последующие авангардные течения, в частности, беспредметное искусство – разные проявления культурного единства, обозначаемого Серебряным веком. Серебряный век некоторые даже склонны отождествлять исключительно с историей символизма. Так, для И. Азизян начало Серебряного века связано с рождением символизма и модерна, а его закат с возникновением авангарда [6, с. 245].
Но как оторвать авангард от символизма, когда современное искусствознание приходит к пониманию их преемственности? Ведь и то, и другое объединяет идея тотального пересоздания жизни, которая в эпоху Серебряного века будет реализовываться пока в художественных формах, а в последующую эпоху развернется уже в самом социуме. Символизма без тяготения к реабилитации художественных форм успевших угаснуть цивилизаций не существует. Но как засвидетельствовал В. Воррингер, эти угаснувшие цивилизации вызвали к жизни условные формы искусства и, в том числе, например, так называемый геометрический стиль, возрождающийся в авангарде.
Не случайно Ф. Ницше перестает следовать открывшему классическую Грецию Винкельману и открывает архаическую Грецию. Там, в средневековой эпохе античности, он находит смыслы, что оказались забытыми, но вновь актуальными. Речь идет не только об открытии им дионисийской стихии, но и об обнаружении той древней художественной традиции, которая в беспредметном искусстве воскресает. Разве не удивителен тот факт, что беспредметное искусство не только не обошло Россию, но именно Россия и продемонстрировала свою активность в реабилитации платоновской эстетики?
Ведь что такое беспредметное искусство, как не демонстрация платоновских идей или эйдосов? «Художественный экстремизм авангарда – констатирует исследователь – возник в стране, где за сотню километров от большого города не было никаких признаков технизированного человечества и т. п.» [73, с. 17]. К таким выводам можно прийти, если в понимании авангардного искусства исходить из возрастающего вторжения техники в жизнь и разложение вследствие этого привычной целостной картины мира, что, собственно, цитируемый нами исследователь и делает.
Между тем, исходить следует не из процессов технизации искусства и жизни, а из реальности беспрецедентной переходности, что развертывается на рубеже веков и что воспоминание о предшествующих художественных эпохах активизирует. А вспомнить в России как раз было о чем. Ведь вплоть до XVII века столь мощная в русской культуре иконопись исходила именно из платоновской эстетики, из реальности чистого мира эйдосов. Эта традиция Древней Русью была заимствована из Византии. Но в чем исследователь, безусловно, прав, так это в том, что авангард потребовал нового восприятия, «признаком которого является не «понимание» – подход к произведению с культурным багажом, – а, наоборот, освобождение от всего накопленного опыта, очищение аппарата восприятия до tabula rasa и терпеливое ожидание того, чтобы «глаза открылись» [73, с. 27].
Но ведь такое понимание нового восприятия как раз и соответствует феноменологическому методу, который для искусства правомерен так же, как и для философии. В исследовании, посвященном культуре, невозможно не коснуться тех процессов, что развертываются одновременно и в искусстве, и в философии. Видимо, то, что приносит с собой авангард, способна прояснить лишь возникающая одновременно в философии феноменология. «Феноменологическая или экзистенциональная философия, – пишет исследователь, – определяет своей задачей не объяснение мира или выяснение условий его возможности, но выражение опыта мира, контакта с миром, который предшествует любому мышлению о мире» [418, с. 440].
Вот это касающееся сути феноменологии замечание для понимания беспредметности искусства, пытающегося вернуть то состояние сознания, которое предшествует множеству наслоений в интеллектуальных структурах поздней истории весьма важно. Мы уже отмечали стремление нового искусства возродить архаику, а вместе с ней и архаические формы сознания. Но эта тенденция обычно осмысляется отдельно от новаций авангарда. Между тем, это общий процесс, о котором интересно рефлексирует Л. Бакст. Пожалуй, именно Л. Бакст разгадывает это поразительное стремление искусства Серебряного века возродить архаику.
Для него это возможность преодолеть многочисленные наслоения эпох, груз традиций, наследие великих культур и в древних, давно угаснувших, но когда-то переживающих эпохи становления культурах отыскать «росток» или «завиток» нового искусства. Такой «завиток» или «росток» Л. Бакст усматривает, например, в критской культуре. «Мы знаем тоже, – пишет Л. Бакст, – какой шумный успех имеет теперь в Европе новооткрытая Эвансом и Гальг – Гером, критская культура – вчера, почти незнакомое слово, – сегодня новый завиток античного искусства, близкий, почти родной нам! Это – самостоятельный извив от египетского и халдейского искусства в область, полную неожиданных смелостей, полуосознанных дерзостных разрешений, легких, блестящих побед, трепещущего жизнью стиля. Критское искусство дерзко и ослепительно, как безумно-смелая скачка нагих юношей, великолепно вцепившихся в косматые пахучие гривы разгоряченных коней… В этом близком нам искусстве нет высеченного, остановившегося совершенства Праксителя, нет почти абсолютной красоты Парфенона. Критская культура не доходила до исключительной высоты, дальше которой – абстракция или изнеженность. Поэтому она ближе, роднее новому искусству своей полусовершенностью: человеческими усилиями – улыбками веет от нее. И естественно, современный художник невольно останавливает на Критской культуре внимательный взгляд, не-обезнадеженный недосягаемыми вершинами совершенства. Из-за вольного орнамента, из-за бурной фрески глядит молодой острый глаз Критского художника, вечно улыбающегося ребенка. От такого искусства можно привить росток» [18, с. 51].
Это суждение Л. Бакста проясняет тот восторг, который продемонстрировал В. Брюсов, описывая археологические открытия последнего времени, восторг от совпадений, улавливаемых им в современном ему искусстве и искусстве Крита и Микен. Свою мысль о причинах интереса нового искусства к архаике сам Л. Бакст иллюстрирует с помощью творчества Гогена, Матисса и Мориса Дени. Касаясь вопроса о причинах возникновения в мировом искусстве беспредметности, в качестве такой причины иногда усматривают проникновение техники во всех сферы – вопрос вообще-то для многих, в том числе, и для Н. Бердяева, в высшей степени болезненный. Это связывается с утратой интереса к предметному миру и с угасанием мимесиса в его элементарном, т. е. аристотелевском смысле. Угасание мимесиса объясняется распространяющимся равнодушием к природному миру, хотя с этим выводом следовало бы спорить.
Но с чем, может быть, можно согласиться с исследователем, так это с тем, что из нового искусства исчезает человек. Эту закономерность фиксировал уже Л. Бакст, констатируя в импрессионизме преобладание пейзажа, а не человека. Так, согласно Л. Баксту, такие художники, как Моне и Сезанн обезлюдили свои холсты, а у Синьяка человек превращен в живописное пятно [18, с. 59]. Однако параллельно этому возникающему в результате эйфории от технических изобретений равнодушию к природному миру развертывается интенсивный процесс урбанизации, рост городов, как и художественных центров. Этот процесс вызывает к жизни обостренное чувство природы, а вовсе не равнодушие к ней. Собственно, именно этот комплекс весьма активен в том же импрессионизме, в котором рождается уже и символизм.
Правда, подхватывая в импрессионизме эту страсть к запечатлению мгновений настоящего, что так обращает на себя внимание в творчестве К. Бальмонта, символизм в то же время со временем экспериментирует и в другом направлении. Эти его эксперименты касаются уничтожения времени в его позднем, определившем историографию Нового времени позитивистском понимании. Символизм в то же время ориентирован на разрушение установившихся в Новое время в восприятии времени традиций и на выход в специфическое время – время мифа. Это вытекает из того обстоятельства, что символизм является вторым рождением романтизма, а романтизм, как известно, первое направление в Новое время, которое оказывается в оппозиции раннему модерну. Романтизм первым реабилитирует миф.
То же продолжает делать и символизм, для которого, как признавали все символисты, миф – значимый признак всякого художественного творчества, понимаемого как мифотворчество. Интерес к мифу со стороны символистов, делающий их творчество для всей последующей истории искусства весьма важным, заслуживает внимания еще и потому, что он позволяет углубиться в определяющее понятие символизма, т. е. символ. Ведь символ, совершенно немыслимый с точки зрения позитивистского мышления, если его не соотносить с мифом, и в самом деле непонятен.
Но когда речь идет о мифе, то следует также иметь в виду нечто больше, что позволяет опыты символистов рассматривать уже в контексте не только искусствоведения, но и истории культуры. Ведь и символ, и миф являются признаками того, что представляет сверхчувственная стихия. Сегодня это сложно понять, поскольку все наше мышление пропитано и продолжает быть пропитанным позитивизмом, а для позитивизма существует лишь чувственная стихия.
Всю эту культуру, что начинается с Ренессанса, П. Сорокин именно поэтому называет культурой чувственного типа. Эта культура всякий намек на существование трансцендентной реальности исключает. Но в том-то все и дело, что, устраняя сверхчувственную реальность, не допуская возможности ее существования, позитивизм как наиболее универсальный признак культуры этого типа не допускает и символических форм выражения. С точки зрения позитивизма говорить о символе невозможно, хотя по инерции его продолжают употреблять и искусствоведы, и филологи. Но вне сверхчувственного говорить о символе невозможно.
Символизм вообще, символизм как проявление всех значительных эпох в истории культуры, а не только искусства рубежа XIX–XX веков призван для выражения сверхчувственной реальности. Именно потому, что на рубеже XIX–XX веков возрождались символические формы выражения, символисты ощутили и постарались осмыслить свое неприятие позитивизма. Это было не их личным делом. В этом проявилась наиболее значимая тенденция, без которой этой эпохи не существует. Эта тенденция связана с тем, что в истории начал развертываться переход от культуры чувственного типа к альтернативной культуре. Определяющим признаком этой новой культуры стала реабилитация сверхчувственного, потребовавшего символических форм выражения.
Для выражения специфических смыслов было уже недостаточно прибегать к помощи понятия, знака или образа. Необходимо было реабилитировать символ. Но, реабилитируя символ, символисты творили новую культуру, что вообще ими осознавалось и доказывалось. Эту альтернативную культуру, возникающую на основе сверхчувственного, П. Сорокин называл культурой идеационального типа. В названии культуры этого типа уже улавливается реабилитация платоновской эстетики, а для нее, как известно, центральным понятием было понятие «идея».
Для того, чтобы продемонстрировать, каким значимым для символистов оказалось понятие «идея», сошлемся на А. Белого, признававшегося в том, что способность «увидеть идею» у него появилась во время увлечения философией А. Шопенгауэра. «…Прочитав «Эстетику» Шопенгауэра (третья часть «Мир как воля и представление»), я, – пишет А. Белый, – пленился идеей Шопенгауэра о непосредственной возможности «увидеть идею»; и я каждый день останавливался на прогулке перед, например, домом: и зрительно учился видеть стилистическое целое его формы (безотносительно к улице, нелепым вывескам) как нечто основное; я считал, что вижу «идею» дома, когда это удавалось.» [23, с. 325]. Это новое, культивируемое А. Белым зрение так его занимало, что к этой мысли он возвращается еще раз: «… Я учился в природе видеть «Платоновы идеи»; я созерцал дома и простые предметы быта, учась «увидеть» их вне воли, незаинтересованно…»[23, с. 338].
Эти признания А. Белого весьма показательны. Прежде всего, потому, что они возвращают одновременно и к А. Шопенгауэру и в то же время к Канту, которого А. Шопенгауэр высоко ценил, предпочитая его остальным философам. Ведь это уже Кант ставил вопрос о том, чтобы видеть предметный мир незаинтересованным зрением. Это означает, что лишь свобода от заинтересованности позволяет преодолеть мир как исключительно представление субъекта, к чему приводит гипертрофия воли.
Именно эта свобода позволяет прорваться к миру чистых форм, т. е. идей и эйдосов. Собственно, это и есть воспринятый уже сквозь призму платоновской философии Кант.
Подобное культивирование А. Белым при восприятии предметно-чувственного мира платоновских «идей» открывает мир новой эстетики как производное от становления новой альтернативной культуры, в которой мимесис в его аристотелевском понимании, взятом на вооружение Новым временем, уходит в прошлое. Альтернативная культура демонстрирует особую чувствительность к платоновской и даже плотиновской эстетике, о чем и свидетельствует живопись В. Кандинского и К. Малевича.
Пытаясь понять смысл беспредметничества, И. Вакар пишет: «Отличительной чертой восприятия нового искусства становится своеобразная «немота», невозможность адекватной вербализации художественного переживания» [73, с. 25]. Но ведь это и есть особенность плотиновской эстетики. Поэтому можно утверждать, что Серебряный век возвращает в искусство традицию неоплатонизма. Описанное Э. Панофским колебание в предпочтениях то к Аристотелю, то к Платону [244] на рубеже XIX–XX веков предстает в новом варианте. Эта столь очевидная в философии В. Соловьева особая чувствительность к Платону является определяющим в том движении к беспредметному искусству, которое является, может быть, главным, что пришло из Серебряного века в последующее искусство.
Чем ближе к XXI веку, тем становится все более очевидным, что авангардные течения в искусстве, достигшие в беспредметном искусстве своего высшего развития, являются самым определяющим и главным не только в искусстве рубежа XIX–XX веков, но и вообще в искусстве всего XX века. Это становится особенно очевидным с середины XX века, когда не только русское, но и вообще мировое искусство возвращается к истокам авангарда, утверждая, таким образом, его первостепенную роль в искусстве XX века. Если эта логика в России на рубеже веков еще постигается с трудом, поскольку десятилетия забвения художественного опыта Серебряного века сделали свое дело, то сегодня весь мир убежден именно в такой оценке авангарда.
Однако в связи с авангардом вот что интересно. Нарождающаяся новая культура оказалась в оппозиции по отношению к той науке, становление которой развертывается в границах культуры чувственного типа. Это недоверие к существующей науке получило выражение в «философии жизни», например, у Бергсона, резонанс идей которого как раз и развертывается на рубеже XIX–XX веков. А. Бергсона считают философом, по своему духу близким феноменологии. Как известно, в философской системе А. Бергсона ключевым понятием является интуиция. Но она важна и для феноменологов. Не случайно в беседе с Э. Гуссерлем М. Шелер утверждал, что «данные, поставляемые нашей интуицией, изначально гораздо содержательнее того, что можно было бы объяснить с помощью чувственных элементов, их производных и логических моделей унификации» [418, с. 251].
Судя по всему, Э. Гуссерль по этому поводу не мог ничего возразить, поскольку сходство своих идей с идеями А. Бергсона он признавал и сам. Когда же в 1911 году он познакомился с учением А. Бергсона, то воскликнул: «Мы – истинные бергсонианцы». Пожалуй, феноменология (а название нового философского направления впервые появилось у Э. Гуссерля в 1901 году [418, с. 114]) – то научное направление, которое, заявляя о своем критическом отношении к позитивизму, ставит весьма созвучные художественному опыту Серебряного века вопросы, в частности, оно способствует вниманию искусства этой эпохи к эстетике Платона. Не случайно исследователь истории феноменологии в интуиции общих сущностей у Э. Гуссерля усматривал платонизм [418, с. 426]. Что верно, то верно: исследователь истории феноменологии подтверждает: «Гуссерль всегда признавал свой долг перед Платоном как открывателем «единого» во «многом» [418, с. 656].
О том, что феноменология позволяет разгадывать смыслы, что возникают в искусстве авангарда, превосходно сказано Ж-П. Сартром. Так, в статье 1939 года «Фундаментальная идея феноменологии Гуссерля: интенциональность» Ж-П. Сартр в качестве заслуг Э. Гуссерля отметит то, что он «восстановил ужас и очарование вещей», а также возродил «мир художников и пророков» [418, с. 475]. Когда знакомишься с этим суждением, невольно вспоминаешь идеи К. Малевича. Но Э. Гуссерль также освободил искусство и от крайностей психологизма, что продемонстрировали уже романы Пруста.
Во всяком случае, блестящей русской филологической, так называемой «формальной» школой феноменологические идеи были усвоены. «Формализм» в филологии, как известно, был вызван к жизни художественным опытом русского авангарда и, в частности, футуризма. Эта связь между феноменологией и русским «формализмом» возникала благодаря Г. Шпету – ученику Э. Гуссерля [352, с. 174]. Может быть, возникшие в беспредметном искусстве смыслы можно прочесть, лишь опираясь на учение Э. Гуссерля, ведь, как известно, он при оценке происходящего в науке с начала XX века исходил из констатации кризиса существующей науки. С его точки зрения, лишь разрабатываемое им учение, которое и есть феноменология, выводило философию из тупика.
Что же бросается в глаза, прежде всего, когда речь заходит о феноменологии, с некоторых пор активно вторгающейся в искусство и способствующей постижению и интерпретации новых смыслов, что явились в творчестве авангардистов и, прежде всего, беспредметников? Заложенный в феноменологии первичный импульс связан со стремлением очистить восприятие человека от сопровождающих предметно-чувственный мир многочисленных наслоений. Это имеет прямое отношение к тому, как развертывающиеся процессы воспринимали и оценивали деятели Серебряного века.
В этом отношении весьма показательна опять же «Переписка из двух углов» В. Иванова и М. Гершензона. В суждениях философов улавливается неприятие того отчуждения, что проникло, в том числе, и в культуру и отделило человека от мира («Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса… От этого несметного безличного знания, от усвоенных памятью бесчисленных умозрений, истин, гипотез, правил мышления и нравственных законов, от всего этого груза накопленных умственных богатств, которыми каждый из нас нагружен, – то изнеможение, какое снедает нас» [140, с. 116]). М. Гершензон ставит вопрос о необходимости освобождения от этого груза наслоений.
В связи с феноменологией следовало бы уточнить формулировку, связанную с предназначением учения Э. Гуссерля. Очищение восприятий предметно-чувственного мира от различных наслоений в реальности можно представить как очищение от смыслов, вызванных к жизни в границах культуры чувственного типа, истоком которой является Ренессанс. В том числе, и от культивирования предметно-чувственного мира в искусстве. Как определяет феноменологическую редукцию Г. Шпет, она служит раскрытию сущностного, эйдоса, недоступного непосредственной чувственной стихии [352, с. 175].
Ну, как тут не вспомнить освобождающее живопись от непосредственных чувственных стихий беспредметное искусство. Такое очищение особенно очевидно проявилось в очищении искусства от психологизма. Без такого очищения авангарда и прежде всего футуризма просто не существует, что, кстати сказать, взято на вооружение в методологии «формальной» школы. Известно, что демонстративный антипсихологизм у футуристов имел место [352, с. 178]. Именно этот импульс объясняет тяготение художников к предренессансным эпохам, что, собственно, началось уже с прерафаэлитов XIX века.
Но в том-то и дело, что, начиная с символизма, авангард демонстрировал интерес к культуре многих, уже успевших угаснуть цивилизаций, в том числе, к архаическим культурам, но также и к архаическим, донаучным формам мышления, например, к тому же мифу. В этом смысле весьма показателен интерес Э. Гуссерля к восприятию мира не в духе претендующей на объективность науки, а как следствию «опыта живущего субъекта с его особенными перспективами, отчего он и предстает явно субъективным и относительным» [418, с. 167]. Яркую иллюстрацию мифологического и магического восприятия Э. Гуссерль находил в теории примитивного мышления Л. Леви-Брюля. Позднее, уже в 1935 году Э. Гуссерль признает, что французский ученый предвосхитил его взгляды [418, с. 167].
Однако с символизма начинается и интерес к предшествующим в истории искусства эпохам, в том числе, западного. Так, очевидно, что в начале XX века возникло тяготение к тем периодам, когда ренессанс еще не успел отделиться от Средневековья и в полотнах художников Проторенессанса продолжал сохранять то, что было характерным для Средневековья, т. е. сверхчувственное начало. Оно продолжало сохраняться даже в живописи высокого Ренессанса, поскольку, как доказывал Й. Хейзинга, отделить Ренессанс от Средневековья подчас просто невозможно. Тяготея к истокам Ренессанса, новое искусство опять же демонстрировало свою приверженность романтизму, реабилитировавшему, как известно, Средневековье.
Процитируем в связи с этим весьма показательное суждение П. Кончаловского, сделанное им в письме от 1908 года к И. Машкову. И. Машков писал П. Кончаловскому о том, что находился в восторге, созерцая в Италии фрески художников Проторенессанса. Реагируя на это признание, П. Кончаловский пишет о том, как важно увидеть художников раннего Ренессанса после того, как уже произошло знакомство с Ван Гогом, Сезанном и другими близкими им по способам выражения художникам, которых он называет «освободителями нашего времени». «Действительно, – пишет П. Кончаловский, – если Сезанн и Ван Гог показали, что самое ценное в искусстве – сохранение ребяческого чувства, не забитого условностями, созданными долгими веками, если они показали, что освобождение от всех этих традиций есть истинный смысл настоящего искусства, этим одним они открыли для нас целый мир образцов в тех самых фресках, которые теперь перед Вами» [163, с. 194].
Возвращение к первоистокам вытекало из первоочередной задачи авангарда, т. е. обновления восприятия мира, что совпадало с намерениями Э. Гуссерля в философии. Как В. Хлебникова интересовали архаические языковые пласты, так и других представителей авангарда притягивали архаические формы восприятия мира. В этом смысле весьма показательно признание феноменологами прежде не замечавшихся или игнорировавшихся видов опыта [418, с. 62].
Смысл феноменологического подхода четко сформулирована А. Райнахом. «Феноменологический метод должен научить нас видеть вещи, – писал он, – которые мы обычно склонны не замечать, находясь в нашей повседневной практической установке создания, и видеть их в их уникальной чтойности или сущности без привычных попыток свести их к минимальному возможному числу» [418, с. 217]. Это определение А. Райнаха любопытно еще тем, что оно напоминает концепт В. Шкловского, известный как «остранение», который А. Ханзен-Леве склонен рассматривать репрезентативным по отношению ко всему авангарду.
На первый план здесь в виде игнорировавшихся пластов опыта у авангардистов выходит опять же мифология. Такие пласты оживали в творчестве примитивистов. Так, на выставке «Золотое руно» (1909) были широко представлены предметы народного искусства (кружева, лубки, иконы, раскрашенные пряники и т. д.). В русском искусстве примитивизм связан с именами Д. Бурлюка, Н. Гончаровой, М. Ларионова. Известен интерес этих художников к древней скифской скульптуре, к полинезийскому искусству и искусству мексиканских индейцев [199, с. 36].
В качестве игнорировавшихся видов опыта, реабилитированных авангардом, можно назвать также интерес к детскому творчеству, к первобытному искусству и к фольклору. Это было характерным не только для символизма, но и для футуризма. Например, это свойственно для В. Хлебникова, А. Крученых и других. В использованном им приеме «заумной» речи улавливаются признаки детского сознания. Как утверждает О. Ханзен-Леве, это является существенным элементом их поэтики. «Это освобождение от утилитарного контекста и связанного с ним конвенционального видения, – пишет О. Ханзен-Леве, – подвигает ранних футуристов и на то, чтобы организовывать выставки детского рисунка, а также – параллельно этому и с тем же первично остраняющим смыслом – публиковать детские стихи и рассказы. Именно эти публикации демонстрируют далеко идущие конструктивные аналогии между детским языком и работающей в нем перспективой остранения и, с другой стороны, остраняющей семантикой «заумников» [352, с. 60].
Иногда можно констатировать попытки отдельно осмыслить, с одной стороны, стремление нового искусства имитировать детское сознание, а, с другой, тяготение к народному искусству или к архаическим формам искусства. Между тем, и то, и другое, и третье – лишь проявления одной общей тенденции. Но в этих разных признаках нового искусства Л. Бакст усматривает одну и ту же тенденцию – возродить то первичное и элементарное восприятие мира [18, с. 56], которое в соответствии с А. Лосевым и является изначальным и первичным, а, следовательно, мифологическим. Как пишет А. Лосев, миф – это первичная или примитивно-интуитивная реакция на вещи и, еще более точно, «дорефлективное, интуитивное взаимоотношение человека с вещами» [180, с. 70].
Этот осо бый интерес к детским рисункам характерен для В. Кандинского. Это не случайно, и в этом получает выражение значимая особенность искусства этого времени. «Для Кандинского, – пишет В. Турчин, – который ощущает стадиальность развития мира, «детскость» являлась «нормальным» явлением, ведь все надо было начинать сначала. Если алогичность – разрыв в системе, то тут можно присутствовать при самом сложении такой системы, почему не может никаких устойчивых формул пространства, в композиции отдельной сцены словно набегают друг на друга, а линии только начинают сращиваться» [330, с. 138].
Это проявление потребности стереть поздние напластования культуры и достичь тех состояний, когда природа не противостояла культуре, что так болезненно стало осознаваться в наше время. Вот этот импульс возвращения к первичному, изначальному, донаучному восприятию мира в яркой форме проявилось, в том числе, в поэзии Серебряного века. Может быть, поэтический ренессанс рубежа XIX–XX веков вообще следует рассматривать лишь в этой перспективе, т. е. в перспективе ситуации омертвения языка, находящегося под воздействием культивируемой научности в раннем модерне. Именно в поэзии авангард пытается обнаружить источники оздоровления языка и преодоления в нем тех наслоений, что возникли в культуре Нового времени.
С этой точки зрения поэзия – это то средство, которое возвращает и к мифу, и вообще к возникшим в архаические эпохи, но забытым смыслам. «Лишь в поэтическом языке сохранилось архаическое, первичное состояние человеческого сознания, – пишет О. Ханзен-Леве, – и потому поэтический язык образует – противопоставленный современному понятийно-рациональному языковому мышлению и его логике – своего рода архаический заповедник алогичного и лишенного перспективности мышления и воззрения на мир» [352, с. 38].
Не случайно в символизме лидирует поэзия, а не живопись. Именно символистская поэзия пытается вернуться к древнейшим языковым пластам и ввести их в употребление, что, естественно, отвечает и установкам феноменологов. Таким образом, феноменология помогает нам понять освобождение не только от логоцентризма поздней культуры, но и вообще от культуры чувственного типа, уступающей место альтернативной культуре. Вот этот сдвиг, пожалуй, и является универсальным признаком развертывания в Серебряном веке художественных и культурных процессов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?