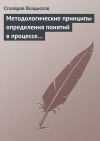Текст книги "Избранные работы по культурологии"

Автор книги: Н. Хренов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Имеет ли такая точка зрения какое-то оправдание? Были ли сами деятели Серебряного века по отношению к своей культурной эпохе критичными? Пожалуй, понять негативные оценки этой эпохи позволяют выводы Н. Бердяева. Будучи уже эмигрантом, он изложил их в 1923 году в своей работе «Конец Ренессанса (К современному кризису культуры)». В ней он формулировал: «Мы живем в эпоху духовного упадка, а не духовного подъема» [35, с. 23]. В данном случае философ имел в виду не только Россию. Восприятие им XX века как эпохи упадка связано с его оценкой развивающегося с эпохи Ренессанса гуманистического мировосприятия, которое к XX веку оптимистический потенциал израсходовало. С его точки зрения, история свидетельствует не о возвышении человека, а об утрате веры в человека, в его творческие силы. Эта несостоятельность человека как творца, с одной стороны, проявилась в индивидуализме, а, с другой, в безличном коллективизме.
А вот последнее утверждение уже имеет к России прямое отношение. Социализм философ воспринимал стихией коллективности, в которой человеческая индивидуальность окончательно растворяется. Между тем, эта негативная сторона процесса у некоторых деятелей Серебряного века уходила на задний план. Коллективное начало идеализировалось. Дух эпохи как дух коллективизма осмыслялся не без влияния социалистических идей, что ощущается даже в статьях и речах У Морриса, который, как известно, стоял у истоков модерна как художественного стиля и на теорию и практику символистов оказал огромное влияние.
То обстоятельство, что в эпоху Серебряного века расцветает индивидуализм, способствующий цветению культуры, не должно уводить от того, что этому противостояло, а именно, от нарастающей массовизации эпохи. Серебряный век следует рассматривать как последнюю вспышку творческого расцвета и утверждения личного начала. Но, с другой стороны, в эту эпоху индивидуалистическая тенденция не могла не проявиться и не обернуться своей негативной стороной, о чем с такой болью писал А. Бенуа. А иначе как объяснить такое тяготение к философии столь неизвестного и совсем в свое время непонятого в первой половине XIX века А. Шопенгауэра, для которого индивидуализм оценивался болезнью культуры. Чтобы его преодолеть, философ, подхватывая идею Гете о необходимости проникновения в глубины восточного духа, ассимиляции восточной ментальности, восточных учений и культурных стереотипов усматривал способ преодоления индивидуализма.
Однако и индивидуализм, и коллективизм в формах социализма являются лишь частным проявлением одного все более нарастающего универсального процесса, связанного с разрушением традиционных государственных и общественных структур и становлением индустриальной цивилизации, с возникновением различного рода технологий, вторжением техники во все без исключения сферы, в том числе, и в искусство, что на рубеже XIX–XX веков так болезненно переживалось. В частности, распад традиционных форм жизни и коммуникации способствовал распаду художественных систем, предполагавших гармоническое взаимодействие между искусствами, когда они существовали в единстве. Разрыв между разными видами искусства начал остро ощущаться именно в это время. Но дело не только в распространяющемся обособлении видов искусства, но и в подлинной причине этого обособления, а именно, – отсутствии единого универсального художественного стиля, без чего великих художественных эпох не существует. Вместо такого стиля, как отмечал А. Бенуа, наметилось появление множества течений и группировок.
Такую же ситуацию в статье, опубликованной в журнале «Аполлон» за 1909 год, констатирует Л. Бакст. «Новые направления, новые школы растут с неимоверною быстротою, – констатирует он. – Еще недавно можно было, назвав их, тем самым определить четыре, пять главнейших современных течений в живописи. Но за последние 10 лет мы имеем дело уже не с представителями течений в живописи, а со школами, идущими от особого таланта вожака или вожаков с ярко выраженными индивидуальностями» [18, с. 51].
С точки зрения рубежа XIX–XX веков рубеж XVIII–XIX веков кажется, действительно, и гармоничным и «золотым». Естественно, это обстоятельство – обособление и видов искусства, и художественных течений, и группировок породило множество свидетельствующих о необходимости выхода из этого состояния идей. Именно поэтому, например, такой резонанс имели широко обсуждавшиеся в среде художественной интеллигенции идеи Р. Вагнера. В них предлагался проект гармонического взаимодействия между искусствами, осуществление которого композитор связывал с будущим. Этот проект Р. Вагнера известен как гезаммкунстверк. Резонанс вагнеровского проекта объясняется также и тем, что творцом нового синтетического искусства в соответствии с мыслью Р. Вагнера оказывался народ, что соответствовало активизации в этот период массы и рождению массовых обществ, под которыми следует подразумевать именно индустриальные общества.
Иначе говоря, по Р. Вагнеру, осуществление идеи синтеза предполагало возвращение к коллективным формам художественного выражения, которые в прошлом уже существовали. Однако у Р. Вагнера была также еще одна идея, оказавшаяся прочитанной и пережитой сильнее, чем другие его идеи и вовсе не в духе Маркса. Появление будущего коллективного искусства Р. Вагнер, как будет потом представлять и К. Малевич, мыслил на религиозной основе, хотя некоторые исследователи, а к ним относится, например, А. Мазаев, обычно этого религиозного мотива в проекте Р. Вагнера не прочитывают [188, с. 111]. «Только тогда, когда царящая религия эгоизма, расчленившая искусство на уродливые, своекорыстные направления и виды, – писал Р. Вагнер, – будет безжалостно изгнана из жизни, искоренена без снисхождения, сама собой родится новая религия, включающая в себя условия существования произведения искусства будущего» [71, с. 214].
Данная статья Р. Вагнера под названием «Произведение искусства будущего» появилась еще в середине XIX века. Однако ее резонанс возникает позднее, уже в эпоху Серебряного века. Ведь обновление культуры, которого так жаждали люди этого времени, без религиозного возрождения осуществиться не могло. Вот почему художественная интеллигенция потянулась к религии. Но ведь даже марксистский материализм с его идеей революционного обновления жизни также воспринимался в духе религиозного возрождения, что не могли не зафиксировать С. Булгаков и Н. Бердяев.
Влияние Р. Вагнера на сознание художников этого периода А. Мазаев склонен преувеличивать. Тем не менее, совершенно очевидно, что идея синтеза искусств превращалась в одну из самых актуальных идей. Исследователь доказывает, что в среде русского символизма концепция синтеза все же возникает на основе не вагнеровского проекта, а философии В. Соловьева. Синтез этим философом мыслился не столько как единство видов искусства, а как единство искусства, философии, науки и религии. И именно в этой соловьевской системе религии в создании такого единства придается едва ли не определяющее значение. Без этого представления понять ключевое понятие В. Соловьева – теургию трудно.
Без этой религиозной вспышки также, например, трудно понять такое обращающее на себя внимание яркое явление Серебряного века как гипнотическое притяжение театра. Театр Серебряного века, может быть, самая яркая страница в истории отечественного театра. Отсюда проистекают все последующие театральные эксперименты, в том числе, и 20-х годов. Такое обращающее на себя внимание притяжение нельзя не учитывать. Без этого невозможно создать обобщающий образ всей этой эпохи. По сути дела, театр становится точкой притяжения, в том числе, и для представителей разных искусств. Так, С. Маковский утверждает, что расцвет театрального новаторства Серебряного века во многом обязан живописцам [191, с. 80]. В этом смысле особенно значимым оказался вклад в театральный ренессанс художников – представителей объединения «Мир искусства». И, кстати сказать, театр, действительно, оказывался средоточием творения новых форм синтеза. Об этом, в частности, может свидетельствовать приход в мир театра многих художников. Без создаваемой лучшими художниками этой эпохи сценографии невозможно представить тот удивительный подъем русского театра этого времени, который ассоциируется с именами К. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Мейерхольда и многих других. В частности, вклад в театрально-декорационное искусство М. Врубеля бесспорно. Как свидетельствует И. Азизян, М. Врубель освободил его от станковизма, которому еще следовали В. Васнецов и В. Поленов, определив тем самым направление, представленное именами К. Коровина, А. Головина, С. Малютина [6, с. 41]. В театр приходит Л. Бакст, И. Билибин, М. Добужинский, С. Судейкин, Ф. Шехтель, В. Васнецов и Н. Рерих, создавший декорации к спектаклю Художественного театра «Петр Гюнт» и к «Весне священной» Стравинского. В осуществлении театральных замыслов был также активен А. Бенуа.
Но дело не только в гипнотической притягательности театра, но и в том, что театральное начало выходит за границы собственно театра. Театральным становится стиль всей этой эпохи. Вглядываясь в акварели А. Бенуа и, в частности, в «Последние прогулки короля», ощущаешь театральный стиль эпохи Людовика XIV. Как вспоминает сам А. Бенуа, этот мир, «в нарядах, поступках и обычаях которого так ясно выразилась старческая усталость эпохи, ханжество, раболепность, порочность и даже начавшийся упадок вкуса, явившийся на смену юной самонадеянности, беспечности и чувству величавой красоты» [32, кн. 4–5, с. 184] невозможно воспринимать без ассоциаций с театром. Но видения А. Бенуа ассоциировались и с духом того разложения некогда блестящей эпохи, которое переживала российская империя его времени. Подъему театра в этот период во многом способствовало религиозное к нему отношение.
Конечно, это произошло не без влияния идей В. Соловьева, но в то же время и идей Р. Вагнера. Драма и вообще театр будущего как способное объединить самые разные искусства духовное ядро мыслился Р. Вагнером как античный театр. Здесь также возникла параллель между античностью и современностью. Но греческий театр не успел окончательно разорвать с религией, как это произошло в эллинистическую эпоху. По своему духу это было религиозное учреждение культуры. Но такой должна была быть и форма будущего театра. В какой-то степени можно утверждать, что прорыв театра в религиозную стихию произошел и в эпоху Серебряного века.
Можно даже утверждать, что театр гипнотически притягивал к себе не только творческую элиту (многие поэты пытались писать для театра – от Блока до Гиппиус), но и публику. Именно в это время она становится беспрецедентно массовой. Может быть, театр притягивал тем, что, как казалось, в его формах рождалась какая-то новая религия. По крайней мере, театр этого времени именно так и воспринимался. Кроме того, он соответствовал коллективному духу эпохи, выражал взрыв массовости. Хотя ассоциируемые с театром религиозные смыслы скрывали и те связанные с коллективными проявлениями масс негативные смыслы.
Однако влияние Р. Вагнера и В. Соловьева на художественную жизнь этой эпохи не исчерпывает всех активных воздействий. Как уже отмечалось, влияние Ф. Ницше в этот период было весьма сильным и даже, может быть, преобладающим. В особенности, в том, что касается музыки. Не только символистам, но еще и романтикам она казалась ведущим видом искусства. Ставя вопрос о синтезе искусств, как определяющем в этой системе искусств виде, нельзя не видеть, что этим видом для многих была музыка. Потому, что для Ф. Ницше, поставившего диагноз угасающей духовной культуре, преодоление распространяющегося упадка культуры связывалось именно с музыкой. Он считал, что с возрождения музыкального инстинкта это возрождение и оздоровление культуры и начнется. Собственно, в подъеме музыкальной жизни Германии он уже такое возрождение фиксировал.
То, что в культуре народилось позднее, должно отступить, поскольку все это связано с индивидуалистическим импульсом. Возрождение культуры начнется с обращения к изначальному, которое Ф. Ницше связывал с мифом, а сам миф с образом Диониса. Притягательность для художников Серебряного века образа Диониса объясняется тем, что именно с ним ассоциировалась надежда на возрождение культуры. Ведь в Новое время аполлоновский инстинкт оказался весьма сильным. Казалось, что он заглушал связываемое с дионисийством стихийное начало. А дионисийство ассоциировалось именно с музыкой. Вот почему музыка в это время приобретала такой высокий статус.
Для понимания того, почему в начале XX века музыка воспринималась лидирующим видом искусства, показательна написанная в 1902 году под сильным влиянием эстетики А. Шопенгауэра статья А. Белого «Формы искусства». В ней А. Белый, по сути дела, предлагает свою соответствующую эстетике символизма концепцию синтеза искусств. Исходя из того, что на рубеже XIX–XX веков человечество оказывается в переходной ситуации, которую поэт называет «перевалом», он пытается определить место музыки в современной ему культуре. Развертывающееся, как он полагает, усиление роли музыки от Бетховена до Вагнера является выражением такого «перевала».
Согласно А. Белому, такое усиление роли музыки все более заметно «накладывает печать на все формы проявления прекрасного» [27, с. 95]. Получается, что даже драма и вообще театр, для современников А. Белого оказывающийся столь притягательным, тоже проникаются музыкальной стихией. Но дело не только в таком соприкосновении театра с музыкой. Эволюция искусства вообще развертывается в сторону музыки. Заканчивая свою мысль, поэт задается вопросом: «Не будут ли стремиться все формы искусства все более и более занять место обертонов по отношению к основному тону, т. е. к музыке?» [27, с. 105].
Может быть, то специфическое, что обычно связывается с символизмом и выражает его суть, как раз и можно выявить через усиление в произведениях, характерных для этого направления, музыкального начала. Не случайно именно это подчеркивал П. Валери. «То, что нарекли символизмом, – писал он, – попросту сводится к… стремлению «забрать» у музыки свое добро» [74]. В данном случае можно констатировать, что предпочтение в среде символистов музыки в системе искусств является, пожалуй, наиболее очевидным доказательством существования преемственности, ведь подобные отношения к музыке, которую и подхватывает Ф. Ницше, было характерно для романтиков. Эту традицию символизм продолжает.
Констатацией определяющей в символизме роли музыки суждения А. Белого не ограничиваются. Поэтому в его суждении важно обнаружить не только то, что идет от идей Ф. Ницше, но и от идей А. Шопенгауэра. Ведь возрастание роли музыки у поэта имеет философское и даже религиозное обоснование. В этом процессе омузыкаливания культуры он хотел бы видеть, в том числе, и возрождение религии. Ведь согласно В. Соловьеву, преодоление кризиса искусства возможно лишь через возвращение его в лоно религии. Но чтобы искусство вернулось в религию, необходимо возродить его формы, что были неразрывно связаны с религией. Иначе говоря, необходимо возродить имевшие место в античности и в Средние века формы.
В этом плане любопытны соображения А. Белого в той же статье «Формы искусства» опять же о драматическом начале, сливающемся с началом музыкальным, что, как полагает А. Белый, соответствует сути символистской эстетики. Чтобы придать драме религиозное звучание, она должна снова стать мистерией, как это было в великие религиозные эпохи, когда театр не успел порвать с религией. По сути дела, драма, какой она стала в позднюю эпоху, должна вспомнить о своем происхождении. Она вышла из мистерии, но должна в нее вернуться.
Позднее, а именно в 1908 году в статье, специально посвященной современному театру, А. Белый по отношению к той идее трансформации театра в мистерию, которая успела стать модной, уже занимает критическую позицию. По отношению к идее возродить с помощью театра религию у него появляется скептицизм. Он пишет, что если религия угасла, то с помощью идеи театра как храма ее не возродить [29, с. 158]. Бесполезно насыщать Россию орхестрами на античный манер. Бесполезно ставить жертвенники в честь Диониса.
Но смысл данной статьи вовсе не в отрицании идеи превращения театра в мистерию, а в его стремлении понять творчество не в его художественном и эстетическом, а в жизнестроительном понимании. Творчество А. Белый понимает как творчество жизни. Театр для него предстает лишь призывом к творчеству жизни. Театр – не самоцель. Цель – творчество жизни. А. Белый провозглашает эпоху, когда творчество художественных форм сменяется творчеством жизни. С этой точки зрения возвращение к Элевсинским мистериям оказывается неуместным. В данном случае мы имеем дело не столько с субъективным отношением А. Белого к театру и вообще к искусству. Эта жизнестроительная идея вообще рождается в недрах символизма, она присуща символизму и выражает одну из основополагающих его идей, которая, несомненно, потом будет иметь последствия как в художественной, так и в нехудожественной сфере.
Однако у А. Белого в статье 1902 года была и еще одна любопытная мысль, возникшая у него под воздействием А. Шопенгауэра. Проблема, оказывается, заключается в том, что, вбирая в себя музыкальное начало, ассимилируя его и испытывая под его воздействием трансформацию, драма освобождает и себя, и, в том числе, всю культуру от груза внешнего, т. е. видимого, что предстает в немузыкальных видах искусства – живописи, скульптуре, архитектуре и т. д. Эти выражающие в пластике дух Аполлона искусства для А. Белого, усвоившего идеи А. Шопенгауэра, оказываются «обманчивым покрывалом Майи», что выражает дух индивидуалистической эпохи, дух личности Нового времени, проецирующей на реальность свою волю и лишающей доступа к этой реальности самой по себе в ее объективном существовании. Освободить человечество от такой иллюзии способна лишь музыка. Только она позволяет проникать в существующие безотносительно к интерпретациям самого разного рода глубины бытия.
В этой способности музыки освобождать бытие от излишней активности воли уже ощущается не только идея А. Шопенгауэра, но и феноменологические прозрения XX века. Но, с другой стороны, не обещают ли уже эти прозрения поэта – символиста супрематические эксперименты К. Малевича, который ведь тоже приходил к выводу об освобождении живописи и культуры в целом от обманчивой видимости мира, от того самого шопенгауэровского покрывала Майи? Вот и разрешение спора о том, имеет ли своим истоком искусство авангарда символизм.
1.9. Время, специфичное для русской культуры, и искусство рубежа XIX–XX веков
Уязвимой стороной традиционных исследований об искусстве была усвоенная историками установка модерна по отношению к истории искусства, когда его развитие и функционирование рассматривалось в соответствии с ритмами социального времени. Этот принцип историзма можно назвать историзмом модерна со свойственным ему принципом прогресса. Однако в ритмах развития и функционирования искусства есть все основания выявлять ритмы истории, понимаемой как история культуры. Собственно, именно в этом и состоит сверхзадача исследования, обещающая его новаторский ракурс.
Частной проблемой выявления в истории ритмов функционирования культуры как ритмов специфических и отличных от социальных предстает время функционирования русской культуры как время специфическое и отличающееся от времени, в соответствии с которым функционируют другие культуры. Рядом исследователем именно на это обстоятельство было обращено внимание. Европеец, в отличие от русского, мыслит предельно исторично. Ничего не должно быть забыто и утеряно. По мнению В. Шубарта, это стремление европейца законсервировать прошлое уподобляет его египтянам, которые были самым исторически осведомленным народом древности. Именно это обстоятельство приводит к тому, что европейская историография сродни журналистике. А это означает, что в этой культуре история предстает историей событий.
Иное дело – восприятие времени русским человеком. По утверждению В. Шубарта, мышление русского неисторично. Оно ближе Востоку, нежели Западу. «У русского бесконечно много времени, – пишет В. Шубарт, – поскольку в нем живет уверенность, что он бесконечное существо. В русле такого чувства времени протекает и русская история – в куда более широком ритме, чем европейская («800 лет мы спали…»). Она напоминает китайскую с ее геологическими пластами времени» [419, с. 114]. Когда В. Шубарт пишет о неисторичности мышления русского народа, противопоставляя ее историчности Запада, то он явно не имеет в виду оценивать это отрицательно.
Собственно, и Ф. Ницше, фиксирующий в свое время крайний историзм Запада, перенасыщенность этой культуры историей усматривает в этом совсем не благо. Ведь давление истории приводит к тому, что тот или иной народ, благоговея перед историей, обрекает себя лишь на копирование, повторение форм прошлого, а не на творчество. По мнению философа, творческие народы от истории свободны. В творчестве, в том числе, и в социальном творчестве преуспевают лишь неисторические народы.
Однако эта позитивная оценка непроявленности исторического начала способна обернуться и негативной стороной. Это отмечал Г. Флоровский, упрекающий русский народ за отсутствие «творческого приятия истории как подвига, как странствия, как дела» [345, с. 502]. «В русском переживании истории, – пишет Г. Флоровский, – всегда преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, «органических процессов», «власть земли», точно история совершается скорее в страдательном залоге, более случается, чем творится. «Историзм» не ограждает от «пиетизма», потому что и сам историзм остается созерцательным. Выпадает категория ответственности. И это при всей исторической чувствительности, восприимчивости, наблюдательности. В истории русской мысли с особенной резкостью оказывается эта безответственность народного духа. И в ней завязка русской трагедии культуры.» [345, с. 502]. Спустя почти столетие со времени этого высказывания можно поражаться истинности сказанного, поскольку вся последующая история России его подтвердила и в еще большей степени заставила осознать возникшую в XX веке в русской культуре драматическую ситуацию.
Однако невозможно не отметить и того, что многие новаторские прорывы и, в частности, даже опережения в истории искусства, присущие русскому искусству, как раз связаны с позитивными сторонами ментальности русского человека, а именно, с его способностью ускользать от исторической заданности и социологического детерминизма. В. Паперный превосходно показывает, например, как на рубеже 20-30-х годов угасает потребность в документальной фиксации бытия и развертывается поворот к мифологическому оформлению исторических событий. В ментальности русского продолжает оставаться активным восточное, а значит, и альтернативное отношении к истории. Этот дуализм и чувство историзма, и, с другой стороны, пренебрежение историей создают такое напряжение, которое, может быть, и является одной из причин художественной вспышки в культуре России.
Обратим внимание на такой заслуживающий внимания факт в искусстве Серебряного века как ретроспекции в русское искусство XVIII и начала XIX века, т. е. в эпоху классицизма и барокко. Угасающая империя демонстрирует ностальгию по эпохе «цветущей сложности» культуры этой империи, по «золотому веку» искусства. Но эта постановка вопроса связана с более глубоким прочтением смыслов, возникших более столетия назад, но адекватно проигранными не ставших.
Словосочетание «Серебряный век» некоторые приписывают и главному редактору журнала «Мир Искусства» С. Маковскому, и философу Н. Бердяеву. Но, видимо, точнее было бы автором этого обозначения, с чем, собственно, согласен и упоминаемый среди других авторов этого обозначения С. Маковский, считать Николая Оцупа, единомышленника Н. Гумилева и входящего в петроградский «Цех поэтов» [190, с. 7]. При этом интересно, что Серебряный век отчасти возвращал век золотой, поскольку возникшие в культуре золотого века какие-то смыслы не были своевременно прочитаны и восприняты. Они были открыты с некоторым запозданием. И этим новым прочтением мы обязаны рефлексии Серебряного века. Именно эта эпоха сделала реальным более глубокое постижение художественного наследия, а следовательно, и открытия более точной логики истории русского искусства.
Утверждая, что имевшая место в Серебряном веке новая прививка западных художественных открытий, С. Маковский говорит, что в свете этой ассимиляции западной новизны отечественные классики – Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский, Тютчев были открыты заново. Иначе говоря, ассимиляция художественного опыта других культур и прежде всего культуры Запада, что можно считать продолжением ставшей уже постоянной традиции, способствовала и возникновению новых смыслов и вместе с тем смыслов, уже имевших место в самой русской культуре, но в силу каких-то причин оказавшихся или непрочитанными или вообще забытыми, что не удивительно, ведь, скажем, в столь популярной в свое время эстетике Писарева уже была попытка развенчания и ниспровержения духовного центра «золотого века» – Пушкина. Сменяющая установки классицизма стихия романтизма обязывала углубляться в собственную историю, что славянофилы и делали.
Новая волна этой стихии захлестывала Россию и на рубеже XIX–XX веков. Забвение художественного опыта Серебряного века оставило открытым и вопрос о том, как всю эту эпоху обозначить. Обозначение однако находится, но с опозданием на несколько десятилетий. В данном случае история с искусством русского Серебряного века, называемого иногда, в том числе, и самими деятелями Серебряного века русским или славянским ренессансом, кажется, повторяет историю с западным Ренессансом XV–XVI веков. Как это ни покажется странным, но до 1839 года применительно к XV–XVI векам понятия «Ренессанс» вообще не существовало. Истинное обозначение эпохи оказывается возможным лишь по истечении длительного времени. Как показал Л. Февр, понятие «Ренессанс» было введено истории ком Жюлем Мишле в XIX веке [332, с. 378].
Смысл того, что на рубеже XIX–XX веков произошло в России, приоткрывается постепенно, на всем протяжении XX века, захватывая и век XXI. Впрочем, такая ситуация имела место и во французском искусстве. Так, ставя вопрос о забвении во французской культуре искусства XVIII века, Д. Философов писал: «Только в последней четверти XIX столетия, с легкой руки братьев Гонкуров, французское общество начало скупать у старьевщиков старые гравюры, мебель, книги, картины этой эпохи, и то вечно прекрасное, что сохранилось в художественном творчестве XVIII века, снова ожило и заняло почетное место рядом с искусством позднейшим, искусством вновь пришедших варваров» [340, с. 106].
Приблизительно с середины XX века, а, еще точнее, с эпохи оттепели массив исследований на тему Серебряного века постоянно увеличивается. Уже можно было говорить не только о принявших революцию А. Блоке и В. Брюсове, но об расстрелянных Н. Гумилеве и В. Мейерхольде, погибших в лагерях О. Мандельштаме, Н. Клюеве и других. Обо всех этих художниках в живом общении и в границах определенных, хотя и весьма незначительных, слоев память сохранялась всегда. Ведь, скажем, в театрах продолжали ставить спектакли ученики и единомышленники В. Мейерхольда и А. Таирова, Актеры, воспитанные В. Мейерхольдом, продолжали работать в советских театрах. Но эта память сохранялась в ставших маргинальными социальных группах.
Именно в эпоху оттепели круг почитателей творчества этих художников расширяется. Нарастает громадный интерес к поэзии. Молодое поколение из своих рядов выдвигает новых поэтов. В этой ситуации все ощутили потребность в возрождении поэтического духа первых десятилетий XX века. Так наступил период второго рождения поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака и т. д. Постепенно их творчество получает тот общественный резонанс, которого некоторые из названных художников и поэтов, может быть, не имели даже при жизни. И так до сих пор. Поэтому когда ставится вопрос, когда же закончился Серебряный век и закончился ли он 1917 годом, то на него следовало бы отвечать так. Этот век не закончился, он продолжается.
Это его продолжение затрагивает и искусствоведческую, и историческую науку. Искусствоведы продолжают собирать факты, касающиеся художественного опыта искусства рубежа XIX–XX веков. Но как быть со следующим уровнем науки? Ведь, как пишет Х. Ортега-и-Гассет, касаясь вопроса о неизученности целой смутной эпохи в истории культуры с XIV по XVII века, «сами по себе факты не дают нам реальности, напротив – они прячут ее; другими словами, они озадачивают нас проблемой реальности. Если бы не было фактов – не было бы и проблем, тайны: не было бы ничего сокровенного, что надлежит раскрыть, проявить» [235, с. 236]. Таким образом, дело не только в необходимости восстановления фактов, но и в потребности для выражения этой эпохи найти более точное понятие или дефиницию. Поэтому находятся не только новые факты, но возникают все новые и новые интерпретации этой эпохи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?