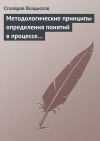Текст книги "Избранные работы по культурологии"

Автор книги: Н. Хренов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
1.10. Актуальность проблематики культуры на рубеже XIX–XX веков: связь с нею идей в искусствознании этой эпохи
Когда мы говорили о стоящих при интерпретации искусства рубежа XIX–XX веков задачах, мы, по сути дела, имели в виду, прежде всего, задачи, стоящие исключительно перед искусствознанием. Развитие во второй половине XX века гуманитарных наук постепенно подводит к тому, что решение возникающих перед искусствоведением задач может быть успешным лишь в том случае, если искусство рассматривать в контексте культуры. В этом смысле открытый и описанный искусствоведом факт может быть рассмотрен на уровне культурологических обобщений. Имеются основания утверждать, что наиболее глубокое обобщение возможно лишь в том случае, если факт искусства одновременно предстает фактом культуры, а история искусства соответственно рассматривается историей культуры. Такой ракурс близок сверхзадаче нашего исследования.
Являются ли эти факты синонимами или это разные вещи? Казалось бы, тут все до элементарности просто. В самом деле, кто отважится утверждать, что факт искусства не всегда является фактом культуры. Когда в эпоху Серебряного века И. Грабарь приступает к осуществлению первого замысла написать историю русского искусства, он этот замысел уже формулирует совершенно в духе современных дискуссий. В 1907 году, то есть в самом начале работы над «Историей русского искусства» И. Грабарь пишет Н. Врангелю: «Текст должен давать столько же историю скульптуры, сколько характеристику эпохи. Вообще, вся эта история искусства будет одновременно и историей культуры» [99, с. 195]. В письме 1907 года А. Бенуа он эту свою идею излагает еще более определенно. «История искусства, – пишет он, – понятая широко, почти превращается в историю культуры. А культура вся преемственна и имеет свои законы. Если мы их не знаем, то некоторые следы их все же чувствуются. Лучшее средство – если не постигнуть, то хоть почувствовать ход истории, аналогии и параллели. Всякая культура есть сложное нагромождение соседних влияний, собственных пережитков прошлого и пр.» [99, с. 192].
Ставя вопрос о необходимости рассмотрения искусства в культурологической перспективе, И. Грабарь констатирует, что в соответствии с этой перспективой следует рассматривать несколько проблем: логику преемственности в развитии искусства, воздействие на искусство художественных процессов, имеющих место в других, соседних культурах и, наконец, влияние на актуальное искусство предшествующих процессов, что получило выражение во внутренней для отечественного искусства традиции. Таким образом, настаивая на совпадении двух историй – истории искусства и истории культуры, И. Грабарь, тем не менее, говорит, что культура имеет свои «законы», которые следует постигать. Сам И. Грабарь не претендует на полное знание этих «законов» и своей целью ставит хотя бы «почувствовать ход истории».
Но что означает формула И. Грабаря – история искусства есть история культуры? Это означает, что исследование этой истории необходимо погрузить в общий контекст культуры, в культуру, в которой составными частями должны входить и наука, и игра, и нравственность, и миф, и культ, и религия, и философия. Следовательно, если под культурой подразумевать и то, что не имеет отношения к искусству, то, стараясь следовать этой формуле, мы вынуждены рассматривать искусство в его взаимодействии с остальными слагаемыми культуры, в том числе, с религией, философией, наукой и т. д. Но известно, что в последние столетия искусство от этих сфер успело обособиться, автономизироваться. Утверждая подобное, не оказываемся ли мы во власти ошибочной мысли, требуя возвращения к тесной зависимости искусства от остальных сфер культуры?
Однако в том-то и дело, что именно в эпоху Серебряного века повсеместным было осознание надвигающегося кризиса не только существующего искусства, но и культуры в целом. Многим этот кризис казался следствием обособления искусства от других институтов, например, от религии и, прежде всего, от религии. Собственно, эта проблема оказалась следствием все того же индивидуализма в искусстве, негативные стороны которого отмечал, как мы убедились, А. Бенуа. Находясь в эмиграции, В. Вейдле в 1937 году печатает в Париже книгу под названием «Умирание искусства» [77], в которой ставит диагноз «смерти» искусства, выписывая рецепт, способный помочь его выздоровлению. Для него таким способом выхода из кризиса является также возвращение искусства в лоно религии. В 1937 году эта идея кажется уже не оригинальной, хотя позднее ее повторит в своей знаменитой книге 1948 года «Утрата середины» Х. Зедльмайр.
Но одним из первых, кто эту идею высказывает со всей определенностью, анализируя произведения символизма и футуризма, пожалуй, был Н. Бердяев, выпустивший в 1918 году книгу под названием «Кризис искусства» [36]. Хотя справедливости ради следует сказать, что и Н. Бердяев не был первым, кто диагностировал «смерть» искусства. Пожалуй, многие тенденции всего Серебряного века начались с философии В. Соловьева. В. Соловьев первым диагностировал кризис и предлагал в качестве выхода из него возвращение искусства в религию. Таким образом, выходом из этого кризиса казалось, начиная с В. Соловьева, преодоление развернувшейся на протяжении столетий автономизации искусства и возвращение к той ситуации, когда имело место единство искусства с остальными сферами культуры. Но такой выход не был лишь уделом дискуссий и публикаций. О нем свидетельствовала практика искусства этого времени. Вот, наверное, еще почему искусство, разрушая все некогда установленные границы, устремлялось к культу, мифу, игре, сакральному, религии.
Однако когда интеллигенция начала возвращаться в религию, то выяснялось, что русская православная церковь, нуждаясь в реформах, им противится. Так, к жизни «новое религиозное сознание» вызвали художники и мыслители этой эпохи. Очевидно, что этим самым они возрождали то состояние искусства, для которого характерна неразличимость искусства и культа, искусства и мифа, художественного и сакрального. Вот почему искусство этого времени следует рассматривать в соотнесенности с так называемым «новым религиозным сознанием».
Разумеется, это не могло не проявиться в искусстве. В качестве иллюстрации здесь можно сослаться на потребность художников в возрождении монументальной и, еще точнее, фресковой живописи. Некоторые художники, а к ним, например, относятся Врубель, Васнецов, Нестеров, расписывают интерьеры храмов. Вот почему еще художникам и мыслителям этой эпохи потребовались ретроспекции в самые разные эпохи и культуры, что так ярко проявилось и в цитируемом трактате В. Брюсова, и в открытии в начале истекшего столетия древней иконы. Пожалуй, именно это следует отнести к основополагающим признакам искусства этой эпохи, синтезирующей все возможные и имеющие место в истории слагаемые культуры и не только отечественной.
Именно в этот период обращает на себя внимание необычайная открытость русской культуры, ее готовность и способность ассимилировать элементы других, часто уже не существующих культур и одновременно устремляться к ранним эпохам собственной истории. В этом и заключается исключительность сложившейся в искусстве Серебряного века ситуации, что диктует и особую методологию исследования искусства этой эпохи. Она будет реальной для изучения любой эпохи в истории искусства, в том числе, и той, в которой такой радикальной ломки границ между художественным и нехудожественным, древним и новым не происходило.
В качестве первостепенных задач для историка И. Грабарь выделяет преемственность в русской культуре и влияние на нее других культур. Этот вопрос он поднимает не случайно. Именно русское искусство начала XX века ощущает интенсивные, но часто забываемые связи с другими культурами. Тот и другой момент художественная критика этого времени активно обсуждает. Так, реагируя на возрождение византинизма в русской живописи этого времени (например, у В. Васнецова) и вообще на открытие в искусстве под воздействием возрождающегося славянофильства в это время художественного опыта допетровской Руси, С. Маковский подчеркивает, что «прививки» в русском искусстве связаны не только с византийскими и скандинавскими корнями. Важно, например, учитывать западные заимствования России XVI и XVI веков. Причем, эти влияния касаются не только профессионального, но даже и народного искусства. «Допетровские лубки, вышивки на полотенцах, резные украшения, орнаменты, стилизованные изображения, которые принято считать безусловно народным творчеством, – пишет он, – как часто они заимствованы у итальянских и немецких первоисточников» [192, т. 2, с. 36]. Однако критик справедливо утверждал, что дело не в заимствованиях, а в способности их творчески перерабатывать. «… Вопрос не в формах, – пишет он, – а в их одухотворении, в неопределимом трепете красоты, внушенной веками национальной жизни» [192, т. 2, с. 38].
Этот национальный дух критик улавливал и в утонченном вкусе ретроспективистов Сомова, Лансере и Бенуа, и в пейзажах Левитана, и в портретах Серова, и в северных пейзажах Рериха, и в гениальных образах Врубеля. Но когда ставится вопрос о преемственности и влияниях других культур, а именно, эти два момента и оказались в эту эпоху в поле внимания критиков и историков искусства, то он провоцирует постановку и другого вопроса, чем же можно объяснить столь преувеличенное внимание к этим двум темам? Какие процессы – общества или культуры диктуют их обсуждение? Мы пытаемся этот вопрос обсудить. В поле нашего внимания – и вопрос преемственности, и вопрос влияния других культур.
В эту эпоху казалось, что преемственность заметно нарушена, а влияние Запада хотя и продолжает быть актуальным, тем не менее, начинает уступать влиянию со стороны других культур, например, Востока. Особая значимость в русской культуре Востока начинает осознаваться потому, что на рубеже XIX–XX веков история России заново воспринимается и в своих древних формах, когда, как утверждали евразийцы, древняя Русь вообще входила в евразийский комплекс народов и была слагаемым восточных империй. Кстати, евразийство, возникшее в среде русских философов, историков и публицистов уже в эмиграции, также обязано именно этой эпохе, в которой уже складывалась атмосфера нового открытия и нового прочтения Востока (например, в творчестве Н. Рериха или В. Хлебникова). Она будет окончательно осознана евразийцами (Н. Трубецким, В. Вернадским, Н. Савицким и др.).
Что же касается преемственности, то, прерываясь в малых длительностях истории, она актуализируется в таких длительностях, которые принципу историзма в его современных формах не соответствуют. Подход, при котором история искусства рассматривается как история культуры, продиктован не только настоящим моментом в развитии гуманитарных наук, когда в центр этих наук выдвигается наука о культуре, но и замыслом исследования, предметом которого является именно и прежде всего культура, а точнее, русская культура на одном из этапов ее исторического развития, а именно, на рубеже XIX–XX веков. Но чтобы понять культуру этого периода, необходимо ее рассматривать в исторической перспективе, т. е. иметь представление о предшествующих и последующих ее состояниях.
В нашей литературе одновременно предпринимаются исследования как по истории отечественного искусства, так и по истории русской культуры, в том числе рубежа XIX–XX веков. В связи с этим обратим внимание на такой факт. Параллельно предпринимаемой истории русской культуры в нескольких томах, ведется подготовка многотомного труда по истории русского искусства [147]. Собственно, уже вышедшие из печати два тома «Очерков русской культуры конца XIX – начала XX веков» свидетельствуют о широком понимании предмета исследования, элементом которого рассмотрены и культуротворческая миссия города, и культура повседневности, и частная жизнь людей в городе и деревне, и университетская культура, и политическая культура, и правовая культура и т. д. [241; 240]. Первое, что бросается в глаза читателю первых двух томов, – это привычный подход историка, ставящего своей целью описать и проанализировать разные сферы культуры этой эпохи, которые, может быть, до этого не имели своей истории, т. е. не были предметом внимания историка.
Методологический ракурс исследования продиктован не только сложившейся на рубеже XX–XXI веков в гуманитарных науках ситуацией, но и стоящей перед авторским коллективом издания посвященной русской культуре конкретной задачей. Если согласиться с данным суждением, то из этого следует, что необходимо сразу же поставить вопрос о том, какие конкретные методологические установки вытекают из того, что предметом исследования является культура. В частности, русская культура на одном из этапов своего исторического развития, а именно, на рубеже XIX–XX веков. Если это так, то как формулировать задачу, которая будет разрешена искусствоведами?
1.11. Искусство рубежа XIX–XX веков в кратких и больших длительностях истории
Таким образом, существенным в нашем исследовании становится уточнение временных параметров предмета исследования, т. е. культуры в ее российском варианте. В данном случае принцип историзма должен быть соотнесен со спецификой предмета исследования. Культура как предмет исследования обладает специфическим временем. Она развивается и функционирует в особых исторических ритмах. Это особое время М. Бахтин называл «большим временем». Вот это специфическое время и является временем того, что А. Кребер называет «культурной моделью», которая возникает, проходит стадии роста и истощается. Культура – весьма консервативный предмет исследования, и ритмы ее развития и функционирования отличаются от времени общества или социального времени.
Ф. Бродель выделял время событий и время структур. Если время событий означает фиксацию исторических событий, развертывающихся и воспринимаемых в кратких длительностях истории, то время структур – это время, измеряемое большими длительностями [60, с. 134]. Время культуры как весьма консервативного предмета исследования развертывается в больших длительностях истории, которые и будут длительностями функционирования культурной модели, в границах которой развертывается художественная жизнь общества с сопровождаемыми ее подъемами и упадками.
В последние столетия, когда предметом исследователя становится исключительно общество, при описании различных исторических процессов историк исходит не из времени структур, т. е. больших исторических длительностей, а из времени событий, т. е. кратких временных длительностей, что соответствует динамизму обществ Нового времени, когда утверждает себя мировосприятие модерна. Но из этого типа времени исходит и искусствоведческая наука. Вот почему собирание фактов в этой науке кажется первостепенным. Такое отношение ко времени для выявления и времени культуры, и собственно для исследования самой культуры оказалось неблагоприятным. Можно даже утверждать, что и сама культура в эпоху господства времени событий еще не была открыта. Открытию культуры такое отношение ко времени не способствовало.
Попробуем понять: к какому типу времени относится искусство? Совпадают ли время искусства и время культуры или их совпадение бывает возможным лишь в редкие исторические мгновения? Если иметь в виду отношение ко времени, утверждающееся в эпоху модерна, т. е. с XVIII века, то нельзя утверждать, что оно оказалось искусству совершенно чуждым. Наоборот, многие процессы искусства и прежде всего связанные с авангардными явлениями с присущим им отрицанием исторических традиций, были спровоцированы именно футуристическими установками модерна.
Футуристическое мироощущение способствовало художественным экспериментам. Как доказывает А. Якимович, авангардизм не является лишь присущим XX веку [437]. Его предвосхищение можно обнаружить во многих явлениях искусства Нового времени. Но стимулирующая художественные новации стихия модерна вовсе не исчерпывает всего потенциала искусства.
Может быть, лишь искусство оставалось сферой, в которой продолжали сохраняться дошедшие до наших дней древнейшие культурные формы, например, мифология. Однако эта вторая, альтернативная по отношению к модерну сторона искусства оставалась на положении бессознательного и до определенного времени рациональному истолкованию не подвергалась. Связь искусства с теми стихиями, что в Новое время составляли бессознательное, свидетельствует, что именно искусство и, может быть, только искусство на протяжении Нового времени, а, следовательно, всей эпохи модерна продолжало оставаться способом сохранения связи с тем специфическим временем, которое является временем культуры. Как свидетельствует история искусства последних столетий, активность бессознательных ритмов истории как истории культуры далеко не всегда была уделом бессознательного. Начиная с эпохи романтизма, эта стихия бессознательного с ее специфическими ритмами постоянно выходила на поверхность сознания, проявлялась в художественной сфере.
Если в этом не отдавать отчета, то в художественной жизни рубежа XIX–XX веков мало что можно понять, поскольку такое репрезентативное для этой эпохи направление, как символизм явился вторым пришествием романтизма. Не случайно его иногда и называли неоромантизмом [280, с. 148]. Следовательно, новаторство символизма следует связывать не только с реабилитацией сверхчувственного, что определяет поиски в новом искусстве языковых форм, но и с реабилитацией времени больших длительностей. Именно поэтому можно утверждать, что для рубежа веков наиболее репрезентативным противоречием в художественной сфере явилось противоречие между установками модерна и установками романтизма.
Активность в эпоху Серебряного века романтической традиции можно продемонстрировать возрождением славянофильских идей. С этим следует связывать возникновение пассеистического мироощущения как альтернативы футуристического мироощущения. Естественно, что о пассеизме свидетельствует и новое славянофильство. Так, В. Розанов констатирует: «В Москве в самые первые годы XX века зародилось исключительной ценности и значения славянофильское движение, которое по перерыву в нем в конце XIX века стало именоваться «молодым славянофильством» [269, с. 342]. В качестве таких молодых славянофилов В. Розанов называет П. Флоренского, В. Свенцицкого, В. Эрна, С. Булгакова.
Исключительность рубежа XIX–XX веков заключается в том, что именно в это время в восприятии времени происходит сдвиг. История превращалась в историю не событий, а структур. Этот сдвиг в восприятии времени продемонстрировало именно искусство. «Быть может, – пишет А. Белый, – прогресс идет по прямой. Или по кругу. Или и по прямой, и по кругу – по спирали… И мы живем одновременно и в отдаленном прошедшем и в настоящем, и в будущем» [28, с. 232].
Поскольку время структур – это время больших длительностей, а, следовательно, и время культуры, то стоит ли удивляться, что именно в эту эпоху культура превращается в объект внимания, а искусство рассматривается под углом зрения и происходящего в культуре и тех исторических возвратов, которые в предшествующей истории имели место и которые могут показаться регрессом, но на самом деле именно они только и иллюстрируют смену в историческом мышлении малых длительностей большими длительностями. Эта созвучность некоторых событий в предшествующей истории тому, что в России происходит на рубеже XIX–XX веков, проницательно ощущает С. Булгаков. В атмосфере этого времени он улавливает возрождение эсхатологических и апокалиптических настроений. Он пишет: «Наше ухо оказывается особенно чутко, когда прислушивается к биению исторического пульса хотя и отдаленных, но сродных эпох» [64, с. 377].
В частности, апокалиптический момент философ улавливает и в социализме. Он даже замечает, что, казалось бы, такой прорыв в историю, которую уже можно понимать как историю ментальности, не соответствует духу историзма, как его в этот период понимали, а в этот период этот дух, естественно, нес в себе печать установок позитивизма. Позитивизму же было не до понимания истории как истории функционирующих в больших длительностях истории структур. Однако новые тенденции в искусстве свидетельствуют о выходе за пределы позитивизма, но ведь к этому весь Серебряный век и устремлялся.
В этом смысле, т. е. в смысле сдвига в восприятии времени, когда разрушаются стереотипы позитивизма, весьма показательным становится увлечение в начале XX века мистикой, которую позитивизм исключает. Мистика же в ее теософском выражении свидетельствует о зависимости человеческого духа не столько от социальных сил, сколько «от космической эволюции тысячелетий, от огромных промежутков времени» [37, с. 236]. В теософии человека душа сохраняет тянущиеся из прошлого бесконечные нити. В эту эпоху мистика сыграла позитивную роль, поскольку с ее помощью человек начинает ощущать себе не только в социуме, но в космической стихии. Для этой эпохи такое возвращение значимости космического аспекта жизни весьма существенно. Ведь художественный авангард этого времени как раз и будет демонстрировать прорыв в космические измерения мироздания.
Однако мистика также представляла и опасность, что от внимания Н. Бердяева не ускользает. Ведь увлечение в ту эпоху мистикой не исчерпывается интересом к западным мистикам. В Россию мистика приходит в своем восточном, т. е. безличном варианте. В ситуации индивидуалистической культуры, опасность которой ощущал, например, не только А. Бенуа, но и Н. Бердяев, восточная мистика казалась анахронизмом. В эпохи, предшествующие Серебряному веку, космические измерения бытия, было вытеснено на периферию. Человек ощущал себя исключительно в социуме, а в соответствии с идеями модерна, т. е. идеями Просвещения (в данном случае под модерном понимается не художественный стиль рубежа XIX–XX веков, а возникшее в эпоху Просвещения мировосприятие) этот социум следовало радикально преобразовать. Эта установка порождала цепь революций, в том числе, и 1917 года.
Озабоченный ломкой общественных структур и реализацией утопических идей на первый план среди научных дисциплин модерн выдвинул социологию, что не случайно, поскольку распад традиционных обществ вызвал к жизни весьма практический вопрос – каким образом достижим порядок в индустриальных или массовых обществах? Проблематичность и динамизм этих обществ, которые проявлялись в перманентных революционных вспышках, наиболее актуальной проблемой сделал проблему власти и, соответственно, идеологии.
В связи с Серебряным веком мы не случайно обращаем внимание на мировосприятие модерна, ведь модерн был фоном развертывающихся в искусстве процессов. Раз в качестве важнейшей задачи провозглашается творение нового бытия, как это мы видим в сочинении Н. Бердяева «Смысл творчества», то это предполагает и выход в нехудожественные сферы. Если в этом не отдавать отчета, то проследить судьбу основных проектов Серебряного века мы не сможем. Эхо этих проектов ощущается даже в сталинскую эпоху. Лишь со временем осознается, что идеи модерна во многом являются утопичными. Осознание этого обстоятельства подводило к открытию и осознанию традиционных механизмов функционирования общества, а такими как раз и оказывались культурные механизмы. Так начинается новый период и постижения сути культуры и тех ее способов, что позволяют достигать обществу оптимальных способов функционирования.
В связи с этим небезынтересно отметить, что открытие культуры как специфического предмета исследования происходит именно на рубеже XIX–XX веков, что объясняется реабилитацией в это время идей романтиков, которые проблематику культуры начали открывать первыми, а также начавшимся «закатом» мировосприятия модерна, хотя этот «закат», растягиваясь на десятилетия, по-настоящему будет реальностью во второй половине XX века, когда возникает постмодерн. Это открытие значимости идеи культуры является одним из бесспорных значимых явлений, определяющих искусство и философию Серебряного века.
Эту истину искусство открывало своими способами, а философия – часто в лице тех же самых художников (например, А. Белого или В. Иванова) пытались происходящее в искусстве отрефлексировать. Осознание значимости культуры было логическим продолжением стремления искусства оторваться от многочисленных форм существующего искусства и начать с самого начала, прорваться к изначальному и первозданному и с помощью этого первозданного преобразить мир, начать творить не только художественные ценности, но саму культуру и само бытие.
Эта идея разрыва с готовыми формами и конструкциями, разумеется, соответствует времени становления и даже пика того направления в философии, которое обычно обозначается как философия жизни. Ведь к этому времени культура накопила столько омертвевших и противостоящих человеку и жизни форм и конструкций. Новое искусство и ставит своей задачей это отчуждение устранить. Но чтобы эти процессы осознать, первоначально необходимо понять, что же такое культура. Так, исходной точкой культурологической рефлексии представляется именно рубеж XIX–XX веков. В этом особую роль сыграли теоретики символизма. Так, утверждается, что в возникновении культурологической рефлексии важную роль сыграли А. Белый, В. Иванов, П. Флоренский, которые хотя и не притязали быть основоположниками рефлексии культурологического типа, тем не менее, их вклад в формирование культурологической парадигмы гуманитарного знания оказался весьма существен [12, с. 18].
Интерес к культуре мыслителей и художников этой эпохи вытекает из программы такого определяющего художественного направления этой эпохи как символизм, в недрах которого рождаются все последующие авангардистские течения. Эта программа предполагала разрушение существовавших традиционных форм. Прежде всего, художественных форм. Это обстоятельство ориентировало на новое прочтение истории искусства, мыслимой как история символизма. С другой стороны, те новые формы искусства, которые в это время рождаются, вызывают к жизни новые отношения между художественными и нехудожественными началами. Разрушение традиционных художественных форм своим продолжением имело выход искусства в смежные сферы – в социум, в религию, в науку, в миф, в быт, в философию и, наконец, в культуру. Так. А. Белый признается, что пытался обосновать символизм как философию культуры [24, с. 519].
Казалось бы, многое из того, что нам известно в искусстве Серебряного века, относится к так называемому «чистому» искусству. Между тем, возникающие в эту эпоху проекты выходили за пределы искусства. Искусство мыслилось лишь способом пересоздания социума и сотворения новой культуры. Иначе говоря, в искусстве искали способ создания принципиально новой культуры, приходящей на смену старой, разлагающейся культуре, что, несомненно, ощущали художники и мыслители Серебряного века и пытались это осознать. Несмотря на то, что символизм был вторым пришествием романтизма, он также не был чужд и модерну. Именно поэтому, несмотря на свои пассеистские ориентации, символизм явился той средой, в которой вызревали все обращенные в будущее направления авангарда и, прежде всего, столь показательные для русского искусства этого времени футуризм и конструктивизм.
На рубеже XIX–XX веков приходится заново осмыслять время, чем и занимается «философия жизни» в лице А. Бергсона. Это изменение в отношении ко времени связано с начавшейся переоценкой социального времени и вниманием ко времени культуры, с одной стороны, и времени личности, с другой, недооценка которых имела место в эпоху раннего модерна или Просвещения. Если время культуры открывалось как время больших временных циклов, нарушая в развитии искусства привычную преемственность, то время личности погружало в «поток сознания». Так, А. Белый уже открывал приемы повествования, известные по прозе Д. Джойса. Как он сам признавался, в своем романе «Петербург» он использовал прием фиксации внутренней речи («…Пишучи свой роман «Петербург», – отмечает он, – я старался главным образом описать события, протекающие у нас в голове, и картину мира в «понятийном» взятии: получился ужас и бред; эти же ужас и бред – в нашем «мировоззрительном» круге; только в нем находясь, мы его не видим, не слышим.» [26, с. 29]). А. Белый утверждал, что существуют события во внутреннем росте человека, а есть события эры. Он пишет: «Судьба событий странна» («Из глубины душевного слоя события роста индивидуальных сознаний медленно прорастают к поверхности, сламывая кипение кружков и образуя: новые струи кипений; в них – печать эры. Бытописателей умственных и нравственных качеств эпохи более интересуют кружки, то есть: «словесное» отражение эпохи.» [26, с. 25]). Но главное все же – в значительной личности. «В событиях индивидуальных, интимных есть поступь эпохи; в событиях кружковых ее нет; есть ее искривление. События эпохальные крадутся по уединеннейшим, скрытнейшим индивидуальным сознаниям.» [26, с. 26].
Модерн связан идеей пересоздания социальных структур и футуристическим мироощущением. Осознание утопичности социологии модерна со временем приводит к сопротивлению на уровне персонологии (философии жизни и экзистенциализма) и культурологии. Например, установка экзистенциализма дает о себе знать именно на рубеже XIX–XX веков (Бердяев, Шестов). Так, в одной из своих работ Н. Бердяев представляет себя мистиком. Он усматривал близость своей философии учениям Экхардта, Я. Беме, Ангелуса Силезиуса, а, следовательно, он ощущал себя мистиком гностического типа [41, с. 77]. Но гностицизм – это такая стихия, которая очень близка экзистенциализму. Впрочем, о своей близости к экзистенциализму высказывается и сам философ. «Для меня сейчас важно, – пишет он, – что я всегда принадлежал к тому типу философии, которую сейчас называют «экзистенциальной» [41, с. 84]. Во всяком случае, среди близких ему философов он называет С. Киркегора. Такое самопризнание соответствует атмосфере эпохи, когда, по выражению Г. Флоровского, «открывается бессмыслица и призрачность мира, и в нем жуткая заброшенность и одиночество человека» [345, с. 455].
Теме кризиса гуманизма и того типа человека, что сформирован предшествующими столетиями, была посвящена специальная книга Н. Бердяева, написанная им уже в эмиграции, перед второй мировой войной [44]. Но, собственно, тема кризиса гуманизма у философа звучит уже в книге 1916 года «Смысл творчества». Увлечение гностицизмом характерно не только для философов и для художников. Например, С. Маковский свидетельствует, что русские символисты встретились «с древнейшими мифами, с оргиастическим дионисийством, с Элевзисом, с тайноведением гностиков, герметистов, алхимиков и с христианской эзотерикой – от Эккарта, Бема, через Жерара де Нерваля, до Штейнера» [190, с. 26]. Может быть, гностицизм для художников оказался столь притягательным потому, что это – не философия в традиционном смысле этого слова. Гностики выражали свои мысли не отвлеченными понятиями, а образами [157, с. 24]. Это обстоятельство сближает гностицизм с неоплатонизмом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?