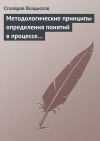Текст книги "Избранные работы по культурологии"

Автор книги: Н. Хренов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Конечно, интерес к гностицизму как философов, так и художников прежде всего проявил философ и поэт В. Соловьев. Но интерес философа к гностикам следует рассматривать вообще, как актуализацию тех «боковых ветвей» Греко-европейской культуры, которые были отторгнуты магистральной линией христианской культуры» [157, с. 8]. Философские идеи В. Соловьева, в частности, идеи о Софии повлияли на А. Блока. Образ Софии улавливается в Прекрасной Даме А. Блока [157, с. 203]. От гностиков к символистам приходит образ Демона, вообще образ восставшего против Бога, допустившего в мире зло и совершившего в своем творении ошибку. В распространении в это время гностических идей сказывается перекличка эпох – позднего эллинизма и ситуации «заката» Европы. Впрочем, начавшись в Серебряном веке, интерес к гностицизму продолжается до сих пор. Это отмечают современные философы. «Мы переживаем духовное состояние, типологически сродное позднему эллинизму – предсмертной, но буйной по цветению эпохе античности, – пишет А. Козырев. – Это выражается и в немыслимой ранее свободе человека от традиций и регулирующих его этическое поведение ценностей, плюрализме идеологий и религий, расцвете самых диковинных форм теософской мистики и оккультизма» [157, с. 12].
Проведенная параллель позволяет также уяснить, что на рубеже XIX–XX веков, как и в эпоху позднего эллинизма, активизируется и усваивается восточная стихия. Она улавливается и в гностицизме. Не случайно некоторые полагают, что гнозис есть регресс к восточным истокам [157, с. 23]. Таким образом, все свидетельствует о том, что совершенный в эпоху Серебряного века прорыв в большие длительности истории продолжает активно воздействовать на сознание людей на рубеже XX–XXI веков.
1.12. Острота проблемы рецепции наследия Серебряного века в эпоху омассовления культуры
Мы уже затронул вопрос о том, что понятия «искусство» и «культура» часто употребляются как синонимы. Именно так эти понятия употребляются и в искусствознании. Однако всякое ли явление искусства можно отождествлять с явлением культуры? Когда применительно к явлению искусства мы употребляем понятие культуры, то в этом случае подразумевается, что это явление искусства имеет общезначимый характер и что художественный стиль является в то же время и стилем культуры в целом.
Однако верно ли считать, что всякий художественный стиль является одновременно и стилем культуры в целом? История искусства в ее традиционном понимании обычно представляется историей возникновения, расцвета и угасания художественных стилей, как и их смены в истории. Но это типично искусствоведческий подход. В нашем исследовании, если исходить из его предмета, такой подход должен быть дополнен культурологическим подходом. Искусство обладает общезначимым характером лишь в том случае, если оно ассимилировано культурой. Если этого не происходит, тут-то в художественной жизни и возникают противоречия.
Культуру мы понимаем как некую норму или, еще точнее, систему норм. Предполагается, что ею владеет каждый носитель культуры. Если этой нормой человек не владеет, то для этого существуют специальные подинституты, осуществляющие функции научения, воспитания и тиражирования ценностей (например, художественная критика). В реальности мы постоянно сталкиваемся с ситуацией непонимания и отторжения каких-то форм искусства довольно массовыми слоями общества. Х. Ортега-и-Гассет даже утверждал, что это одна из главных закономерностей всего нового искусства или искусства XX века. Такой проблемы не было, когда искусство существовало в контексте устной культуры.
То, что не соответствовало нормам культуры, просто забывалось и переставало существовать. Но с появлением письменности, печатного станка, а также новых электронных технологий, каких с момента появления фотографии стало много, ситуация изменилась. С этого момента то, что отторгалось публикой, все же фиксировалось и сохранялось. Как свидетельствовала последующая эпоха, часто такие явления искусства неожиданно привлекали интерес и, извлекаясь из забвения, превращались в классику. Но дело не только в этом. Хотя то или иное явление искусства часто включается в механизмы культурной трансляции, оно, тем не менее, во всей своей сложности не всегда воспринимается. Поэтому в XX веке возникает острая проблема рецепции искусства.
Острота этой проблемы связана с тем, что искусство часто входит в противоречие с культурой как некоей нормой, что вовсе нельзя считать чем-то отрицательным. Искусство способствует и возникновению, и утверждению таких норм, но это же является эффективным средством их разрушения. Обе эти функции – и охранительная, нормативная, с одной стороны, и разрушительная, обращенная в будущее, одинаково значимы. Собственно, художественную жизнь как раз и демонстрирует остроту этих проблем – и отторжение культурой новых форм и, наоборот, их ассимиляцию.
На рубеже XIX–XX веков острота этой проблемы возрастает в связи с расширением аудитории искусства как значимого слагаемого художественной жизни. Острота этой проблемы, связанная с активностью массовой публики и в том случае, когда эта публика является носителем норм и в том случае, когда она этим носителем не является, требует обращения к еще одной научной дисциплине – социологии искусства в границах которой в свое время возникло понятие «художественная жизнь», которое искусствознанием давно ассимилировано. Это понятие широко применяется, свидетельствуя о расширении границ традиционного искусствоведческого исследования. Тем более, что в самое последнее время появились источники, позволяющие реконструировать социологический фактор художественной жизни [261]. Возвращение к этой эпохе предполагает, в частности, и воссоздание полной картины художественной жизни этого времени с ее взлетами и падениями, чем, собственно, в последние десятилетия искусствоведы и занимались.
Идея воссоздания полной картины этого периода в истории искусства как воссоздания не только художественного процесса, но и как художественной жизни принадлежит Г. Стернину. В искусствоведческий оборот он первым ввел понятие «художественная жизнь», подразумевая под ним не только создающиеся произведения искусства, но и реакцию на них публики, не только общественные установки различных художественных организаций и группировок, но и дискуссии, возникающие по поводу художественных выставок, число которых в этот период заметно увеличивается, причем, дискуссии не только в среде критики, но и массовой публики [309, с. 3]. Иначе говоря, испытывая влияние реабилитируемой в Советском Союзе социологии, что было характерно с середины XX века, Г. Стернин решительно ставил вопрос о необходимости осмысления в сфере искусства социологического фактора. Такая применяемая к интересующему нас периоду методология, приближающаяся к комплексной методологии, явилась для своего времени весьма плодотворной, и для нашего исследования она остается вполне приемлемой, хотя и не исчерпывающей.
Вообще, острые проблемы, связанные с культурой как системой норм, вызваны к жизни именно переходными эпохами, когда такие нормы перестают действовать. Поскольку наше время является перманентно переходным, то это позволяет говорить даже не об отсутствии в каких-то социальных или демографических группах общества норм, а о таком феномене как варварство, что мыслители констатировали применительно к интересующему нас периоду [222, с. 173], что в последние десятилетия XX века снова стало актуальным. Правда, на рубеже XIX–XX веков отношение к варварству не было однозначным. Так, считалось, что культура, оказавшаяся в эту эпоху в кризисе, способна возродиться. Такое возрождение может представать как развертывание потенциала варвара.
Имея в виду под варварскими поздние по сравнению с античностью культуры, В. Иванов пишет о варварском возрождении XIX века как реакции на процессы, которые напоминали александрийскую культуру или культуру увядающей античности. Выход культуры из кризиса и В. Иванову, и А. Блоку казался связанным с теми народами, которые или по каким-то причинам не смогли ассимилировать античную культуру или ассимилировали лишь какую-то ее часть. «Эллада гуманистам варварского «возрождения» служит сокровищницею ценностей, необходимых для переоценки всех ценностей, – пишет В. Иванов. – Они устремляются, следуя заветам Фридриха Ницше, к иной Элладе, нежели та, что доселе мила и свята была вызывателям Елены, – не к Элладе светлого строя и гармонического равновесия, но к Элладе варварской, оргийной, мистической, древледионисийской» [140, c. 69].
Таким образом, варварство ассоциировалось с вызванным к жизни Ф. Ницше концептом дионисийства. Резонанс образа Диониса в России объясняется тем, что многие художники и мыслители этого периода себя воспринимали строителями новой культуры и создателями нового человека. Впрочем, эта идея впервые была сформулирована Ф. Ницше. «Чем очевиднее для Ницше теряет силу все, что было значимо, – пишет К. Ясперс, – тем интересней для него становится человек. Стимулом для него всегда выступает как неудовлетворенность современным человеком, так и страстное стремление и воля к подлинному и возможному человеку» [441, с. 201]. Не случайно первая книга З. Гиппиус называлась «Новые люди», которая, как выражается Эллис, «многих и многих соблазнившихся на новый путь и поставившая ребром не один существенный вопрос нового сознания» [430, c. 68]. Так, представляя А. Белого «предвозвестником будущего», Эллис усматривает в нем «первое знамение будущего явления «новых людей» [430, с. 183]. Он пишет: «Сущность А. Белого – предвестие и предвидение нового человека, грядущего во имя нового Бога, в нем воплощенного, им в себе обнаруживаемого и созидаемого» [430, с. 202]. Суждения о новом человеке имеются и в цитируемой работе К. Малевича [194], чему посвящена глава в книге Е. Бобринской [53].
Новая культура, о которой мечтали символисты, ассоциировалась с витальной, дионисийской стихией, способной противостоять угасанию пассионарности и тому, что в античности ассоциировалось с александрийством. Ф. Ницше предполагал, что у неисторических, т. е. варварских народов александрийский комплекс, т. е. накопленные нормы и ценности противодействуют свободной стихии жизни. Следовательно, необходимо раскрепощать дионисийскую, варварскую стихию жизни, свободное творчество духа.
В связи с автономизацией искусства от всех других сфер искусство начинает опережать развитие и функционирование культуры в целом. Это не означает, что оно перестает быть явлением культуры. Просто вопрос о включаемости какого-то явления искусства в культуру решается в больших, а не в малых длительностях времени.
В качестве иллюстрации к данному выводу сошлемся на приводимый В. Розановым пример с Достоевским и пример с М. Врубелем. В. Розанов ценил Достоевского еще и потому, что он был самой значительной фигурой в русской культуре XIX века. Однако в центре внимания все же оказывались менее гениальные художники – его современники. («Он один «грудью схватился» с 60-ми годами, и не в «Бесах», что было бы уже сущими пустяками, а во «всем», от «Бедных людей» и до могилы» [270, с. 341]). Сравнивая Достоевского, с одной стороны, и Чернышевского с Добролюбовым, с другой, В. Розанов считает, что по качеству эти деятели несопоставимы. Значение Достоевского, конечно, превосходит значение Чернышевского и Добролюбова. Но по общественному резонансу Чернышевский с Добролюбовым Достоевского все же превосходят.
Собственно, что касается Достоевского, то эффект его творчества получил общественный резонанс не сразу, ибо общество было «захвачено» его антагонистами. Литература 60-х годов, как выражается В. Розанов, «просто не пустила» Достоевского. «Его (Достоевского – Н. Х.) «прочли»… Но что такое «читанье»? Ничего. Нужно «есть его»; «умирать с голоду» без него. А это – другое дело. И «умирали». тогда и потом без Некрасова, Щедрина; за них «шли в каторгу». Ведь шли? – А это другое дело. За Достоевского никогда не шли в каторгу» [270, с. 342].
Здесь важно отметить, что более глубокое прочтение Достоевского происходит как раз в эпоху Серебряного века, о чем, например, свидетельствуют исследования Д. Мережковского, Н. Бердяева, В. Розанова и др. Но ведь и деятели Серебряного века сами не имели того признания, что имел тот же Достоевский. Так, например, Эллис утверждал, что глубокое понимание классиков XIX века и, в частности, Достоевского связано с появлением символистов. Особые заслуги в интерпретации творчества Достоевского, как он утверждал, принадлежат Д. Мережковскому, благодаря которому Достоевский, Гоголь и Толстой «выросли в гигантов, сбросили свои покровы недоговоренности и заговорили с нами по-новому о вечном» [430, с. 61].
История с Достоевским повторилась с М. Врубелем, стиль которого соответствовал религиозной монументальной живописи, что очевидно, если иметь в виду расписываемую им еще в начале его творческого пути Кирилловскую церковь в Киеве. В этой своей работе он возрождал традиции византийской иконописи. С другой стороны, в своем творчестве он предвосхищал кубизм. Но этот его порыв никто, даже его коллеги-современники и не поняли, и не оценили. Даже А. Бенуа и Н. Ге критиковали в его фресках то, что было в них самое главное и ценное. Высоко оценивая написанные под впечатлением венецианского кватроченто его алтарные иконы, они просмотрели связанные с византинизмом его художественные прозрения. «Он (Врубель – Н. Х.) почуял первый, одинокий, едва выйдя из Академии, никем не поддержанный, – пишет С. Маковский, – что родники неиссякаемые «воды живой» таятся в древней нашей живописи и что именно через эту живопись православного иератизма суждено в нем, маловерным и омещанившимся, приобщиться истинно храмовому религиозному искусству: иератизму его и мистической духовности» [191, с. 82]. Недоверие к художнику сработало и тогда, когда ему была предоставлена возможность расписать Владимирский собор, которую не дано было осуществить. Невозможность реализовать свои непонятные массе смыслы толкала его на крайнее одиночество и болезнь.
Эта травма непонимания гения народом, массой да даже и профессионалами оказывается в центре внимания Д. Мережковского в его книге о Л. Толстом и Ф. Достоевском. Цитируя суждение Л. Толстого по поводу того, что «наша литература не прививается и не привьется народу», Д. Мережковский пытается показать, что, в сущности, ни Л. Толстой, ни Ф. Достоевский (несмотря на то, что в начале XX века его больше стали понимать и его популярность затмила даже Л. Толстого) не были до конца поняты [206, с. 66].
Известны также трудности с пониманием чеховской драматургии. В 1903 году восхищенный и потрясенный новой пьесой А. Чехова «Вишневый сад» К. Станиславский в своем письме признается автору: «Боюсь, что все это слишком тонко для публики. Она не скоро поймет все тонкости» [303, с. 266]. Трудности в Художественном театре возникали и в связи с постановкой спектакля по роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». Так, в 1910 году К. Станиславский пишет В. Немировичу-Данченко: «Сборы «Карамазовых». Ломаю голову и ничего не понимаю. Дорого? – два вечера?.. но ведь зато «Карамазовы»!! Как может интеллигент и просто любопытный не пойти на такой спектакль!.. Публика начинает отвертываться» забывает! Не ценит всех тонкостей, которые дороги только нам – специалистам!» [303, с. 483]. В этом же письме вскрываются и причины провала спектакля, а именно, конкуренция со стороны коммерческих и не самых лучших театров («А, Южин! А Незлобин! Когда их не было, мы как-то направляли публику упорным и долгим трудом, а теперь она спуталась. Говорят. И в Москве, и у Незлобина, и у Зимина огромные дела, а мы без публики» [303, с. 483].
Но ведь такая же ситуация, несмотря на оживление, складывалась в живописи, и те выставки, которые по причине организаторского таланта С. Дягилева представляли значительные явления новой культуры, тоже не всегда имели резонанс. Несмотря на это оживление, В. Стасов еще в середине 80-х годов в одной из своих статей, опубликованных в журнале «Вестник Европы», приходил к пессимистическим заключениям. «Посмотрите в самом деле (уже не говоря о мнениях публики и критики, о которых речь впереди), – пишет он, – посмотрите, какая судьба ждет самые значительные, самые капитальные создания нового русского искусства. Они большинству вовсе не нужны. Их нет ни в одном нашем публичном музее, ни в одном общественном собрании, и об этом никто никогда не тужил. Если б не было этих трех-четырех чудаков, с П. М. Третьяковым во главе, которые вздумали интересоваться новым русским искусством и любить его в такой степени, что тратят десятки тысяч рублей на покупку новых русских картин и наполняют ими свои дома, даже образуют из них музеи, – наверное, большинство этих картин, и всего скорее самые совершенные между ними, все то, что лучшего создано перовым, Репиным, Верещагиным и талантливейшими их товарищами, так бы и осталось на руках у своих авторов, в глуши их мастерских, невидимым и неизвестным для всего нашего народа. Между тем, всякие плохие и посредственные вещи всегда находили себе усердных ценителей и покупателей, и «Нимфы» Нефа, или «Русалки» К. Маковского, разные «Бури» Айвазовского без труда пробили себе дороги и красуются на почетнейших местах в Эрмитаже» [304, с. 706].
Приведенных примеров достаточно, чтобы понять, что одобрение некоторых явлений искусства в кругу интеллигенции еще далеко не означало приобщение к этим явлениям широкой публики. Если, действительно, касаться именно художественной жизни Серебряного века, то тут картина предстанет вовсе не столь благостной. Наследие Серебряного века публика потом столь легко отвергала потому, что его не знала.
Высказывание В. Стасова делает актуальным обсуждение еще одного, важного для изучения художественной жизни этого периода вопроса – вопроса о меценатстве. Русских меценатов В. Стасов называет «чудаками», имея в виду, прежде всего, П. М. Третьякова. Но здесь следовало бы назвать также С. И. Мамонтова, М. К. Тенишеву, о которых так превосходно написано в мемуарах А. Бенуа. В данном случае нельзя не упомянуть об одном весьма красноречивом и связанном с «чудачеством» С. И. Мамонтова факте. Известно, что организаторы Нижегородской выставки заказали М. Врубелю два панно большого формата – «Принцесса Греза» и «Встреча Микулы Селяниновича с Ильей Муромцем» [32, кн. 4–5, с. 212]. Первое панно символизировало Запад, а второе – Россию. Однако когда панно были готовы, организаторы их принять отказались. Гениальность М. Врубеля снова оттолкнула от его творений. Чтобы поддержать художника – новатора, С. И. Мамонтову пришлось выстроить для этих панно специальный павильон.
Продолжая мысль В. Стасова о «чудачестве» меценатов Серебряного века, назовем еще одного подвижника из этой среды, а именно С. И. Щукина, в частной коллекции которого находились полотна Ренуара, Писсаро, Дега, Моне, Пюви де Шаванна, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо. Когда Я. Тугендхольд пытается оценить меценатскую деятельность С. И. Щукина, он находит еще более странные обозначения чудачества, подчеркивая одиночество людей такого рода. «Легко было покровительствовать искусству в эпоху Медичи, – пишет критик, – когда между меценатом, художником и гласом народа существовала некая идейная солидарность, когда вкусы частного заказчика были лишь высшим выражением вкусов целого коллектива. Но в наши неустойчивые и переоценочные дни собирать творчество современников может только маньяк, спекулянт или «любитель», чье эстетическое сознание выше сегодняшнего дня» [327, с. 5].
Пример с Ф. Достоевским и М. Врубелем свидетельствует о возникновении в эту эпоху массовой культуры, очередную волну которой демонстрирует рубеж веков, когда возникает острая проблема рецепции искусства. Вопрос о Достоевском является важным в связи с пониманием Серебряного века как славянского ренессанса, предвестником которого, как доказывал Д. Мережковский, Ф. Достоевский оказывался, и в связи с угасанием культуры чувственного типа, начало которой связывается с Ренессансом и с приходящей ей на смену альтернативной культурой, вводящей мир в новый цикл исторического развития, для которого характерно возрождение мистической и религиозной стихии. Пожалуй, именно Ф. Достоевский оказывается у истоков этой альтернативной культуры, хотя такой взгляд на великого пророка и не совсем соответствует концепции Д. Мережковского, но зато соответствует циклической логике в социодинамике культуры.
Как бы там ни было, но вопрос о нетождественности искусства и культуры требует прояснения степени приобщенности к конкретному явлению искусства массовой публики, предстающей то носителем норм культуры, в том числе, и художественных, то образованиям, возникающим за пределами этих норм, вызывающих к жизни то, что обычно называют массовой культурой, т. е. чем-то таким, что возникает и распространяется за пределами норм транслируемой творческой элитой культуры. Но именно на рубеже XIX–XX веков такая культура и вызывается к жизни, что придает этой эпохе особую исключительность и что подтверждает ее беспрецедентную переходность.
Может быть, вопрос, связанный с массовой культурой на рубеже веков и начавший обсуждаться в первом томе упоминаемого издания [331, с. 455], является одним из самых проблемных вопросов этого периода. Эта проблемность вытекает из того нового для культуры обстоятельства, когда транслируемые творческой элитой нормы и ценности начинают массой отторгаться. То иерархическое строение культуры, что было характерно для доиндустриальных обществ, разрушается. Это приводит к тому, что в художественной жизни масса начинает играть не просто активную, но в иных случаях и определяющую роль. Такую ситуацию можно обозначить как патологическую. В этом случае традиционные механизмы трансляции эстетических оценок – от художественной критики к массовой публике – как необходимый элемент художественной жизни общества не просто становятся неэффективными, но перестают действовать.
Между тем, такие механизмы трансляции эстетического и художественного опыта творческой элиты – признак всякого здорового общества. Что же касается рубежа веков, то, как уже отмечалось, творческая элита, как и составная ее часть – художественная критика необычайно дифференцируется. Творческая элита как целое дробится и объединяется в особые группировки, которые нередко оказываются в конфликтных отношениях между собой. Каждая группировка старается создавать свои издательства и периодические издания, с помощью которых пропагандируются творческие позиции новых и разных художественных течений и выносятся оценки существующему искусству. В этой ситуации художественного и критического плюрализма массовые слои общества оказываются предоставленными себе, находясь во власти подчас навязываемых, а подчас просто стихийных и иррациональных настроений и социально-психологических комплексов. Возникающие новые технологии и средства коммуникации подхватывают эту предоставленную себе массу и, исходя из элементарных вкусов и потребностей, оказываются основой необычайной эскалации массовой культуры.
Именно рубежу XIX–XX веков русское общество обязано как в высшей степени плодотворными, опережающими свое время художественными экспериментами, выводящими за пределы существующей культуры, так и выходу на поверхность варварских, разрушительных комплексов, смягчать которые и была призвана массовая культура. Аналогию этим процессам можно отыскать и в предшествующей истории. Так, касаясь культуры Древнего Рима, М. Гаспаров пишет об одновременном существовании элитарных субкультур с их специфическими эстетическими вкусами и массовых слоев публики. «Одни явления искусства, – пишет он, – приемлемы для всех (или хотя бы для многих) слоев общества и объединяют общество единством вкуса (которое иногда бывает не менее социально значимо, чем, например, единство веры). Другие явления в своем бытовании ограничены определенным общественным кругом, и они выделяют в обществе элитарную культуру и массовую культуру, а иногда и более сложные соотношения субкультур» [169, с. 300].
Собственно, в этом суждении можно узнать морфологию художественной жизни рубежа веков. Действовавшие до этого времени в иерархическом обществе фильтры перестают действовать. Это открывает шлюзы для эскалации массовой культуры, что свидетельствует о нарастании отчуждения, о котором писали не только Гегель и Маркс, но и Хайдеггер, правда, о нарастании отчуждения в сфере и в формах самой культуры. По мнению Г. Зиммеля, дух, превратившись в объект, приобретает самостоятельное существование, независимое от порождающего его субъекта, а значит, начинает противостоять и постоянно изменяющейся живой жизни и в то же время самому субъекту [134, с. 490].
Но дело не только в этом. Культура опредмечивает не только внутреннее, что идет от субъекта, но и внешнее, что идет от цивилизации. В данном случае применительно к этому времени уместно, например, констатировать рыночные отношения в искусстве. Именно рынку общество обязано тем, что в этот период столь интенсивно развивается массовая культура. Ведь рынок способствует втягиванию в культуру тех комплексов, активность которых предшествующая культура ограничивала, не допускала. Прибыль как цель функционирования рынка диктует упразднение этих табу культуры. Так, в ней начинают функционировать элементы, которые культуру разрушают, ее захламляют, что как раз и способствует отчуждению в формах культуры.
С особой остротой этот вопрос поставлен религиозными философами. Гедонистическая функция искусства была известна и философам раннего модерна. Но на рубеже XIX–XX веков гедонизм, став массовым, продемонстрировал беспрецедентный культ наслаждений, который С. Булгаков отождествляет с неоязычеством. «Эпохи упадочные, – пишет С. Булгаков, – сопровождающиеся высоким уровнем развития культуры, отличаются вообще господством философии эпикуреизма, наслаждения жизнью в ее утонченных, эстетически облагороженных формах. Этот культ наслаждений разработало античное язычество в эпоху своего упадка, в эту же колею вступает и современное неоязычество» [65, с. 259].
Опредмечивая внешнее, культура впускает в себя безличное. Чтобы быть общезначимой, культура вынуждена ассимилировать внешние, т. е. цивилизационные факторы. Так, вторжение в художественную жизнь массы, что является показательным и для этой эпохи беспрецедентным, привело к прорыву в культуру ранее для нее запрещенных комплексов. Их легализация породила отчуждение, но не в социальных, а именно в культурных формах. Исходной точкой этого противоречия в культуре является именно рубеж XIX–XX веков, что уже стало предметом исследования в литературе и в кино [138; 397].
Факт возникновения и нарастания стимулируемой новыми технологиями массовой культуры (об этом, например, свидетельствуют уже фотография и кино) столь болезненный для всей последующей культуры, является причиной того, почему возникающие художественные течения и направления этого времени (а их наберется с десяток) существуют на положении маргинальных. Ни одно из них не трансформируется в универсальный художественный стиль, как это имело место в предшествующие эпохи, более того, ни один из этих потенциальных художественных стилей не становится стилем культуры.
Может быть, именно это и становится наиболее очевидным последствием наступления переходности эпохи. Создаваемая в эпоху нового варварства массовая культура, прогнозируемая Ф. Ницше и подтверждаемая Н. Бердяевым, становясь выражением беспрецедентной переходности эпохи, превращается в мощный тормоз становления единого художественного стиля, о возращении которого мечтали большевистские идеологи, вновь обращаясь уже в 30-е годы к И. Винкельману и возрождая в большевистской империи классицизм.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?