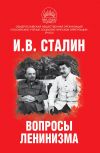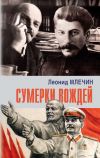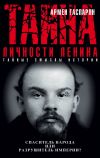Текст книги "Тоталитарный язык. Словарь и речевые реакции"

Автор книги: Н. Купина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
3.4. Языковое противостояние («Гарики на каждый день» Игоря Губермана)
Игорь Губерман – имя новое для нашего читателя. Том «Гариков» впервые у нас был опубликован в 1992 году. Можно отметить отдельные публикации в газетах, журналах, единичные радио– и телевыступления (при отсутствии серьезных критических исследований). Языковое новаторство поэта, его независимая позиция, способность оставаться самим собой и сохранять чувство собственного достоинства – всё это побудило нас коснуться его «гариков» в связи с анализом форм, способов языковой обороны и языкового противостояния.
И. Губерман прошел школу лагерей и в период застоя выехал в Израиль. Тоталитарная система в ее послесталинском варианте – объект его постоянных наблюдений; язык – средство характеризации этой системы и утверждения собственного «я».
Образ автора
Мы рассматриваем «Гарики на каждый день» как сверхтекст – однотипно структурированный (элементы сверхтекста – четверостишия-афоризмы); объединенный темпорально (в сверхтексте зафиксирована эпоха тоталитаризма) и локально (Россия советского периода – единый затекстовый денотат); характеризующийся индивидуальной авторской позицией; адресованный соотечественнику, который готов вместе с автором думать и смеяться.
Образ автора комбинируется на основе ряда параметров. В их числе – демографические: национальность, возраст, пол. Автор – русский еврей, созидающий русскую культуру. В словосочетании русский еврей скрыт глубокий социальный и исторический смысл: еврейское и русское в едином культурном контексте соединяются, не подавляя одно другое (здесь возникает аналогия со сверхтекстом политических анекдотов):
За года, что ничуть я не числю утратой,
за кромешного рабства глухие года
столько русской земли накопал я лопатой,
что частицу души в ней зарыл навсегда.
Ср.:
Живым дыханьем фразу грей,
а не гони в тираж халтуру;
сегодня только тот еврей,
кто теплит русскую культуру.
Возраст автора (оппозиция молодой – стареющий) постоянно присутствует в «гариках», но в социально-историческом контексте важнее другое: поэт – летописец эпохи: «Все время оставаясь за столом», он осмеливается «рисовать свое время».
Параметр пола особенно значим для самого Губермана – легкомысленного любимца женщин и женолюба, для которого легкий флирт порой важней, чем мировые вопросы:
Ты кукуешь о праве и вольности,
ты правительствам ставишь оценки,
но взгляни, как распущены волосы
вон у той полноватой шатенки.
В сверхтексте как содержательном и модальном целом формируется взгляд на мир конкретного живого человека, наделенного недостатками и достоинствами. Это очень важно для исследования тоталитарного языкового сознания. Напомним, что все рассмотренные нами сверхтексты, включая агитационную поэзию Маяковского, характеризовались обобщенной авторской позицией.
В отличие от Маяковского, который ощущал себя агитатором, наставником, «ассенизатором», рупором идей партии, Губерман видит назначение поэта в другом:
Поэт не врач, он только боль,
струна, и нерв, и прут антенны.
Он, в ком «преобладает смех», просто смешит и утешает:
И спросит Бог: никем не ставший,
зачем ты жил? Что смех твой значит?
– Я утешал рабов уставших, —
отвечу я. И Бог заплачет.
И. Губерман многосторонне и весьма критично оценивает собственное «я». Я – продукт времени и системы. Основные мотивы: рабства (Лично я раболепен…; да, здесь я раб…); тенденциозного воспитания (набит мировоззреньем); скептицизма (ни во что без остатка не веря… растленный циник, я не стыжусь, что ярый скептик…); внутренней несвободы:
Летит еврей, несясь над бездной,
от жизни трудной к жизни тяжкой,
и личный занавес железный
везет под импортной рубашкой;
я … на свободе чуждый гость.
Автор «гариков», будучи человеком своей эпохи, стремится взглянуть на нее со стороны, независимо (…чем человек подлей, тем больше чести тому, кто с ним не заодно: Лишь сосед я веку своему). Мотив остранения поддерживается мотивом неприятия тоталитарных традиций, ритуалов и предписаний: я враг дискуссий и собраний; не в силах жить я коллективно; В борьбе за народное дело я был инородное тело;
Нет, я не лидер, не трибун,
с толпой взаимно мы прохладны;
те, кто рожден вести табун,
должны быть сами очень стадны;
Предписания системы не признаются в целом:
1.
Я прожил жизнь как дилетант –
ни в чем ни знаний, ни системы,
зато писал я не диктант,
а сочинение без темы.
2.
Один дышу, одно пою,
один горит мне свет в окне –
что проживаю жизнь свою,
а не навязанную мне.
И. Губерман претендует на собственное место в жизни. Он не подчиняется навязанным догмам. Позиция человека противостоит официальной идеологической позиции государства.
Автор расценивает Россию как страну, где жить невозможно, как гиблую почву, но вместе с тем он скован со своей Родиной общей цепью. Через весь сверхтекст проходит мотив любви и жалости к кровавой и проклятой родине, внедряемый с помощью оксюморона:
Любовь моя чиста, и неизменно
пристрастие, любовью одержимое;
будь проклято и будь благословенно
отечество мое непостижимое.
Ср.: «…привязан сердцем к родине кровавой…»
Жалость к родине переплетается с любовью:
Мне жаль небосвод этот синий,
жаль землю и жизни осколки;
мне странно, что сытые свиньи
страшней, чем голодные волки.
Мотив любви и жалости не противопоставляется мотиву ненависти. В картине мира поэта нет такой категории. Его средство – ирония, смех:
Наш разум лишь смехом полощется
от глупости, скверны и пакости,
а смеха лишенное общество
скудеет в клиническом пафосе.
Характерно, что страх за Россию соединяется с личным бесстрашием (тюрьма – отменная прививка от наших страхов перед ней; это счастье – дворец возводить на песке, не бояться тюрьмы и сумы; я не испугаюсь ничего…).
Веря, что «царство Божие внутри», И. Губерман постоянно напоминает о духовном и о душе, но предостерегает: Кто томим духовной жаждой, тот не жди любви сограждан. Мотив души проходит через весь сверхтекст: душа моя – печальный предрассудок – хотя не существует, но болит; моя неоперабельная язва на дне несуществующей души; Уйти в себя, забыть вернуться, прильнуть к душе перед разлукой; моей душе привычен риск.
Легкомысленный бездельник, эпикуреец, жизнелюб, И. Губерман не снимает с себя ответственности за судьбу России. Мотив личной вины – один из самых важных в сверхтексте; «я» и «мы» не противопоставляются, а обобщаются и сливаются:
Диспуты, дискуссии,
дебаты зря об этом длятся сотни лет,
ибо виноватых в мире нет,
потому что все мы виноваты.
Личная вина входит в общую оценку мира:
Множеству того, чем грязно время,
тьме событий, мерзостных и грустных,
я легко отыскиваю семя
в собственных суждениях и чувствах.
Мотив вины пересекается с мотивом возмездия:
Тюрьма была отнюдь не раем,
но часто думал я, куря,
что, как известно. Бог – не фраер,
а значит, я сижу не зря.
Образ автора в сверхтексте в особенности значим для понимания позиции независимого человека, пытающегося противостоять давлению официальной системы.
Время: преодоление идеологической структуры
Время в сверхтексте имеет тенденцию к обобщению: эпоха, век, годы, наше время. Эпоха характеризуется ёмко и определённо: эпоха грандиозных заблуждений; сознание свихнувшейся эпохи безумствует на русском языке; эпохи крупных ослеплений; года растленья, лжи и страха; года неправедных гонений; кромешного рабства глухие года; из нашего времени тошного; Кровав был век. Жесток и лжив. Лишен и разума и милости…
Ложь, страх, насилие, кровь, угнетение, жестокость и даже утопизм заданы в значительной мере главным событием – революцией. Слово революция – одно из немногих слов-идеологем в словаре И. Губермана (варианты: эксперимент, переворот, переустройство, взрыв). Сама идеологема оценивается на фоне проспекции:
Власть и деньги, успех, революция,
слава, месть и любви осязаемость –
все мечты обо что-нибудь бьются,
и больнее всего – о сбываемость.
Революция характеризуется как кровавый эксперимент, который не должен повториться ни в России, ни в какой-либо другой стране:
Навеки мы воздвигли монумент
безумия, крушений и утрат,
поставив на крови эксперимент,
принесший негативный результат.
И. Губерман говорит о революции вообще (безотносительно к месту и времени) как о перевороте, который тормозит время и не оставляет надежды на достойное будущее:
Теперь любая революция
легко прогнозу поддается:
где жгут Шекспира и Конфуция,
надежда срамом обернется.
Событие века не определяет членение времени, как в опорном сверхтексте, а прекращает движение социального времени вперед. Идеологическая темпоральная структура (дооктябрьское – Октябрь – пооктябрьское время), в отличие от агитационного сверхтекста Маяковского, преодолевается.
Русская революция – это грех, а жизнь в рабстве – возмездие за грех:
Назначенная чашу в срок испить,
Россия – всем в урок и беспокойство –
распята, как Христос, чтоб искупить
всеобщий смертный грех переустройства.
Социальное время квазидинамично: скованное системой, лишенное исторической памяти, оно не имеет возможности преодолеть эту систему и движется по кругу – из тьмы во тьму:
Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови – по грязи – во тьму.
Бесперспективность сопровождает ход времени и ощущается каждым человеком:
За осенью – осень. Тоска и тревога.
Ветра над опавшими листьями.
Вся русская жизнь – ожиданье от Бога
какой-то неясной амнистии.
Круговое движение времени, его безысходность – следствие утопического идеологического примитивизма:
Жить и нетрудно и занятно,
хотя и мерзостно неслыханно,
когда в эпохе все понятно
и все настолько же безвыходно.
Придавленный временем, человек все же может разглядеть день, час, Социальное и житейское время таким образом противопоставляются: Быстрых дней теченье; По времени скользя и спотыкаясь, мы шьемся сквозь минуты и года; сто тысяч сигарет тому назад таинственно мерцал вечерний сад; Я жизнь люблю, вертящуюся юрко в сегодняшнем пространстве и моменте, моя живая трепетная шкурка милее мне цветов на постаменте; Счастливые всегда потом рыдают, что вовремя часов не наблюдают…
Введение человеческого фактора в темпоральную структуру – способ противостояния тоталитарным предписаниям, позволяющий преодолеть идеологически заданную структуру.
Миф о коммунизме как будущем человечества беспощадно разрушается содержанием сгущенного настоящего:
Двадцатый век настолько обнажил
конструкции людской несовершенство,
что явно и надолго отложил
надежды на всеобщее блаженство.
Противопоставление социального и человеческого времени частично нейтрализуется: будущее России не представляется И. Губерману определенным, но оно соединяется с будущим человека:
Чему бы вокруг ни случиться,
тепло победит или лед,
страны этой странной страницы,
мы влипли в ее переплет.
Будущее реально связывается с прекращением тоталитарного времени – времени утопий и заблуждений. Вместе с тем Губерман не исключает возможности продления тоталитарного времени и объясняет это живучестью идеологической системы55
Ср. предостережение Б. Окуджавы: «Ситуация сложная: с одной стороны, мы находимся в таких обстоятельствах, когда, как это ни печально, как это ни страшно, нам трудно обойтись без авторитарного режима. Но, с другой стороны, в условиях нашего общества он тут же перерастет в тоталитарный – как быть? То есть нужна сила, но не насилие, нужна жесткость, но не жестокость! Сила – это средство защиты, насилие – это средство давления, а у нас очень легкомысленно относятся к своему любимому языку и путают понятия» (Литературная газета. 11.05.94. № 18–19 (5499).
[Закрыть]:
1.
Эпохи крупных осмыслений
недолго тянутся на свете,
залившись кровью поколений,
рожденных жить в эпохи эти.
2.
Года неправедных гонений
сочат незримый сок заразы,
и в дух грядущих поколений
ползут глухие метастазы.
Время тоталитаризма, таким образом, не определяется лишь именем вождя и событием: оно мотивировано идеологически.
Противопоставление социального и житейского времени – попытка возвысить человека над системой, утвердить приоритет личного над общественным. Человек разрывает идеологические тиски времени, перемещаясь в свой мир.
Навязчивый образ замкнутого пространства
Если согласиться с тем, что картина мира – это закрепившаяся в языковой системе понятийная структура, а лексика выступает в функции своеобразного классификатора мира [Гжегорчикова 1990: 17], следует обратить особое внимание на отбор лексических сигналов пространства. Регулярно Губерман использует слово Россия, игнорируя Советский Союз и все без исключения топонимы советского периода с идеологическим приращением (Комсомольск, Сталинград, Ленинград и др.). Эта тенденция перерастает в конструктивный прием – прием языкового противостояния. Автор пытается выйти за границы навязанного системой пространства, противопоставить ему пространство внутренней жизни человека и жизненное человеческое пространство, однако «невидимая рука языка» не освобождает И. Губермана из «плена дихотомий» [Келлер 1992: 18–19].
Внесенная тоталитарным мышлением в картину мира оппозиция закрытого и открытого пространства проходит через весь сверхтекст.
Россия – страна, изолированная от мира, находящаяся в плену советской идеологической системы:
Мне повезло: я знал страну,
одну-единственную в мире,
в своем же собственном плену
в своей живущую квартире.
Метафорическое представление замкнутости российского «гибельного пространства» многократно варьируется: квартира, плен, застенок, тюрьма, камера, камерная параша, барак, клетка, оковы, железный занавес, ров, кювет, сажать, посадить, глухой, безвыходный…
Российское пространство – это пространство тюремное. Российская жизнь – «смесь курорта и тюрьмы». Семы насилия, металлического, холодного, темного, глухого, безвыходного пересекаются с соответствующими семантическими компонентами пространства лагерной поэзии.
Открытое пространство представлено цепочкой ментально узнаваемых сигналов: пространство, дорога, простор, пустырь, шоссе… Как и в лагерной поэзии, открытое пространство замыкается, оказывается безвыходным:
Беспечны, безучастны, беспризорны
российские безмерные пространства,
бескрайно и безвыходно просторны,
безмолвны, безнадежны и бесстрастны.
Человек в «русских пространствах глухих» лишается свободы, чувствует себя «пригвожденным» к этому пространству. Лейтмотив неволи, несвободы является фундаментальным в сверхтексте. В неволе живет вся страна. Неволя становится приметой социального, жизненного, личного пространства. Неволя проникает в душу и растлевает ее:
1.
У жизни свой, иной оттенок,
и жизнечувствие свое,
когда участвует застенок
во всех явлениях ее.
2.
По крови проникая до корней,
пронизывая воздух небосвода,
неволя растлевает нас сильней,
чем самая беспутная свобода.
Человек оказывается частью народа, обреченного на несвободу:
Привычные безмолвствуют народы,
беззвучные горланят петухи;
мы созданы для счастья и свободы,
как рыбы – для полета и ухи.
Подневольность интерпретируется как причина замкнутости Миф о самой свободной в мире стране высмеивается и разрушается:
На наш барак пошли столбы
свободы, равенства и братства;
всё, что сработали рабы,
всегда работает на рабство.
В отличие от лагерной поэзии, «гарики» Губермана не драматизируют судьбу заключенного:
Конечно, здесь темней и хуже,
но есть достоинство свое:
сквозь прутья клетки небо глубже,
и мир прозрачней из нее.
Оппозиция замкнутого и открытого преодолевается лишь благодаря воображению человека, его непреодолимому стремлению к свету. Вместе с тем возможности человека оказываются ограниченными:
Свобода, глядя беспристрастно,
тогда лишь делается нужной,
когда внутри меня пространство
обширней камеры наружной.
В дихотомии замкнутое наружное – замкнутое внутреннее пространство сильнее оказывается внутренний мир человека.
Полного преодоления замкнутости не наблюдается.
Гораздо драматичнее, по Губерману, хроническое ощущение внутренней личной несвободы. Динамика оппозиции здесь – там (за пределами России) не освобождает человека ни от привязанности к родине, ни от ощущения личной несвободы:
1.
С моим отъездом шов протянется,
кромсая прямо по стране
страну, которая останется,
и ту, которая во мне.
2.
Уехать. И жить в безопасном тепле.
И помнить. И мучиться ночью.
Примерзла душа к этой стылой земле,
вросла в эту гиблую почву.
Образ внутренней несвободы обобщается, связываясь не только с авторским «я», но и с каждым русским:
Чем дряхлый этот раб так удручен?
Его ведь отпустили? Ну и что же.
Теперь он на свободу обречен.
А он уже свободно жить не может.
Разрабатываемый в политических анекдотах новый миф о свободе на Западе становится несущественным: личный занавес железный надежно обороняет россиянина от дуновений нездешнего ветра свободы.
Итак, ментально заданное открытое пространство насильственно замыкается.
Идея замкнутости не преодолевается независимой позицией: в картине мира каждого носителя тоталитарного языка присутствует навязчивый образ замкнутого пространства, деформирующий образ действительности.
Человек, новый ментальный мир и традиционные ценности
Новый ментальный мир в целом воплощается в советской системе, противопоставленной традиционному российскому ментальному миру. Система в «гариках» получает более развернутую, чем в сверхтексте политических анекдотов, характеристику (бардак; рай, где применяется смола). Это система с безумным уголовным режимом, основанным на утопической теории, лжи, страхе, крови, насилии, система дряхлая, бесноватая, подлая.
При характеристике традиционного ментального мира разрабатывается миф об уникальности русского пути. Сигналы уникальности: неясный, непостижимый, причуда, причудливый, абсурд, чудеса, избранность, юродивый, диковинный, непохожий, странный, наоборот; Российский нрав прославлен в мире, его исследуют везде…; Сильна Россия чудесами. Губерман иронизирует над гиперболизацией идеи уникальности русского:
Причудливее нет на свете повести, чем повесть о причудах русской совести; Давно пора <…> мать, умом Россию понимать 66
Губерман часто употребляет нецензурные слова, скорее всего, как средство языкового протеста. На месте этих слов мы ставим многоточие.
[Закрыть] ;
Не вижу в русском рабстве неумытом ни избранности признак, ни величия;
Блажен тот муж, кто не случайно,
а в долгой умственной тщете
проникнет в душ российских тайну
и ахнет в этой пустоте.
Традиционный ментальный мир вбирает извечные ценности: мораль, добро, дух, свобода, земля, дом, семья, женщина, отец, сын, друзья, человек и его душа.
В оппозиции нового ментального мира и мира традиционного побеждает последний:
Владыка наш – традиция. А с ней –
свои благословенья и препоны,
неписанные правила сильней,
чем самые свирепые законы.
В «гариках» наблюдаем настойчивый мотив гибели системы, представленный в двух вариантах: взрыва и самоликвидации. Прогнозирование безусловной гибели системы не было зафиксировано нами в сверхтекстах с обобщенной авторской позицией. Скорее всего, «невидимая рука» тоталитарного языка ввела в общественное сознание идею незыблемости системы. Эта идея подвергается разрушению под влиянием независимой индивидуальной авторской позиции. С точки зрения Губермана, взрыв системы чреват опасными последствиями; самоликвидация системы естественна и закономерна. Ср.:
1.
чем безумней дряхлая система,
тем опасней враз ее разрушить.
2.
Система на страхе и крови,
на лжи и на нервах издерганных
сама себе гибель готовит
от рака в карательных органах.
Заметим, кстати, отсутствие в сверхтексте наименований карательных органов, в том числе – аббревиатур. Само слово орган используется для создания каламбура.
Человек – носитель традиционных ценностей – способен противостоять системе внутренней индивидуальностью, сосредоточенностью, отсутствием иллюзий и страха, созерцательностью, несуетностью: Блажен, в ком достаточно мужества на дудочке тихо играть; небо светлее над теми, кто изредка смотрит на небо; уйти в себя, забыть вернуться; непросто – думать о высоком, паря душой в мирах беззвездных; власть боится тех, кто не боится; держи себя на тройственном запрете: не бойся, не надейся, не проси. См. также:
1.
Геройству наше чувство рукоплещет,
героев славит мир от сотворения;
но часто надо мужества не меньше
для кроткости, терпения, смирения.
2.
Всегда и всюду тот, кто странен,
кто не со всеми наравне,
нелеп и как бы чужестранен
в своей родимой стороне.
3.
Когда клубится страх кромешный
и тьму пронзает лай погонь,
благословен любой, посмевший
не задувать в себе огонь.
Чувства человека, отчужденного от толпы, разделяет автор, никогда не теряющий чувства юмора:
Я вдруг утратил чувство локтя
с толпой кишащего народа,
и худо мне, как ложке дегтя
должно быть худо в бочке меда.
Предписанная тоталитарным языком идеологема превосходства общественного над личным разрушается. Человек противостоит толпе, стаду, стае, одинаковости, похожести, безликости, бездуховности, хотя противостояние это требует изрядного искусства.
Коллективизм и вообще равенство как универсальные принципы жизни отвергаются и высмеиваются:
1.
Не в силах нас ни смех,
ни грех свернуть с пути отважного,
мы строим счастье сразу всех,
и нам плевать на каждого.
2.
Навеки в душе моей пятна
остались, как страха посев,
боюсь я всего, что бесплатно
и благостно равно для всех.
3.
Когда страна – одна семья,
все по любви живут и ладят,
скажи мне, кто твой друг, и я
скажу, за что тебя посадят.
4.
Россия столько жизней искалечила
во имя всенародного единства <…>
С возрастом я понял, как опасна
стройка всенародного блаженства…
Отстаивается право человека выделяться из толпы, противостоять ее инстинктам, иметь свое лицо, быть нетипичным, не таким, как все – вопреки давлению коллективного: безликость есть отсутствие улик опасного наличия в нас личности; …всюду тьма то харь, то рыл, а непохожих бьют по лицам…
Оппозиция человек – толпа развивается на базе зоометафор: Унижением, страхом и скукой человека низводят в скоты; здесь выбирают овцы сами себе волков себя пасти: И мерзко, и гнусно, и подло, и страх, что заразишься свинством, а быдло сбивается в кодло и счастливо скотским единством…
Заданная сверхтекстом-основой оппозиция общественного и личного переворачивается. Утверждается право личности на свое лицо. Подсистема идеологем, соответствующих категориям коллективного, всеобщего, всенародного, разрушается.
В наборе приемов языкового противостояния особую значимость приобретает прием, с помощью которого происходит формальная и семантико-идеологическая деформация прецедентных текстов.
Источники прецедентных текстов – русский фольклор, классическая мировая и классическая русская литература, сверхтекст идеологем и мифологем тоталитарного языка советской эпохи.
Обозначим основные разновидности деформаций прецедентных текстов, выделяя ту или иную разновидность в качестве базовой, но имея в виду склонность И. Губермана к соединению формальных средств.
1. Деформация с помощью замены элемента (элементов) прецедентного текста, вставки элемента (элементов) или одновременно с помощью замены и вставки:
а) замена одного из элементов словом с противоположным значением: И вновь ослепляемся верой, что ведаем то, что творим; Россия показала всей планете, что гений и злодейство совместимы; в данном случае противоположный по сравнению с источником смысл актуализируется благодаря отсутствию отрицательной частицы не;
б) замена одного из элементов словом, на которое наложено табу, или нецензурным словом (дисфемизмом – см. [Культура парламентской речи 1994: 84–89]). Языковое противостояние сопровождается эпатажем:
1.
Льется листва, подбивая на пьянство,
скоро снегами задуют метели;
смутные слухи слоятся в пространство;
поздняя осень; жиды улетели77
Глагол улетели – антоним к однокоренному образованию в прецедентном тексте-источнике.
[Закрыть].
2.
Все социальные системы –
от иерархии до братства –
стучатся лбами о проблемы
свободы, равенства и б…ства.
в) замена элемента (элементов) по метафорическому принципу:
Как рыбы, мы глубоководны,
тьмы и давления диету
освоив так, что непригодны
к свободе, воздуху и свету.
Замена усиливает сверхтекстовой лейтмотив свободы, развивая его на тропеическом уровне. Позиция противостояния опирается на левый контекст (мы… непригодны – сема отрицания).
г) лексическая замена в сочетании с меной частеречной принадлежности слов: …пировать в эпицентре чумы.
д) замена морфологической формы в сочетании со вставкой: Ученье – свет, а неученье – уменье пользоваться тьмой.
е) вставка элементов как самостоятельное средство деформации: Российская лихая птица-тройка…
2. Структурно-синтаксическая трансформация и переработка в сочетании с лексическими заменами, вставками (или без последних): Я тот никто, кто был никем, и очень был доволен этим; Кто томим духовной жаждой, тот не жди любви сограждан.
Синтаксическая переработка предложения часто приводит к формированию нового суждения по мотивам прецедентного: Неважно, что мгновение прекрасно, а важно, что оно неповторимо; Когда продажно вдохновенье, то сложно рукопись продать.
3. Деформация осуществляется с помощью контаминации прецедентных текстов:
Душа отпылала, погасла,
состарилась, влезла в халат,
но ей, как и прежде, неясно,
что делать и кто виноват.
Прецедентные тексты из различных источников соединяются в одном однородном ряду. Они включаются в сложное предложение с изъяснительной связью, соответствующее одному суждению, включенному в ситуацию идеологической неопределенности. Последняя противостоит идеологической прямолинейности и однозначности, предписанной сверхтекстом-основой:
Сбылись грезы Ильича,
он лежит, откинув тапочки,
но горит его свеча:
всем и всюду всё до лампочки.
Прецедентные тексты лампочка Ильича (с пропуском элемента), до лампочки, соединяясь, включаются в развернутую метафору. Прецедентные тексты, коннотативно контрастные, расположенные соответственно во второй и третьей строках, создают базу для тонального оксюморона. Вторая строка – намеренно вульгарная – перекрещивается со «сниженной» четвертой строкой. В таком же соотношении первая и третья строки. Таким образом, контактно расположенные строки тонально соответственны. В целом создается образ эпохи застоя: духовная апатия людей противостоит «свету» идеологических официальных догм:
Евреи продолжают разъезжаться
под свист и улюлюканье народа,
и скоро вся семья цветущих наций
останется семьею без урода.
Соединяются в единое целое деформированный догматический прецедентный текст и пословица. Возникает каламбур, высвечивающий государственный антисемитизм.
4. Деформация на фоне «диверсии» левого или правого контекста: На наш барак пошли столбы свободы, равенства и братства; Иных уж нет, а те далече, а кто ослаб, выходит в суки;
Бывает – проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться,
но к завтраку это проходит.
Три первые строки выдержаны в духе официозных интонаций, сопровождающих выражение трудового энтузиазма. Прецедентный текст жить и трудиться, служащий базой для образования сложных предложений с союзом как (…как завещал В. И. Ленин; …как учит партия; …как подобает советскому человеку) или распространяемый наречием с по– (по-коммунистически, по-ударному, по-стахановски, по-ленински), деформируется под влиянием правого контекста. Столкновение высокого и низкого разрушает миф о всеобщей устремленности к трудовым победам.
Прием деформации прецедентных текстов, входящих в сверхтекст идеологем и мифологем тоталитарного языка, является универсальным приемом языкового сопротивления. В четверостишиях Губермана этот прием становится конструктивным. Средства деформации имеют тенденцию к объединению и концентрации. На осколках официальных мифов вырастают суждения высокой степени обобщения. Демифологизация, в отличие от сверхтекста политических анекдотов, затрагивает не только мифы тоталитарного языка, но и контрмифы.
Мы завершили эскизный анализ сверхтекста четверостиший Игоря Губермана. Этот сверхтекст характеризуется четкой авторской позицией, противопоставленной позиции официальной. Основное средство противостояния – намеренное игнорирование слов-идеологем (нами зафиксированы единичные идеологемы, используемые по типу вкраплений). Отбор лексики, сверхтекстовая лексическая сочетаемость и парадигматика, деформации прецедентных текстов, семантические основы метафоризации приводят к формированию картины мира человека, имеющего смелость открыто предпочесть ценности традиционные идеологическим.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.