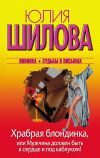Текст книги "Испекли мы каравай (сборник)"

Автор книги: Наталья Нестерова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
– Федорович, Ексель-Моксель, ничего, поправится, – сказала она. – А Нюрочка очень плоха. Помирает. Это ты их корову забрала? Справляешься?
– Не знаю. Мне прислали распечатку книги по ветеринарии. Половину не поняла, от того, что поняла, в ужас пришла – столько опасностей теленочку и корове грозит. Борис, – Татьяна показала наверх, – наш больной, сказал, мне кажется, мудрую мысль: в природе акушеров нет. Только на то я и рассчитываю, что Зорька лучше меня справится.
– Хочешь, я их посмотрю? – предложила Агриппина Митрофановна. – Кем отелилась? Бычок? Телочка?
* * *
К вечеру три новообращенных медсестры валились с ног от усталости. Их пациент так и не пришел в себя, но все мероприятия были проделаны. Тоськино участие заключалось в том, что она палочкой с ваткой обработала пупырышки на теле отца. Причем использовала и зеленку, и марганцовку по очереди.
– Позвони маме, – напомнила девочке Татьяна. – Объясни, что случилось.
– Не буду ей звонить! – заявила Тоська.
– Что значит не будешь? Почему?
– Она такое сделала! Если бы вы знали, тетя Таня!
Можно было попросить Любашу, но она уже отправилась спать. Договорились, что в три ночи Таня ее поднимет, чтобы смениться у постели Бориса.
Тося, конечно, много пережила за сегодняшний день. Но позволять ей капризничать не следует. Татьяна знала, как легко дети спекулируют на жалости.
– Очевидно, мне этого и знать не нужно, – сказала Таня строго. – Но я абсолютно уверена, что ты не должна заставлять маму волноваться!
– Она! – выкрикнула Тося. – Она привела домой любовника! Голого! И папа видел! И я видела!
Кошмар. Бедный ребенок. Татьяна почему-то не подумала о том, как отнесся к ситуации Борис. Ей было пронзительно жалко девочку. Таня села к ней на диван. Обняла, прижала к груди деревянно-напряженную Тосю. Гладила ее по голове и тихонько баюкала:
– Успокойся. Не надо об этом думать. Постарайся забыть. Как будто этого вообще не было. Тебе приснилось. Что бы ни происходило между папой и мамой, они все равно будут любить тебя. Думай о том, что они очень тебя любят.
– А вам нравится мой папа?
– Нравится. Особенно теперь, когда ты его раскрасила в веселый ситчик.
Тоська прыснула.
– Я тебе расскажу то, что никогда никому не рассказывала. – Татьяна выдержала паузу. – Когда мне было столько лет, сколько тебе, я очень мечтала научиться рисовать. Но учитель… он обошелся со мной нехорошо.
– Педофил, что ли?
– Да, – кивнула Таня и поразилась степени просвещенности нынешних детей. – Я его ненавидела всю жизнь, страшно ненавидела. А несколько лет назад встретила – старенького, сгорбленного, с палочкой, руки трясутся, голова дергается. И простила. Вдруг сразу простила. Знаешь, мне стало очень хорошо. Словно внутри меня было черное пятно, и я его отмыла. Теперь чисто и легко. И это был чужой человек! Мама твоя поступила плохо, но тебе не нужно держать на нее зло – черное пятно. Ты такая симпатичная внешне, хочется, чтобы и внутри была светлой.
– Ладно, – согласилась Тося, – я позвоню.
Она набрала номер на мобильном телефоне и выпалила в одно слово:
– Это-я-папа-заболел-здесь-тетя-Люба-пока.
* * *
Руки под бинтами болели у Федора Федоровича непередаваемо. Но это было хорошо. Иначе ему не осилить боль душевную. Нюрочка умирала. Врач сказал – в любую минуту. Отвезли ее в пустую палату на каталке. Так и оставили – на кровать не переложили, чтобы потом на той же каталке и в морг отвезти. Федорович принес табуретку, сел рядом. Плакал в голос и тихо звал жену, разговаривал с ней, проваливался не то в сон, не то в бред.
Не было сейчас в мире той цены, которую он не заплатил бы за Нюрочкину жизнь. И не страшно сказать: его заберите, и дочь, и внучика, да все человечество в крематорий отправьте… Но никто цены не запрашивал, а Нюрочка в себя не приходила. Сипло дышала, сукровица из уголка рта текла. Федорович пеленкой вытирал.
Он полюбил ее с первого взгляда. Почти полвека назад. Сердце защемило – и на всю жизнь в нем прищепка осталась. Спроси Федора, что его заворожило в работнице красильного цеха ткацко-прядильной фабрики имени Буденного Анне Тимофеевне Козловой, ответит: медленность и плавность. Все девчонки – вихлястые, крикливые, матерком щегольнуть, стакан опрокинуть. А она!.. Руку поднимет, голову повернет, шаг ступит – пава, боярыня. Но не дура заторможенная. Кому следует, так ответит – три дня заикаться будет. Держала себя с достоинством. На Федино ухажерство прямо сказала:
– Времени не теряй. Ты мне неподходящий. Бабник ты, Федька, и несерьезный человек.
Но его тогда и волна типа цунами не могла остановить. Голову потерял, а осаду организовал с суворовской наглостью и натиском. По пожарной лестнице к ее окну в общежитие забраться и букет цветов бросить – пожалуйста, и регулярно. У проходной дежурил, чтобы домой проводить, – понятно, но еще и по утрам к общежитию прибегал – на фабрику сопровождать. На аванс жил, получку складывал, у ребят подзанял – позвольте преподнести вам скромный подарок в виде черно-бурой лисы с хвостиком и мордочкой со стеклянными глазками. А уж любимыми духами «Красная Москва» завалил – хоть мойся ими с головы до ног.
Его друзья из локомотивного депо и Нюрочкины соседки, прядильщицы и красильщицы, видя Федино неистовство и страдание, приняли участие – дружно Нюрочку уламывали: посмотри, как человек мучается, неужто думаешь кто еще тебя так любить будет. И сломалась Нюрочка – полюбила Федю. На большое бабье горе.
Хоть и въелась крепко в Федино сердце прищепка, а с другими частями своего блудливого тела ничего он поделать не мог. Сколько себя помнит, неравнодушен был к женскому полу. В школу еще не ходил, а бегал в баню за тетками подглядывать. Учительница, что из города приехала, за руку возьмет – у него чресла каменеют и по ночам не спится.
Любил он жену, но и других женщин временно тоже любил. Будто кто внутри его будильник заводит – звенит так, что глохнет Федина совесть. Пока своего не добьется, никакие другие звуки не проникают. Надолго завода пружины у будильника не хватало – месяц, самое большое – два.
В изысках охмурительного процесса себя не утруждал. За годы арсенал наступательных присловий отшлифовался до глянцевости (бабы ушами любить начинают). Он его и на Татьяне, что дом в Смятинове построила, испробовал. «Взгляд ваших пронзительных зеленых глаз заставил трепетать струны моей чувствительной души», «Сражен стрелой амура, исходящей из прельстительных органов вашего глубоко прекрасного тела», «Секрет вашего очарования государству следует охранять, как оружие массового поражения» и так далее в таком же духе.
Татьяна в ответ хохотала. Неудивительно. На женщин с высшим образованием Федор и в молодые годы редко покушался.
Ступино – городок небольшой, и доброхотки не замедлили Нюрочке глаза на мужа-гуляку ненасытного открыть. А потом она и сама стала фиксировать, когда будильничек у него включался. Очень страдала. И плакала, и уговаривала, клятвы страшной требовала, разойтись хотела, кастрировать его хирургически – все прошла. А с него как с гуся вода. Честно обещает не таскаться, а новая сударушка появится – зазвенело, и пиши пропало.
Пересилила себя Нюрочка. Еще выше стала. Голову не опустила, стыдом не умылась. Поняла, что неверный муж – он по-своему надежный. Поганые рты тех, кто на унижение ее посмотреть хотел, быстро затыкала: «Хороший кобель всех сучек в деревне покроет, а охранять свой дом прибежит». В том смысле, что объедков и обмылков ей не жалко. Никто ее горя не видел. Хотя до конца разве простишь?
К Феде относилась как к больному умственно: «Опять у тебя, ирод, замыкание в голове дрель между ног включило?» Он, понятно, отказывался. А когда снова на семейную стезю с повинной головой и большим желанием возвращался, Нюрочка брезговала. Требовала «дрель» кипятком ошпаривать, водкой мыть или в банке с черным раствором марганцовки держать. Испытание не из приятных, хоть и заслуженное.
А теперь Нюрочка умирала. Вросла прищепка в его сердце, и рвали ее по-живому, с мясом, с кровью. Федор Федорович Ексель-Моксель отчетливо понимал: жить без куска сердца не сможет, да и не хочет. Не будет Нюрочки, и ему на белом свете делать нечего.
То ли он сном забылся, то ли видение явилось, но увидел он вдруг Нюрочку молодой, в белом сарафане, с косой на конце расплетенной. Лузгает семечки и улыбается насмешливо. Она умела так: голову наклонит и испытывающе хихикает. А у него коленки сразу слабеют, подгибаются.
– Все-таки ты, Федька, дурак, – говорит молодая Нюрочка, но она как бы и мудрая по пережитому. – Что ты удумал? Руки на себя наложить? Шальная башка! – Она уже не улыбается, а смотрит с гневом. – По ветру пустить, что нажили? Дом, на сберкнижке деньги, корова, Люська да Димка! Это же память моя, а ты – коту под хвост!
– Нюрочка, голубушка! – Федя, сморчок старый перед красавицей, испугался, что не узнает она его. – Помнишь все? Ты простила меня, ненаглядная?
– А что прощать? – опять улыбается. – Если любят, не прощают.
– Выходит, зло держишь, – поник Федя.
Она не сразу ответила. Хохотнула, шелуху подсолнечную с губ сняла:
– Говорю же – дурак! Любила я тебя. Со всеми твоими потрохами и выкрутасами. Чего прощать? Прощают – когда равнодушие, вроде сделки: гроб на музыку меняют. Я-то бескрылая была, а ты – орел. Небо мне показал. Смотри, Федька, не блажи без меня! И не торопись следом! Живи, как на роду написано. А я дождусь тебя. Ну, иди, касатик!
– Иди, иди, касатик! – Нянечка обняла Федора Федоровича за плечи, подняла с табуретки и проводила до дверей палаты.
Он оглянулся, выходя. Лицо жены закрыто простыней. Нянечка про себя удивилась: так убивался, а сейчас на израненном лице спокойствие и благость.
* * *
Люся прибежала, когда Анну Тимофеевну везли по больничному коридору в морг. Не успела проститься – Димку ходила проведывать.
– Ушла мама, – сказал дочери семенящий рядом с каталкой Федор Федорович.
Люся закричала в голос, упала грудью на закрытое простыней тело матери. Каталка затрещала.
– Тише ты! – в сердцах прикрикнула нянечка. – Свалишь покойницу.
Последнее слово вызвало новый взрыв рыданий у Люси.
Отец водил руками в воздухе над головой дочери, будто гладил ее (дотрагиваться не мог – любое касание отзывалось острой болью).
– Не плачь, доченька! Не плачь, родная. Я с мамой поговорил, она все правильно решила.
Люся не слышала его. Она выла белугой, изредка причитая:
– Мамочка моя ненаглядная… Как же я без тебя… На кого ты нас бросила… Солнце мое ясное… Кровинушка… Ой, горе… Ой, возьми меня с собой… Кто защитит, кто приголубит…
Из палат стали выходить больные, из ординаторской пришли врач и медсестра. Люсю оторвали от тела матери, заставили выпить капли. Люся билась в чужих руках, лекарство расплескалось по лицу и платью.
Федор Федорович сидел на банкетке у стены и, провожая взглядом нянечку, толкающую каталку, что-то бормотал. Люсю посадили рядом. Она еще долго плакала и не слышала, что говорит отец.
Когда рыдания перешли в судорожное икание, Люся разобрала слова отца:
– Ты, Нюрочка, всегда по-умственному лучше меня была. И теперь вот, как рассудила, так я и жить буду. Боюсь, заморозят тебя в леднике. Радикулит опять прострелит.
– Папа! – Люся испуганно и шумно икнула. – Папа! Что ты! Мама умерла, понимаешь?
– Конечно. Но наша мама не такая, чтобы нас бросить. Она со мной разговаривает. А с тобой нет? Ты плакать перестань и тихо прислушайся, что у тебя в голове ее голосом вещает.
У Люси в голове бились две страшные мысли: мама умерла, папа свихнулся.
Но в последующие дни отец не заводил разговоров о голосах, тихо лежал на больничной койке, старался не стонать от боли. На перевязках тоже не корчился, только слезы текли по щекам. Процедурная сестра его жалела, приносила из дому, из своих тайных запасов, сильное обезболивающее и колола вечером – хоть ночь проспит спокойно.
Люся погрузилась в заботы, связанные с похоронами и поминками. Временами она плакала, но уже тихо, чтобы не пугать сына.
Димка никак не мог понять из маминых объяснений, что бабушкина душа еще сорок дней будет делать на земле, пока не отправится на небо. И зачем зеркало на трюмо закрыли черной тряпкой. Говорят: чтобы дух бабушки не испугался, если увидит себя. Бабушка была очень красивая и добрая. Значит, и дух у нее хороший, не страшный. Димка тайком сдергивал покрывало с зеркала, говорил – само упало.
* * *
Чужие люди не были Татьяне в тягость. Она не воспринимала их досадной обузой. Ее дом впервые ожил. Ни громкая ухающая музыка на вечеринках детей, ни визиты подруг и родственников за все это время не растопили холодную отчужденность стен и комнат. А теперь носилась по этажам Тоська, суетилась на кухне Любаша, уютно пыхтел трубкой Василий.
Василий преподнес им сюрприз или создал проблему?
Татьяна вернулась из «коровника» и обнаружила его в новом обличье. Глаза блестят, мурлычет какую-то песенку и… да, от него пахнет спиртным.
– Танюша, позвольте вам сделать подарок. – Он протянул ее портрет, написанный акварелью. – Не ругайте! Похозяйничал у вас в кабинете, стащил краски. Нравится? Акварель – это то, что вам, вашим волосам, цвету кожи очень подходит. Женщина-акварель!
Самая длинная тирада за все время пребывания его здесь.
– Спасибо. Вы мне льстите, – сконфуженно пробормотала Таня.
– Ты сорвался? – подскочила Любаша.
– Малыш! – Василий заграбастал в объятия жену и чмокнул ее в макушку. – Чертовски хочется поработать. Идей – масса. Таня, вы позволите ограбить вас на краски и бумагу?
Таня кивнула, посмотрела на Любашу. Та выглядела счастливой! Василий, насвистывая, по-ребячьи подпрыгивая, направился в кабинет.
Любаша рассказала о трагических циклах в жизни Василия. Он уже трижды лечился от алкоголизма. Будучи трезвым, впадал в депрессию, не мог писать, общаться с людьми, становился злобным и раздражительным. Срывался, пил понемногу. И переживал взрыв вдохновения, работал как сумасшедший, был веселым, щедрым, обворожительным. Постепенно дозы спиртного увеличивались, колесо крутилось все быстрее, пока не начинало мелькать – до зеленых чертиков на стенах, до белой горячки. Снова лечился, снова депрессия…
– О, как мне его жаль! – вздохнула Таня. – Я его понимаю, я сама…
– Алкоголичка? – поразилась Любаша.
– С патологическими вывертами, – ответила Таня. – Но я завязала! Все! Ни капли!
– Кодирование, торпеда, препараты, иглоукалывание? – быстро спросила Любаша.
– Сила воли.
– Молодец!
– Стараюсь.
Василий работал исступленно. Переживал вдохновение как лихорадку влюбленности. Он был талантливым художником. Татьяну поражало, что любые жанры ему давались одинаково легко. Ее портрет и портрет Тоськи с веточками рябины вместо сережек в ушах, зимние пейзажи, натюрморты, и даже Бориска, припавший к материнскому вымени, – все получалось у Василия не только по-настоящему профессионально, но и было наполнено светом жизнелюбия, легким юмором.
Любаша светилась от счастья – Василий с ней ласков и нежен, любезен с Татьяной, теперь та видит, какой он умный и интересный собеседник. Колет дрова для бани, кувыркается с Тоськой в сугробах и не кривит нос, когда нужно убрать навоз из гаража.
Рисовальные принадлежности у Татьяны стремительно уменьшались. И таяли запасы спиртного.
* * *
Стеша решила напроситься к Татьяне. Две недели не мылись. Раньше по субботам к Знахаревым ходили. Ексель-Моксель баньку истопит, Нюрочка поможет Клавдию помыть да еще бельишко убогой простирнет. А теперь куда? Баня у Стеши – одно название. И в лучшие годы целый день топили, пока прогреется. В котел воды ей не натаскать, дымоход обвалился – чадит. Пол прогнил да скользкий. Хромой Клавдии навернуться на нем и кости свои ржавые сломать – как чихнуть.
А ведь заупрямилась сначала. Мычит – неудобно. Но Стеша ее быстро на место поставила:
– Грязной тебе ходить удобно, коряга болотная? Ждешь, пока коростой покроешься, глиста мавзолейная? Думаешь, детки твои после смерти отскребут? Не надейся! Со вшами в гроб положат.
Зимой светало поздно. Но чуть забрезжило, они с узелками двинули в путь. Стешу по дороге разобрали сомнения:
– Конечно, Татьяна и отказать может. Зачем ей, чтоб мы свои старые дырки на ее кафеле полоскали. Побрезгует. Ну и пусть подавится, воровское отродье! Вернемся, я в чайнике воды нагрею и помою тебя из тазика. А патлы твои отстригу! Не спорь! Коса у нее! Сто лет назад была коса, а сейчас три волосины. Одна на передке, две на башке.
Татьяна не отказала. И банька у нее на электричестве распалялась скоро – за час. Успели только по чашке чаю выпить да корову с теленком посмотреть. Содержали скотину хоть и чисто, но неправильно. Стеша хотела было высказать, но Клавдия больно двинула ее костылем – молчи. Скривила рот – без привычки испугаешься, не поймешь, что улыбается, – одобряюще загундосила: хвалит Таню.
В молодости они парную любили, до синего света в глазах жарились. Теперь сердце не позволяло – бухало, как язык в колоколе. Но Стеша прошлась веником по Клавдиным костям (мяса у нее отродясь не было, а нынче скелет скелетом, хоть в школу отдавай, детишкам на учебу и потеху). Стеша после передышки и себя попарила – постеснялась Татьяну звать.
Мыть Клавдию под душем очень сподручно. Стоит на резиновом коврике, не соскользнет, за кран здоровой рукой держится. Намыливай да три, только синяков о ее бухенвальд не набей. Пока Клавдия сохла в предбаннике, Стеша даже в бассейн заглянула, окунулась.
Клавдия не одобрила, закудахтала: «з…з... м…м...м… »
– Застужу матку? Да энтот орган у нас, подруга, уже давно усох, наподобие чернослива.
Клавдия не соглашалась, кривила осуждающе рот: «А М…М...М…»
– Мочевой? Это ты правая, лучше не без рисковости. Пузырь еще держит. Не приведи господи, заделаюсь ссыкухой на старости лет.
Оделись в чистое. Волосы заплели, белые платочки повязали. Как заново родились.
Татьяна к чаю пригласила. Бутербродов наделала. Твердая колбаса им не по зубам, а ветчину розовую да рыбку малосольную, сыр желтый с дырками – отведали. От варенья отказались (свое имеем), перед конфетами шоколадными и зефиром нежным не устояли. Думали – благодать. А благодать-то впереди была!
* * *
Василий вышел из мастерской (Таниного кабинета) за вином и сигаретами. Одет он был в черные широкие брюки из фланели и черный просторный свитер с круглым воротником. Длинные, слегка вьющиеся волосы ложились у него на плечи, борода лопатой отросла почти до середины груди. Две бабульки в белых платочках пили чай в столовой. Увидев его, изумленно ахнули, забормотали: «Священник! Батюшка! Радость нечаянная!»
* * *
Они в церкви не были уж много лет. На больных ногах разве доберешься? Ексель-Моксель на Пасху съездит в Ступино, куличи освятит, святой воды привезет – и все благословение. А раньше в Смятинове церковь была – красавица. На взгорке стояла. Говорят, солнце на кресте на маковке заиграет – лучики чудесные далеко видать. Как попа и дьякона да церковного старосту-кулака расстреляли, еще долго две монашки жили. Их, малолеток, молитвам учили и псалмы пели. А потом церковь в непотребство превратили – в склад, в конюшню. Дальше на кирпичи разобрали, остатки фундамента два года назад вместо гравия на дорогу притащили. Где церковь была – теперь бурьян по макушку.
Клавдия и Стеша не углядели: родные дети у них иконы сперли и в город продавать увезли. Ироды, прости господи! А тут живой батюшка! Растерялись. Чего просить? О чем молить?
Поп-то строгий. Горло прочистил и басом:
– Ну, рабы Божьи! Как живете? Во грехе?
Стеша и Клавдия дружно отрицательно помотали головой, а через секунду также дружно закивали, соглашаясь.
Василий пребывал в прекрасном расположении духа. Работа спорилась, вино не кончалось. Его забавило поведение старушек. Надо что-нибудь ляпнуть из Священного Писания. Не читал. Но любил детективы Акунина о Пелагии. Вспомнил понравившееся старославянское слово. Правда, не по теме. Но изрек:
– Радуйтесь милости Божьей и избавлению от плотострастия!
Бабки послушно принялись креститься. Кругленькая старушка вытолкала вперед худую, кривую, с костылем:
– Батюшка, благослови ее, несчастную! Одной ногой в могиле! А жила! Ни дня без мук адовых.
– Не ропши! – грозно сказал Вася.
Он быстро думал: благословить – это перекрестить, что ли? Слева направо, справа налево? Посмотрел вопросительно на Татьяну и Любашу. От них толку мало. Губы кусают, чтобы не рассмеяться, глаза к потолку закатывают.
Царственными взмахами кисти он перекрестил старушку и слева направо и справа налево. Для надежности. Кривая старуха неожиданно, со всхлипами, схватила его измазанную краской руку и поцеловала. Вася смутился. Но тут же нашелся. Взял бабулькину голову в свои медвежьи лапы и приложился ко лбу, покрытому платочком.
Вторая старушка смотрела на него с детским страхом и надеждой – благословит ли? Благословил. По той же процедуре. Неловко теперь хвататься за бутылку.
– Молиться пойду, – погладил он бороду и строго посмотрел на Любашу: – Ты! Раба Божия, принеси мне все, что нужно для причастия!
Возвращались как с чистого праздника. Да не пехом, а ехали на больших саночках и с гостинцами! Татьяна с попадьей запряглись и до дому их с ветерком прокатили. Попадья симпатичная, но в брюках! Раньше такого не было, чтобы попадья задницу в штанах показывала. Все в мире переменилось. Девочка, попова племянница, рядом скакала, с Клавдиным костылем играла. Славная девочка. Все они славные, пока маленькие.
* * *
Бог услышал его молитвы и прислал в ад ангела, который обтирал Борю мокрыми крылышками, вливал ему в пересохшее горло жидкости и еще уговаривал:
– Боренька, давай немного попьем. Тихонько, глотай.
Горелку тоже немного подкрутили, жар доменной печи сменился на колючий ветер пустыни. Из плазменного состояния Борис перешел в газообразное.
Он открыл глаза. Не узнал ни комнату, в которой находился, ни женщину, сидящую в кресле. Чему удивляться? Он впервые попал по ту сторону бытия.
Татьяна бросилась к нему. Что-то сказал?
– Ангел! – прошептал Боря. – Спасибо. Передай ему спасибо.
– Кому? – Таня тоже шептала.
– Своему руководству, – попробовал улыбнуться. – Богу.
И мгновенно уснул.
Бредит? Позвать Любашу? Нет, кажется, ему лучше, дышит медленно, ровно. Три дня беспамятства. Бедняга! Но температура уже снизилась, жаропонижающие перестали давать. Улыбается? Точно, улыбается. Слава богу! Хорошая у него улыбка, как у Любаши.
* * *
У него чесался нос, лоб – зудело все лицо. Поскольку теперь Борис пребывал в газообразном состоянии, то мышцы отсутствовали. Не открывая глаз, попытался поднять руку. Кажется, получилось, но до лица рука почему-то не доставала.
Он разлепил веки. Туман. Из тумана выплыл образ сестры. Любаша сидела в кресле и вязала на спицах, приговаривая:
– Лицевая, накид, изнаночная. Или снова лицевая? Вот черт!
Его сестра прежде никогда ранее не брала в руки спиц. Борис скосил глаза. Розовенькие обои в мелких цветочках. Комод из белого дерева, на нем фарфоровые игрушки. Туалетный столик с зеркалом.
– Где я? – спросил он.
От неожиданности Любаша уронила вязанье:
– Боля, ты очнулся?
Это сестра. Только она называет его Боля. В детстве «р» не выговаривала.
– Где я? – повторил он.
– Ты у Татьяны дома.
– У какой Татьяны?
– Не помнишь? А как ты себя чувствуешь?
– Что у меня с руками?
– Тоська нарукавники из картонок сделала.
Тоська, дочь. Он на этом свете. Борис поднял руки.
Они были разукрашены зелеными и красными точками. Локти обхватывали картонные обложки от книг. Поэтому руки не гнулись.
– Что со мной было?
– У тебя, родной, детская болезнь ветрянка. И очень обильные высыпания. Агриппина Митрофановна говорит, что у взрослых такое редко бывает.
– Агриппина?
– Врач.
– Ничего не помню. Сними эту дрянь с моих рук.
– А ты чесаться не будешь?
– Буду.
– А нельзя, шрамики останутся.
Она говорила с ним сладким голоском, как с ребенком.
– Сними, я сказал! – строго прикрикнуть не получилось.
– Боличка! А как у тебя с головкой?
– Плохо. У меня со всем плохо.
– Ах ты мой миленький! Ах ты мой бедненький! Боличка, а ты помнишь, как меня зовут? Кто я тебе?
– Наказание.
– Ты шутишь, котик? А мы хотим кушать? А мы хотим пи-пи?
– Любаша, – он закрыл глаза, – позови кого-нибудь, у кого с головой получше.
Она выскочила из комнаты и радостно закричала: «Он очнулся! Он очнулся!»
Борис увидел Татьяну и сразу все вспомнил. Завалился к ней в дом и отбыл в беспамятство. А она на него ружье наставляла. Нет, это было в прошлый раз. У них богатое прошлое.
– Папа, ты все время спал, как без сознания, – трещала Тоська. – Так страшно! И сейчас ты такой стра… не очень красивый. Но это пройдет. Агриппина Митрофановна говорит, что тебе иммунитету с детства не хватило. Зато теперь сколько!
– Дочь! Сними с меня эти картонки.
– А ты чесаться не будешь? Папа, а у тебя мозги на месте? Тебе в сугроб не хочется?
Наученный опытом, Борис сказал:
– Чесаться не буду.
И как только Тоська сняла нарукавники, с яростью, откуда силы взялись, впился ногтями в многодневную щетину. Любаша и Тоська заойкали, навалились на него, прижали руки в кровати. Бороться с ними он не мог. Беспомощно посмотрел на Таню. Она развела руки в стороны – что поделаешь – и улыбнулась.
– Я принесу бульон и пирожки с курицей, – сказала.
Единственный здравый человек в этой компании. Он вдруг почувствовал зверский аппетит. И желание, чтобы Татьяна подольше с ним оставалась.
– Старик! – Василий помахал в воздухе кистью, которую держал в руках. – Ты герой! Держись, прорвемся!
Ясно. Вася вышел на новый виток. Период вдохновения и человеколюбия.
* * *
Любаша и Василий прожили у Татьяны еще пять дней. Собрались домой, в Перематкино, потому что Васю тянуло к холстам и масляным краскам. Через неделю Новый год. После Нового года – зимние каникулы. Тоська была страшно довольна, что по уважительной причине пропустила полугодовые контрольные. Умерла Анна Тимофеевна. Хоронили здесь. В Смятинове красивое кладбище на взгорке, в лесу. Таня видела на похоронах Федора Федоровича. Он постарел на двадцать лет. Руки у него не заживали, гноились. Таня договорилась, и Люся повезла отца в Москву, в ожоговый центр. Корову с теленком Люся обещала забрать в ближайшее время. Рыдала, благодарила за все и снова рыдала. Татьяна – бабушкины гены, та вечно пригревала бесхозных детей – предложила взять на время Димку. Он путался у Люси под ногами. Валера, муж Люси, должен был снова ехать в командировку. Тоська сначала приняла виновника папиной болезни в штыки. Но потом, поскольку Димка безоговорочно признавал ее старшинство, привязалась к нему. С двумя детьми управляться легче, чем с одним, потому что они занимают один другого.
Дети целыми днями пропадали на улице, катались на санках, строили крепости, лепили снеговиков и помогали ухаживать за коровой и теленком. Тоська – по велению души, Димка – «потому что скотина-то наша».
Борис потихоньку выздоравливал. Агриппина Митрофановна сказала, что если он поправится к Рождеству, то это будет большая удача. Любаша и Тоська доносили ему новости их компании – странного семейства, оккупировавшего дом. Борис не благодарил Татьяну за участие и внимание – не было таких слов, которыми он мог выразить свою признательность. Он только искал поводы задержать ее подольше рядом с собой.
* * *
Василий, Татьяна и Любаша укладывали на санки провизию, когда к дому подъехал большой черный джип с затемненными стеклами, похожий на катафалк. Из передней двери вышел коренастый мужчина в длиннополом драповом пальто и с белым шарфом под воротником. Он открыл заднюю дверь и помог спуститься Маришке. В модной палевой дубленке, с непокрытой головой, в изящных сапожках, она была чудо как хороша. «Красавица у меня дочь», – подумала Татьяна, целуя Маришку.
Маришка отстранилась от мамы и повелительным жестом махнула Василию:
– Помогите водителю разгрузить багажник.
Одетого в ватник бородатого художника она приняла за подсобного рабочего. Василий шутливо поклонился и отправился выполнять приказание. Татьяна смутилась, открыла рот, но дочь ее перебила:
– Мамочка, это Владимир Владимирович Крылов. Я тебе о нем много рассказывала. Хотя, впрочем, – кокетничала дочь, – он в рекомендациях не нуждается. Его знает все прогрессивное человечество. Моя мама – Татьяна Петровна.
– А это, – Таня показала на спину Василия, тащившего ящик с продуктами в дом, – это известный художник Василий Нечаев.
– Правда? – Маришка нисколько не смутилась. – У нас здесь просто дом творчества, – улыбнулась она Крылову.
– Жена Василия, Любовь Владимировна, – представила Таня.
– Привет! – ответила Маришка на улыбку Любаши.
Крылов молча склонил в приветствии голову.
– Хотите осмотреть дом снаружи? – спросила его Маришка. – Кажется, – она повела носом, – кажется, чем-то пахнет?
– Пахнет коровой, которая с теленком находится в гараже, – сказала Таня.
– Как? До сих пор? – нахмурилась Маришка и тут же переменила тон, обращаясь к Крылову: – Мы обожаем экзотику. По-моему, Маркс говорил об экзотике сельской жизни.
– Маркс говорил об идиотизме сельской жизни, – подал голос Крылов.
– Слышишь, мамочка? – легко рассмеялась Маришка и потянула Крылова за руку: – Что мы здесь застряли? Пойдемте.
Принесла их нелегкая, мысленно чертыхнулась Татьяна. Она тепло попрощалась с Любашей и Василием, напомнила о приглашении вместе встречать Новый год. Пошла ублажать гостей.
Маришка заканчивала экскурсию по первому этажу, подвела Крылова к дивану в гостиной у горящего камина.
– Что будете пить? Виски, джин, коньяк?
Она распахнула дверцы бара и оторопела – полки были пусты.
– В подвале есть несколько бутылок хорошего французского вина, – сказала Таня. – Возможно, есть.
– А что вы будете пить? – спросил Крылов Татьяну.
– Я не пью.
– Тогда и я воздержусь. – Глядя на нее с дочерью, отпустил комплимент: – Вы рядом смотритесь как две сестры. – Взглядом подчеркнул, что предпочитает старшую.
– Ой! – всплеснула руками Маришка. – Я вам сейчас покажу одну фотографию…
Она помчалась на второй этаж. Через несколько секунд раздался ее истошный визг. Маринка считала ступеньки на лестнице в обратном порядке. На четвереньках. Следом показался Борис.
Он первый раз хотел спуститься вниз. Распахнул дверь – на пороге девушка. Увидела Бориса и завопила.
Делать нечего. Пришлось предстать перед Таниными гостями в самом распрекрасном виде – в халате и с физиономией, утыканной разноцветными язвами. На крик прибежали дети.
– Э-это кто? – заикалась Маришка.
– Борис Владимирович, – сказала Таня, – мой добрый друг.
– А-а что с ним? – Маришка с ужасом показала на его лицо и руки.
– У папы ветрянка, – выступила на защиту отца Тося. – Взрослые ее очень тяжело переживают. Даже с ума сходят.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.