Читать книгу "«Сказать все…»: избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков"
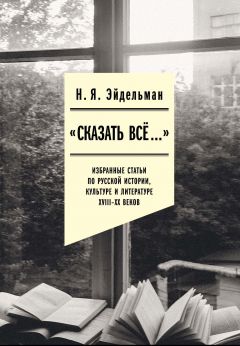
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Пушкин не мог знать, разве что догадывался, что царский ответ опирался на подробную рецензию некоего «верного человека». В спорах – кто был анонимный рецензент, мы присоединяемся к мнению Б. П. Городецкого, назвавшего Н. И. Греча.
Правда, участие Булгарина отвергалось на том основании, будто журналист в конце 1826 года еще не окончательно «сомкнулся» с III отделением: меж тем упомянутая только что история с «экспертизой» перехваченного письма Погодина к Пушкину свидетельствует как раз об активном сотрудничестве Булгарина с Бенкендорфом уже в ноябре 1826-го. Однако между Булгариным и Гречем было, как видно, определенное разделение труда. Во всяком случае, отмеченные Городецким почти буквальные совпадения фрагментов записки о «Борисе Годунове» с текстами Греча достаточно убедительны.
К тому же анонимную рецензию отличает определенный русский колорит, например отличное знание российских пословиц; вряд ли поляк, католик Булгарин мог бы столь определенно написать следующие строки, попавшие в записку о «Борисе Годунове»: «Характеристическая черта русского народа есть то, что он привержен вере и обрядам церковным, и вовсе не уважает духовного звания, как тогда только, когда оно в полном облачении. Все сказки, все анекдоты не обходятся без попа, представленного всегда в дурном виде».
Поскольку мы коснулись эпизода с царским цензурованием «Бориса», следует отметить одно очень существенное обстоятельство: и рецензент-аноним, и даже Бенкендорф не возражали против публикации трагедии с некоторыми купюрами. Однако царь не согласился и сам предложил Пушкину с «нужным очищением» переделать ее в «историческую повесть или роман наподобие романов Вальтера Скотта».
Чем вызваны подобная формулировка, подобная страсть?
Разумеется, Николай опирался на суждение «рецензента» о драме Пушкина, напоминающей «состав вырванных листов из романа Вальтера Скотта». Однако, надо думать, куда более впечатляющим было для царя другое замечание Греча о пьесе: «Разумеется, что играть ее невозможно и не должно; ибо у нас не видывали патриарха и монахов на сцене».
Речь идет о большей общественной опасности представления, нежели просто чтения. К тому же вот как рецензент (впрочем, безо всяких прямых упреков Пушкину) пересказывает завязку пьесы: «Она начинается со дня вступления Годунова на царство, изображает притворство и лукавство Бориса, отклоняющего сначала от себя высокий сан царя, по избранию духовенства и бояр: возобновление усиленных их убеждений и, наконец, его согласие к принятию правления».
Сопоставление этих фактов с событиями междуцарствия в ноябре–декабре 1825 года (отказ Николая – переговоры – уговоры – согласие) – все это, конечно, было очевидным, актуальным и тем более вызывало желание «обезвредить» возможный эффект представления, сценического прочтения. Слухи о большом впечатлении, которое произвело на слушателей чтение Пушкиным своей драмы, только укрепили уверенность Николая в своей правоте. Иначе говоря, царю «виднее», чем начальнику полиции и потаенному эксперту, потенциальная опасность разрешения и немедленной публикации «Бориса Годунова». Некогда поставленная на сцене «Женитьба Фигаро» сделалась как бы прологом Французской революции; опасность «Горя от ума» прежде всего в том, что текст может зазвучать…
Пушкину предлагается переработать драму в повесть – поэт вежливо и твердо отказывается в письме Бенкендорфу от 3 января 1827 года: «Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».
Примерно в те же дни, когда Пушкин переживал судьбу своего «Бориса», царь покрывал поля его записки «О народном воспитании» вопросительными знаками и затем диктовал Бенкендорфу, что ответить поэту. Письмо шефа жандармов от 23 декабря 1826 года точно передавало общее царское мнение о мыслях Пушкина, высказанных в записке:
«Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам высочайшую свою признательность.
Его величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин».
Пушкин считает просвещение главным путем обновления России – царь и Бенкендорф ставят его на второе, третье или более дальние места: сначала верноподданность и только потом – просвещение и «гений». (Много лет спустя, в конце своего царствования, Николай I скажет депутации Московского университета примерно те же слова, что и Пушкину – в 1826‐м: «Ученье и ученость я уважаю и ставлю высоко; но еще выше я ставлю нравственность. Без нее ученье не только бесполезно, но даже, может быть, и вредно, а основа нравственности – святая вера».)
Итак, «Борис Годунов» фактически запрещен, записка «О народном воспитании» встречена неблагосклонно; в конце декабря поэт провожает в сибирский путь Марию Волконскую, передает высокие, сочувственные слова декабристам, а вскоре с другой декабристкой, А. Г. Муравьевой, посылает в Читу послание «Во глубине сибирских руд…».
Д. Д. Благой справедливо отметил, что даже ссылка Пушкина формально, юридически не была прекращена – он как бы числился во временной отлучке: на просьбу матери поэта об официальном даровании ее сыну прощения, 30 января 1827 года, высочайшего соизволения не последовало. Царь отказывал тем самым Пушкину и в посещении Петербурга.
Меж тем все тянется дело об «Андрее Шенье». 4 марта Пушкину сделан один, правда, легкий выговор за то, что он не прямо представил свои стихи Бенкендорфу и воспользовался посредничеством Дельвига.
Кажется, поэт и царь, мнимо сблизившись, – удаляются; обращения к декабристам все теплее…
Однако 3 мая 1827 года царь через Бенкендорфа все же передает Пушкину разрешение приехать в Петербург, впрочем напоминая о честном слове поэта – «вести себя благородно и пристойно». Здесь, в столице, Пушкин, уже искусившийся в тонкостях этикета, просит аудиенции у Бенкендорфа, шеф жандармов отправляется к Николаю, и на прошении появляется царская карандашная резолюция: «Пригласить его в среду, в 2 часа, в Петербурге».
6 июля 1827 года Пушкин впервые посетил Бенкендорфа, возможно, впервые познакомился с ним не только по письмам.
Мы не имеем сведений об этой встрече, кроме общего замечания Бенкендорфа: «Он все-таки порядочный шелопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно». Во всяком случае, в ближайшие месяцы Пушкин новых выговоров не получает; и очень знаменательно, что 20 июля, через несколько дней после аудиенции у Бенкендорфа, поэт пересылает шефу жандармов несколько своих последних сочинений, и в их числе «Стансы», написанные восемь месяцев назад.
22 августа Бенкендорф отвечает довольно милостиво и сообщает между прочим о разрешении «Стансов».
Стихи «В надежде славы и добра…» появляются в январе 1828 года.
Итак, летом 1827‐го Пушкина опять «простили», как это было почти годом раньше, в сентябре 1826-го. Публикация «Стансов» имела немалые последствия для формирования общественного взгляда на Пушкина и его творчество. По существу, это ведь была первая печатная декларация поэта о его примирении с новым порядком вещей. Декабристы и связанные с ними круги, как известно, восприняли «Стансы» в общем враждебно или настороженно.
Довольно быстро, через несколько недель после публикации «Стансов», Пушкин уже пишет и представляет царю ответ на «левую критику» – стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю»). 5 марта 1828 года Бенкендорф сообщает Пушкину, что «государь <…> с большим удовольствием читал шестую главу Евгения Онегина. Что же касается до стихотворения Вашего под заглавием „Друзьям“, то его величество совершенно доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано».
Царь, не допустив «Друзьям» к печати, выразил недвусмысленное желание насчет рукописного распространения стихов: «Пусть ходит, но не печатается».
Мы наблюдаем, кажется, самый мирный период во взаимоотношениях поэта и власти. Вскоре после этого, 22 марта и 2 мая 1828 года, без всяких препятствий разрешено переиздание «Руслана и Людмилы», «Кавказского пленника». Царское «с удовольствием», «доволен» звучит как эхо кремлевской аудиенции – «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, ты мой Пушкин».
И тем острее, неожиданнее последующие события 1828 года… «Кризис 1828 года» был завершением переломных месяцев пушкинской биографии; его разбор позволяет еще ближе подойти к ответу на вопрос – что же происходило на самом деле между поэтом и верховной властью в 1826–1828 годах, под прикрытием внешних событий? Какова завязка 10-летней трагедии?
«Дело…»Весной и летом 1828 года продолжавшееся дело об «Андрее Шенье» вдруг переплелось с событиями вокруг «Гавриилиады».
Смелая, преступная с точки зрения официальной церкви поэма, как известно, была написана Пушкиным задолго до рассматриваемых событий, в апреле 1821 года.
Автограф ее не обнаружен и вряд ли когда-либо будет обнаружен: сочинитель в свое время принял меры предосторожности. До сих пор, между прочим, почти не изучено важнейшее и, конечно, авторитетное утверждение П. В. Анненкова (располагавшего не дошедшими до нас записками Н. С. Алексеева), что первоначальный замысел «сатанинской поэмы» был много шире, затрагивал в богохульной сатирической форме разные стороны российской общественной и политической жизни.
В 1821–1822 годах Пушкин сообщает текст поэмы П. А. Вяземскому, А. И. Тургеневу и, может быть, еще немногим доверенным лицам. В течение нескольких следующих лет число списков множится, поэма, естественно, распространяется в декабристской среде.
Еще 8 марта 1826 года во время следствия над декабристами жандармский полковник И. П. Бибиков между прочим писал Бенкендорфу из Москвы о массе мятежных стихотворений, которые разносят пламя восстания «во все состояния и нападают с опасным и вероломным оружием насмешки на святость религии, этой узды, необходимой для всех народов, а особенно – для русских (см. „Гавриилиаду“, сочинение А. Пушкина)».
Материалы секретного делопроизводства об этих и других пушкинских стихах на долгие годы были спрятаны в архиве III отделения и некоторых других хранилищах. Первые публикации стали возможны лишь с начала XX столетия.
О том, с каким трудом тайная полиция отдавала пушкинские секреты даже 70–80 лет спустя, свидетельствуют любопытные рассказы редактора «Всемирного вестника» С. С. Сухонина, который в 1905 году с трудом добился от директора департамента А. А. Лопухина разрешения ознакомиться с делом Пушкина:
«В назначенный день я приехал в департамент полиции, и с душевным трепетом прошел через множество покоев в помещение архива. Меня встретил начальник архива и, указывая на разложенные на столе дела, сказал, что я могу заниматься, сколько мне угодно времени.
Я никак не думал, – сказал я не без смущения, – что документов так много… Списывание отнимет очень много времени, а я временем совсем не располагаю. Придется привезти человека.
– Простите, – сухо возразил чиновник, – вам разрешено „заниматься“ делом Пушкина, а насчет списывания ничего не говорится. Человека же вашего мы сюда не допустим. Впрочем, подайте прошение.
Я попросил проводить меня к директору. А. А. Лопухин меня сейчас же принял и, узнав, в чем дело, вспылил:
– Когда я только их всех повыгоню отсюда!
И приказал допускать моего человека беспрепятственно в помещение архива для снятия из дела о Пушкине нужных мне копий».
На этом, однако, трудности не окончились. Новый начальник департамента Н. П. Гарин потребовал для просмотра гранки подготавливаемой публикации, касавшейся «давно минувших дней».
«Странно я себя чувствовал, – продолжает С. С. Сухонин, описывая встречу с Гариным. – Я сознавал, что нахожусь в кабинете директора департамента полиции, директора того учреждения, которое является не чем иным, как тем же самым страшным III отделением, только под другим наименованием, – того учреждения, которое самому Пушкину причинило так много вреда, обиды и огорчения; и сегодня, в кабинете начальника этого учреждения, я сижу скорее не как у необычайного цензора, а у гостеприимного, любезного хозяина, и провожу время в литературном споре…
Все окружающее было так странно и, скажу откровенно, – мало понятно, что я иногда положительно забывал, что я в III отделении, и только частые появления каких-то лиц в вицмундирах, которых Н. П. Гарин, отходя от стола в сторону, выслушивал и тихо им что-то говорил, указывали мне на действительное мое пребывание».
В феврале 1906 года Сухонину, однако, были запрещены новые посещения архива департамента со ссылкой на министра внутренних дел Дурново.
Разрешения-запреты на поиски секретных пушкинских дел привели, между прочим, к одному парадоксальному результату: Николай II, узнав из соответствующих публикаций, что Пушкин в 1828 году обратился с каким-то откровенным письмом к Николаю I, распорядился сыскать это письмо. Следы поиска сохранились в государственных архивах, однако самодержавие было уже «государственной тайной для самого себя», и пушкинское письмо царю по поводу «Гавриилиады» найти тогда не сумели.
Текст его был обнаружен в 1951 году в Государственном историческом архиве Московской области, в фонде Бахметевых. Длительные сомнения насчет подлинности и достоверности этого документа были в конце концов разрешены в научном исследовании, опубликованном в 1978 году. (Гурьянов В. П. Письмо Пушкина о «Гавриилиаде». С послесловием Т. Г. Цявловской и Н. Я. Эйдельмана.)
Эта последняя публикация, а также некоторые новые архивные изыскания и позволяют опять обратиться к событиям трудного для Пушкина года.
1828‐йВ мае дворовые люди помещика, отставного штабс-капитана Митькова, Никифор Денисов и Спиридон Ефимов в Петербурге будто бы показывают «какому-то монаху» рукопись «богохульной поэмы» («Гавриилиады»), которую их хозяин переписал собственной рукой, да еще и читал вслух. Монах (как утверждали дворовые) составил за них текст письма на имя митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Серафима, причем Денисов и Ефимов особенно подчеркивали бескорыстие духовного лица, который трудился безвозмездно и даже не пожелал назвать свое имя. Разумеется, нет никаких доказательств, что дело обстояло именно так; вполне возможно, что крепостные люди сами сговорились, хорошо зная, что по закону им запрещено жаловаться на господина.
Так или иначе, митрополит Серафим получил донос вместе с поэмой и тут же дал ему ход. (Сначала он хотел передать все материалы в Секретный комитет по расколу, но статс-секретарь Н. Н. Муравьев 29 мая объяснил, что «здесь в поэме не раскол, а безбожие». В тот же день «прошение и поэма Гаврильяда» были отправлены с курьером в распоряжение самого статс-секретаря.)
Известна роль этого духовного иерарха в событиях 14 декабря 1825 года, когда он, вместе с другими священнослужителями, без успеха пытался увещевать восставших. Именно Серафим после казни декабристов составил «высочайше апробованный» документ: «Благодарственное молебное пение господу богу, даровавшему победу на ниспровержение в 14 день декабря 1825 года крамолы, угрожавшей всему русскому государству».
Отметим, что в архиве Синода не осталось почти никаких следов дела о «Гавриилиаде», которое, казалось бы, прямо касалось церковных властей: все делопроизводство сосредотачивается в III отделении, а также, попутно, вторично – в делах II отделения императорской канцелярии и Военного министерства.
Меж тем в июне 1828 года, пока что независимо от дела о «Гавриилиаде», приближается к завершению давнее следствие по поводу «Андрея Шенье».
Сенат, а затем Департамент гражданских и духовных дел Государственного совета нашли Пушкина «виновным за выпуск означенных стихов в публику прежде дозволения цензуры», но поэт попадал под царскую коронационную амнистию (2 августа 1826 года). Дело казалось для Пушкина оконченным. Однако затем ситуация осложняется. В начале 1828 года Николай I отправляется в действующую против турок армию; верховный надзор осуществляет Временная верховная комиссия (В. П. Кочубей, П. А. Толстой, А. Н. Голицын).
29‐м июня датируется первый официальный документ о привлечении к допросу виновных по делу о «Гавриилиаде» – пока что вызывается лишь обладатель списка поэмы Митьков, но автор, Пушкин, конечно же «поставлен в очередь».
Накануне же, 28 июня, общее собрание Государственного совета сочло недостаточным заключение предшествующих инстанций насчет «Андрея Шенье» и усилило «меру пресечения»; Пушкин был обвинен «в неприличных выражений его в ответах своих…».
Речь шла об ответах годичной давности на заданные тогда вопросы. Неприличные выражения, прежде не зафиксированные ни Сенатом, ни Департаментом гражданских и духовных дел, вдруг замечены членами Государственного совета, собравшимися на общее собрание.
Среди высших персон, неблагоприятно отнесшихся к поэту, – все три члена Временной верховной комиссии: Кочубей, Толстой, Голицын, разумеется, лучше всех осведомленные и о движении дела насчет «Гавриилиады». П. Е. Щеголев, констатируя враждебную позицию Совета, не дал этому неожиданному повороту дела никаких объяснений. Меж тем близость дат (28 и 29 июня 1828 года), «единство надзора» за обеими «сюжетами» – «Гавриилиады» и «Андрея Шенье» – вот откуда внезапная на первый взгляд суровость Государственного совета.
Через месяц, 28 июля 1828 года, царь вдали от столицы утвердит решение петербургских сановников. Пушкина в это время уже собираются допросить о «Гавриилиаде», параллельно же оформляется система надзора и репрессии, рекомендованная Государственным советом.
18 августа 1828 года столичный генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов предписал обер-полицмейстеру – «известного стихотворца Пушкина обязать подписке, дабы он впредь никаких сочинений, без рассмотрения и пропуска оных цензурою, не осмеливался выпускать в публику под опасностью строгого по закону взыскания, и между тем учинить за ним безгласный надзор». Пушкин вынужден был дать унизительную подписку, явно определившую его «новый статус»; подписку, завершившую дело об одних стихах («Андрей Шенье»), но по существу и по смыслу относившуюся к «Гавриилиаде».
Обозначим основные этапы дальнейшего следствия кратким напоминанием известных вещей.
Июнь–август 1828 года. Верховная комиссия призывает поэта несколько раз, требует ответить на вопрос Николая, присланный с Балкан: «От кого получена Пушкиным „Гавриилиада“?»
Поэт не признается: мы догадываемся, что его раздражают подозрения в крайних революционных взглядах (за «Андрея Шенье»), в атеизме и богохульстве – за поэму. Он объявляет, что «рукопись ходила между офицерами Гусарского полку, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я вероятно в 20‐м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение столь жалкое и постыдное».
В черновике этой же записки видна попытка Пушкина приписать авторство «покойному поэту кн. Дм. Горчакову», однако в окончательный текст этот способ оправдания не попал; зато о возможном авторстве Горчакова Пушкин в эти дни писал П. А. Вяземскому, явно надеясь, что письмо вскроют на почте.
Снова и снова парадоксы: прощенный царем 8 сентября 1826 года, казалось бы, за все грехи предшествующих лет, Пушкин на недоверие власти отвечает неверием в ее милости; он помнит, что именно за подозрение в атеизме был сослан в Михайловское в 1824 году, и не желает «виниться» в сочинении 1821 года.
Осенью 1828 года царь, однако, велит спросить Пушкина «моим именем».
Положение поэта трудное; формальных доказательств его авторства следователи не имеют, но в то же время сочинитель «Гавриилиады», кажется, всем известен и по слухам, и по слогу – «по когтям»…
Возникает ситуация, предельно похожая на ту, что была во время разговора в Кремле 8 сентября 1826 года, когда не генерал или министр, но сам царь спрашивал: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли ты бы участие в 14 декабря?»
В протоколе заседания Временной верховной комиссии от 7 октября 1828 года записано:
«Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, исполнив выше помянутую собственноручную его величества отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое к себе благоснисхождение его величества, не отговаривался от объявления истины, и что Пушкин по довольном молчании и размышлении спрашивал, позволено ли ему будет написать прямо государю императору, и, получив на сие удовлетворительный ответ, тут же написал к его величеству письмо и, запечатав оное, вручил его графу Толстому. Комиссия положила, не раскрывая письма сего, представить оное его величеству».
Сквозь официальный текст просвечивает очень многое: Пушкин в присутствии очень важных особ долго молчит и размышляет (что производит, очевидно, неблагоприятное впечатление и вносится в протокол); затем – спрашивает у министров, можно ли ему их «игнорировать»; он согласен беседовать только с государем и подчеркивает это запечатыванием письма. Комиссия, имевшая право читать в это время все, что шло на имя Николая, в данном случае не решается своевольничать.
Письмо царю отправлено. Запись Пушкина 16 октября 1828 года «гр. Т… от государя» давно понята как дата прощения, переданного графом П. А. Толстым от имени императора. Догадываемся, что при том последовало нравоучение, то ли от царя, то ли от члена Временной комиссии князя Голицына. Это видно по конспективной записи Ю. Н. Бартенева, сделанной за князем А. Н. Голицыным: «Управление князя Кочубея и Толстого во время отсутствия князя. Гаврильяда Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя. – Важный отзыв князя, что не надобно осуждать умерших».
Возможно, что «умерший» – это А. С. Пушкин (запись сделана 30 декабря 1837 года); но не исключено, что задним числом осуждается попытка поэта в 1828 году – произвести в авторы «Гавриилиады» покойного к тому времени князя Дмитрия Горчакова.
31 декабря 1828 года. На докладную записку статс-секретаря Н. Н. Муравьева о новых распоряжениях к отысканию автора «Гавриилиады» царь наложил вполне самодержавную резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено».









































