Читать книгу "«Сказать все…»: избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков"
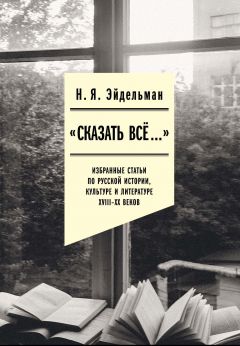
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Как уже отмечалось выше, текст пушкинского письма-признания царю (от 2 октября 1828 года) был обнаружен 123 года спустя; а еще через 27 лет последовала научная публикация.
Ровно полтора века документ отсутствовал: последняя резолюция Николая I по поводу «Гавриилиады» подчеркивала, что нет необходимости какой-либо огласки, углубления следствия и т. п. Самодержавие в течение двух-трех лет после 14 декабря немного успокоилось и довольно ясно представляло, что в стране больше нет никакого серьезного подполья; с другой стороны, еще не был исчерпан правительственный курс на реформы: то, за что в 1826 году неминуемо последовали бы жесткие репрессии, длинная цепь арестов, – теперь, в 1828‐м, расследовалось более «спокойно». Кроме того, охранительный инстинкт во время процесса декабристов подсказывал власти – изымать, уничтожать тексты наиболее «соблазнительных» стихов и песен, а также какие-либо сведения о них. Таким образом теперь обходились с «Гавриилиадой». Список, изъятый у В. Ф. Митькова, был по этой логике уничтожен; вероятно, так же как – откровенное письмо Пушкина к императору.
Как сейчас выяснено, копию с подлинного пушкинского письма к царю (точнее, с его основной части) снял Алексей Николаевич Бахметев. Напомним вкратце основные обстоятельства, изложенные в упоминавшейся выше статье В. П. Гурьянова.
Копия письма Пушкина была обнаружена в составе обширного архива Бахметевых, поступившего в государственное хранилище в 1951 году.
А. Н. Бахметев родился в 1798 году; уже после смерти Пушкина он стал гофмейстером, попечителем Московского университета, скончался в 1861 году. 28 июля 1829 года, то есть через год после истории с «Гавриилиадой», Бахметев женился на Анне Петровне Толстой (1804–1884), дочери графа Петра Александровича Толстого – того самого, кто фактически возглавлял расследование насчет «Гавриилиады».
По всей вероятности, именно у П. А. Толстого его зять мог скопировать пушкинский документ; важный сановник, один из самых близких к царю людей, Толстой, разумеется, был знаком с содержанием письма, хотя и запечатанного в его присутствии. Располагал ли П. А. Толстой подлинником пушкинского послания от 2 октября или только копией, сказать невозможно. Заметим, однако, что семье генерала были не чужды литературные интересы и привязанности. Сын П. А. Толстого Александр Петрович (сыгравший, как известно, заметную роль в жизни Н. В. Гоголя) был с Пушкиным коротко знаком, ходили слухи, что у него имеется собрание «хороших стихов» поэта. Наконец, сам А. Н. Бахметев живо интересовался Пушкиным: в 1828 году он путешествовал за границей, возвратился оттуда не ранее 1829-го.
Любопытно, что будущий тесть, П. А. Толстой, извещал его (1 (13) января 1829 года из Москвы): «Пушкин здесь – я его не видел». В том же архиве А. Н. Бахметева есть и другие письма, свидетельствующие о литературном и человеческом интересе Бахметева к Пушкину. Таким образом, положение Бахметева, его интересы, а также «физическая невозможность» в XIX столетии скомпоновать, подделать подобный текст – все это позволяет определить сделанную им копию письма к царю – как важнейший документ для изучения биографии и творчества поэта.
Текст письма к царю таков:
«Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. – Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 году.
Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь Вашего императорского Величества верноподанный
Александр Пушкин.
2 октября 1828. С. Петербург»
Отсутствие обращения к царю и «непушкинская» орфография слов «верноподданный», «Гавриилиада» – обычный вид расхождения между подлинником и копией; основной смысл письма безусловно сохранен.
Первая фраза письма уже была оценена выше: поэт беседует только с царем. Как бы продолжая разговор в Кремле 8 сентября 1826 года, Пушкин смело признается в опасном поступке и в то же время в сильных выражениях порицает свою «шалость».
Прямая откровенность Пушкина была его сильным оружием в диалогах с высшей властью: это неплохо понял П. И. Миллер, позже сопоставляя беседы поэта с царем, Милорадовичем и Бенкендорфом. Однако искренность Пушкина в эти моменты не переходила известного рубежа; он никогда не забывался и не считал даже дружески расположенных важных собеседников «своими людьми».
Мы помним, что в 1820 году, когда Милорадович требовал признания в опасных стихах, Пушкин, записывая свои бесцензурные сочинения, в одном или нескольких случаях не рискнул представить доброжелательному генералу уж очень крамольные строки. (Традиционно считается, что Пушкин скрыл эпиграмму на Аракчеева. Однако вряд ли поэт признался в авторстве «Ноэля» – «Ура, в Россию скачет кочующий деспот…», – где выпад шел прямо в царя; еще острее были стихи «Мы добрых граждан позабавим…». С другой стороны, эпиграмму на Аракчеева Пушкин как раз мог записать, ибо генерал-губернатор ненавидел могучего временщика.)
Во время первой беседы с Николаем поэт также не пускался, конечно, в слишком откровенную исповедь и, конечно, ни словом не обмолвился о «Гавриилиаде».
Подобная же предосторожность и в письме 1828 года по поводу этой поэмы.
Пока Пушкин «запирался» перед Временной комиссией и приписывал поэму умершему автору, он датировал свое знакомство с ней 1820 годом (то есть временем непосредственно перед высылкой из столицы). В письме же к царю, признавая собственное авторство, поэт все же отодвигает его на четыре года от настоящей даты: действительно, если «Гавриилиада» сочинена в 1821 году – значит, ссылка на юг «не помогла». Зато сочинение 1817 года заслуживает снисхождения как «грехи юности»; к тому же за них автор уже и наказан в 1820‐м!
Итак, признание, смелая откровенность – и притом недоверчивая осторожность. Все та же неоднократно отмеченная двойственность: необходимая защита от двоедушия и двоемыслия власти!
Уже говорилось, что извинение, покаяние за «Гавриилиаду» Пушкину далось тем легче, что он в этот период и позже уже иначе, более сложно, осмысливал проблемы веры, религии, церкви.
Не углубляясь в непростой, пока еще слабо изученный вопрос о вере или неверии поэта, отметим только, что явно не оправдались попытки некоторых дореволюционных авторов путем односторонней подборки фактов доказать глубокую религиозность Пушкина в конце жизни; неплодотворными были и выводы некоторых советских исследователей насчет постоянного пушкинского атеизма. Вопрос этот, повторяем, требует осторожного, исторического подхода. Сам характер пушкинских общественных взглядов, которые окончательно устоялись в последнее десятилетие его жизни, отличался глубоким, многосторонним историзмом, особой терпимостью к традиции, к давно сложившимся чертам народной идеологии. Известное свидетельство П. В. Нащокина о том, что Пушкин «не любил вспоминать Гавриилиаду», доказывает отнюдь не только осторожность поэта, но более всего – эволюцию мировоззрения, иной взгляд, сквозь прожитые годы, на дела «мятежной юности». Много лет спустя другой приятель Пушкина, С. Д. Полторацкий, также ссылаясь на нежелание Пушкина, осудит Герцена за его стремление опубликовать «Гавриилиаду»…
Поэма, однако, уже жила и распространялась, не подчиняясь даже воле своего гениального создателя…
Мы прошли от начала до конца, насколько это было возможно, по той части дела о «Гавриилиаде», которая непосредственно касалась самого Пушкина и, естественно, привлекала основное внимание исследователей. Однако рядом, в соответствующих документах III отделения и в еще не опубликованных материалах военного ведомства были представлены факты, события, имевшие хотя и косвенное отношение к поэту, но очень важные как социально-исторический контекст всего происходящего.
Братья Митьковы и их людиФамилия обладателя списка «Гавриилиады» сразу же встревожила правительство; ведь отставной штабс-капитан Валентин Фотиевич Митьков был родным братом «государственного преступника», который как раз той весной 1828 года был доставлен на читинскую каторгу: старший из четырех братьев Митьковых, декабрист Михаил Фотиевич, родился в 1791 году, с 16 лет участвовал в различных кампаниях; в его послужном списке последовательно перечислены все главные сражения кампании 1812–1814 годов: Бородино (за которое удостоен золотой шпаги), затем Тарутино, Малоярославец, Красное, Люцен, Бауцен, Дрезден, Кульм, Лейпциг, Париж. Награжденный многими орденами, Митьков в возрасте 30 лет был уже полковником лейб-гвардии Финляндского полка, и лишь тяжелая болезнь, от которой он подолгу лечился за границей, задержала его служебное продвижение.
Из дела М. Ф. Митькова видно, что он был принят в Тайное общество в 1821 году Николаем Ивановичем Тургеневым. Именно Тургенев, а позже Пущин были наиболее близкими к нему деятелями Тайного союза. Декабрист признался, что старался «споспешествовать к освобождению крестьян, в свете с высшими себя вести без низости, а с подчиненными – как следует хорошо образованному человеку».
На следствии, формально, раскаиваясь в конституционных разговорах (Митьков утверждал, что конституцию считал «утопией»), отрицая сделанные на него показания, будто – одобрял «истребление императорской фамилии до корня», декабрист твердо отстаивал свои убеждения насчет освобождения крестьян; специально заявил, что «недавно бывши в деревне, видел, что слова (его. – Н. Э.) производили на слушателей сильное действие», повторял соображения о выгодности – «освободить крестьян и дворовых».
У следствия не было данных, будто младший брат был единомышленником старшего; однако донос о «Гавриилиаде», можно сказать, к этому вел; полковник, а теперь «государственный преступник» Михаил Митьков стоял за крестьян и вел с ними «разговоры»; его брат Валентин Митьков тоже ведет опасные разговоры и читает «ужасные стихи» в присутствии крестьян, дворовых.
Митьков-декабрист признавался, что «свободный образ мыслей… заимствовал из чтения книг и от сообщества Николая Тургенева»; ссылка на Тургенева, находившего за границей, для следствия была хорошо понятной маскировкой других, более близких вдохновителей, чтение же опасных книг опять вызывало ассоциации с чтением опасных рукописей другим Митьковым.
Следственное дело полковника Митькова вел в 1826 году Бенкендорф; теперь его же ведомство займется делом отставного штабс-капитана (правда, сам шеф жандармов пока что на Балканах, вместе с царем).
Прежде чем следствие затребовало Пушкина, оно получило другие имена – близких приятелей Валентина Митькова. Само его дело было озаглавлено: «О дурном поведении штабс-капитана Митькова, Владимира, Семена и Александра Шишковых, Мордвинова, Карадыкина, губернского секретаря Рубца, чиновника Таскина, фехтовального учителя Гомбурова». Заключение следствия сводилось к тому, что «все сии молодые люди слишком погружены в разврате, слишком облегчены презрением, чтобы казаться опасными в политическом отношении… Если между ними распространены возмутительные безнравственные сочинения, то сие, конечно, сделано братьями Шишковыми».
Подобная характеристика, вероятно, объясняет, отчего (как увидим) власть затем не слишком углубляется в жизненные обстоятельства младшего Митькова. Братья Шишковы, конечно, попали на заметку, приятель Пушкина Александр Шишков, уже и до того побывав под арестом, находился под строгим надзором. Усердные же преследования других племянников министра и консервативного государственного деятеля А. С. Шишкова, видимо, не входили в планы правительства. Поэтому дела особенно расширять не стали, но потянули к ответу автора «Гавриилиады».
Прежде чем двинуться дальше, оценим парадоксальность, трагичность сложившейся ситуации.
Растет дело, состоящее почти из тридцати документов, причем уже из опубликованных текстов III отделения видно, что после доноса дворовых людей на своего хозяина возник очередной «российский парадокс»: брат декабриста, читатель запрещенного Пушкина, отставной штабс-капитан Валентин Митьков начал расправляться «со своими людьми». В деле ничего нет о домашнем наказании, которое, вероятно, не замедлило; но после того Митьков послал Денисова (почему-то одного?) на съезжую, где его выдрало уже «само государство», а затем – отдал Денисова и Ефимова в рекруты (как увидим ниже, был наказан и третий подозреваемый барином крепостной человек).
Царь и верховная власть оказались в щекотливом положении. С одной стороны, Митьков – брат государственного преступника и сам преступник, но он дворянин, офицер, а дело ведется по доносу дворовых людей, в то время как крепостным давно запрещено доносить на хозяина.
Митьков дважды наказывает своих «холопьев» по праву, предоставленному ему законом и властью, – но притом именно просвещенное дворянство после восстания декабристов находится под максимальным подозрением, власть уже неоднократно и гордо подчеркивала верность, любовь к престолу простого народа (лозунг «самодержавие, православие, народность» еще не сформулирован, но практика – уже заявлена!).
Николай I оказался перед дилеммой: необходимость контроля, поощрения доносов на «слишком грамотных», неблагонамеренных людей; но кто же будет доносить, если «благородному смутьяну» так легко расправиться с верноподданным из низшего сословия?
По ходу расследования о «Гавриилиаде» было сделано неясное указание, чтобы строптивые митьковские дворовые не пострадали; однако пушкинская часть дела обрывается осенью 1828 года, когда оба «инициатора» уже были забриты в рекруты…
Продолжение истории находится в недавно изученных автором этих строк материалах канцелярии дежурного генерала Главного штаба (теперь ведь оба рекрута числятся по военному ведомству!). Новое дело, на 27 листах, охватывало период с октября 1828 года по 31 августа 1829 года.
«Дело, начавшееся по показаниям рекрута Денисова, что помещик его, отставной штабс-капитан Митьков, имел у себя самим им писанную богохульную книгу. О имении таковой же книги братом его 25 егерского полка майором Митьковым и оставлении сего Денисова и товарища его Ефимова в военном ведомстве». Некоторые материалы этого дела дублируют тексты, давно известные по соответствующему делу III отделения, многие же страницы – уникальны.
Рекруты и ВластьОказывается, что 4 октября 1828 года (то есть буквально в те дни, когда Пушкин писал и подавал «письмо к царю») рекрут Никифор Денисов сочинил новую жалобу: в этот момент он должен был находиться в Отдельном Финляндском корпусе, но попал в госпиталь из Санкт-Петербургского ордонанс-гауза «для излечения болезни, полученной еще во время бывшего в Санкт-Петербурге в 1824 году наводнения».
Заметив еще одно причудливое пересечение судеб (маленький, подневольный, озлобленный человек пострадал недавно от той стихии, которая столь занимает поэта и ведет его к «Медному всаднику») – заметив это, приведем (с попутными комментариями) биографические данные о несчастном доносчике, отсутствующие в других материалах: «От роду имеет 32‐й год» (то есть 1797 года рождения); «У исповеди и святого причастия бывает; поступил на службу 11 сентября с. г. из дворовых отставного лейб-гвардии Финляндского полка поручика (так!) Митькова Пензенской губернии Чембарского уезда из поместья Малощепотье» (как видим, он земляк Белинского и Лермонтова!). «Отдан в рекруты в здешнем рекрутском присутствии самим помещиком Митьковым, живущим близ Камерного театра в доме генерала Анненкова; он был поваром и камердинером, неграмотен».
Образ Никифора Денисова делается яснее: не просто дворовый, но человек бывалый, тертый, вероятно, немало развращенный столичным «холопским обиходом».
В госпитале Денисов излагал свои горестные обстоятельства, наверное, с помощью какого-нибудь грамотея из нижних чинов. Он напоминал, что «при прошении, которое сочинил ему какой-то монах, представил преосвященнейшему митрополиту Серафиму книгу, писанную собственной рукою помещика Митькова. Книга сия была по листам скреплена товарищем его дворовым же Митькова человеком Спиридоном Ефимовым, в одно с ним время отданным в рекруты и неизвестно где теперь находящимся. Содержание оного заключалось в богохульных суждениях о Христе-спасителе, Святом духе и Пречистой божьей матери. Помещик Митьков часто читал ее при нем, Денисове, и товарище его Ефимове и, сколько припомнит, – офицеру Финляндского полка Сумарокову, у коего была таковая же своя, и один раз чиновнику инженерного департамента Базилевскому» (последний слушал «с ужасом» и советовал сжечь…).
Как видим, желая избавиться от рекрутчины, дворовый человек Митькова припоминает новые имена и, между прочим, расширяет наши представления о распространении списков с пушкинской поэмы; замечание же, что рукопись, писанную собственной рукой Митькова, скреплял по листам Спиридон Ефимов, – наводит на мысль, что именно этот, как видно, грамотный дворовый и писал первоначальный донос, хитро приписанный «какому-то монаху».
Затем Никифор Денисов продолжает: «В отмщение за сделанный извет, как он, Денисов, так и товарищ его, Ефимов, были наказаны отдачей в рекруты, а прежде того, он, Денисов, был высечен в съезжем дворе розгами, а третий его же, Митькова, человек, живущий в Царском Селе, Михайло Алексеев, получил от самого Митькова побои при распросе, не знает ли и он обозначенной книги».
Оказывается, Денисов, за неделю до своего обращения в рекруты, «4‐го сентября подавал лично государыне-императрице просьбу о доведении до сведения его императорского величества о безбожии помещика своего».
Причудливые, уродливые формы протеста, печально естественные при неестественных обстоятельствах! В отчаянии оттого, что ни жалоба митрополиту, ни просьба императрице не возымели как будто никакого действия, Денисов припоминает еще других злоумышленников из семьи барина (странно, что во всех доносах не фигурирует имя старшего Митькова, осужденного на каторгу).
Дворовый-рекрут продолжает: «Подобную той книге, которую он, Денисов, представил митрополиту, имеет и родной брат помещика Митькова, находящийся в Москве в батальоне кантонистов, майор Платон Фотич Митьков. О сем последнем обстоятельстве узнал он, Денисов, от товарища своего Ефимова, который в 1827‐м ездил с помещиком своим в Москву и видел оную у камердинера Платона Митькова, сказавшего, что господин его читает ее многим его посетителям».
Документ заканчивается мнением Денисова, что «помещик Митьков, преследуя его за вышеупомянутые доказательства, настоит теперь об отправлении Денисова в Финляндию, куда по выписке из госпиталя, вероятно, он вскоре и должен будет следовать».
Новые сообщения Денисова были быстро оценены на самом верху государственной машины; о неграмотном поваре вскоре начнут переписку Чернышев, Бенкендорф, Голенищев-Кутузов, наконец, сам царь.
13 октября генерал А. И. Чернышев, фактически начальник Главного штаба, один из самых черных следователей по делу 14 декабря, лично допрашивает Денисова; 18 или 19 октября – докладывает вернувшемуся с Балкан Николаю. Царь велит все согласовать с другими материалами дела о «Гавриилиаде».
31 октября Бенкендорф извещает Чернышева, что он опять докладывал царю «имея в виду высочайшие повеления об обязательстве Митькова подпискою, чтобы он отнюдь не наказывал дворовых своих людей за сделанные ими показания касательно имевшегося у него богохульного сочинения и о воспрещении ему отдать в рекруты помянутого Денисова, которого представлено ему было отпустить по паспорту с тем, чтобы он платил господину своему неотяготительный оброк».
Николай I при том собственноручно написал: «Исполнить по решению, мною утвержденному, а в рекруты не принимать».
Тогда-то петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов снова потянул к ответу Митькова, – как смел он нарушить царское повеление и наказать своих бдительных дворовых? Митьков же оправдывался тем, что приказал высечь и отдать в рекруты Денисова и Ефимова, еще не зная о высочайшем повелении; кроме того, помещик заверял (насчет рекрутства), что «мера сия согласна была с собственным их желанием, и что после сего он опасается взять их обратно к себе».
Самодержавие неожиданно оказалось в роли заступника пострадавших крепостных от барского засилья; или – защитника преданных престолу и вере дворовых – от вольнодумца, брата декабриста, но притом не забывающего о своих грубых помещичьих правах…
После всех приведенных объяснений дело продолжается в двух направлениях. Разумеется, Чернышев и Бенкендорф не забыли о появлении в следственных бумагах еще одного Митькова, майора Платона Фотиевича, но прежде – не без труда разрешилось дело самого Денисова и его товарища. 1 декабря дежурный генерал Потапов от имени своего начальника Чернышева извещает Бенкендорфа, что царское повеление о переводе дворовых на «неотяготительный оброк» запоздало: это трудно сделать, не задев интересов помещика. Доносчики должны быть поощрены, но права крепостника не должны быть затронуты!
5 декабря 1828 года Бенкендорф находит, что он – «отнюдь не вправе утруждать государя императора новым докладом»; шеф жандармов считает, что теперь это дело петербургского генерал-губернатора Голенищева-Кутузова. Однако Чернышев, рьяно проявлявший активность и уже видевший впереди кресло военного министра (которое и получит через несколько лет), – докладывает царю сам.
11 декабря следует окончательное царское распоряжение, которое Чернышев передает Бенкендорфу:
«Государь император высочайше повелеть соизволил оставить их (двух дворовых. – Н. Э.) в военном ведомстве, но с тем, чтоб не были употреблены во фронтовую службу, a в нестроевую в каких-либо заведениях, к чему по усмотрению военного начальства способными окажутся».
Судьба Денисова и Ефимова решена: теперь им суждено окончить свой век на нижних ступенях военной иерархии – возможно, поварами, сторожами, мелкими служителями…









































