Читать книгу "«Сказать все…»: избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков"
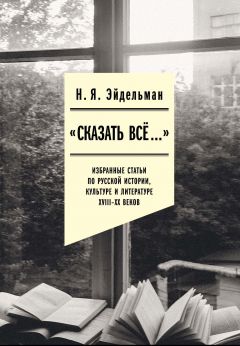
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,
Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметает все, не зная, где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.
Но если солнце вольности блеснет
И с запада весна придет к России –
Что станет с водопадом тирании?
Так говорил Пушкин, герой стихотворения Адама Мицкевича. Но Пушкин, автор «Медного всадника», разве с этим согласен? Разве может присоединиться к отрицательному, суровому приговору, который Мицкевич выносит этому городу, этой цивилизации? Польский поэт всеми стихами «Отрывка» восклицает «нет!». А Пушкин?
Не раз за последние годы, и более всего – во вступлении к «Медному всаднику», он говорит да! Он обладает, по словам Вяземского, «инстинктивной верой в будущее России!».
И вот в самом остром месте полемики – каков же пушкинский ответ на вопрос Мицкевича о будущем, вопрос – что станет с водопадом тирании?
«Властелин судьбы» выполнил свою миссию, однако же будущее его Дела, будущее страны – все это неизвестно и вызывает тревожное:
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
На вопрос отвечено вопросом же!
Ни Пушкин, ни кто-либо из его современников не могут еще дать ответа…
Однако Мицкевич хоть и спрашивает, но не верит.
Пушкин спрашивает и верит.
Мицкевич – нет!
Пушкин – может быть!
Для того чтобы достигнуть такой высоты в споре, чтобы не поддаться искушению прямого, резкого ответа, не заметить даже того, что касается его лично, Пушкин должен был, говорим это с абсолютной уверенностью, преодолеть сильнейший порыв гнева, пережить бурю куда большую, чем многие его житейские потрясения.
К сожалению, биография поэта для следующих поколений была и осталась куда в большей степени внешней, нежели глубинной.
Личной неурядице, ссылке, царскому выговору мы постоянно придаем неизмеримо большее значение, чем, например, такой огромной внутренней победе, как доброжелательные слова в примечаниях к «Медному всаднику», слова, появившиеся после того, как прочтен и переписан страшный «Отрывок»! В тогдашнем историческом, политическом, национальном контексте обвинения Мицкевича справедливы, убедительны. В них нет ненависти к России – вспомним само название послания «Русским друзьям»…
Однако горечь, гордость, чувство справедливости ведут автора «Дзядов» к той крайности отрицания, за которой истина слабеет… Пушкин же «Медным всадником» достиг, казалось бы, невозможного: правоте польского собрата противопоставлена единственно возможная высочайшая правота спора-согласия!
Только так; всякий другой ответ на «Ustep» был бы изменой самому себе.
Только так, ценой таких потрясений и преодолений рождается высокая поэзия.
Польский исследователь В. Ледницкий более полувека назад точно и благородно описал ситуацию, хотя и в его труде все-таки представлен уже готовый результат конфликта – не сам процесс:
«Пушкин дал отповедь прекрасную, глубокую, лишенную всякого гнева, горечи и досады, она не носила личного характера, не была непосредственно направлена против Мицкевича, но Пушкин знал, по крайней мере допускал, что польский поэт все, что нужно было ему в ней понять, поймет. Поэма исполнена истинной чистой поэзии, автор избег в ней всякой актуальной полемики, дал только искусное оправдание своей идеологии и не побоялся, возбужденный Мицкевичем, коснуться самого больного места в трагической сущности русской истории. В „Медном всаднике“ Пушкин не затронул русско-польских отношений и тем самым оставил инвективы Мицкевича без ответа».
Величайшая победа Пушкина над собой, победа «правдою и миром» достигнута – и поэмой, и примечаниями, наконец, еще и переводами…
Той же болдинской осенью из того же IV парижского тома Мицкевича Пушкин переводит две баллады «Три Будрыса» (у Пушкина – «Будрыс») и «Дозор» (у Пушкина – «Воевода»). Знак интереса, доброжелательства, стремление найти общий язык. Но история еще не окончена.
«Правдою и миром»
Примирение было столь же нелегким, как вражда. Пушкин знает цену Мицкевичу; в своей жизни он редко встречал людей, равных или близких по дарованию. Скромный, снисходительный, чуждый всякой заносчивости, готовый (как его Моцарт) назвать гением («как ты да я») любого Сальери, Пушкин при этом отлично знает цену и себе; Карамзин, Грибоедов, Гоголь, Мицкевич – вот немногие, с которыми, наверное, ощущалось равенство гениев.
Пушкин (при виде Мицкевича): «С дороги, двойка, туз идет!»
Мицкевич: «Козырная двойка туза бьет!»
Один из общих друзей припомнит, как «во время одной из импровизаций Мицкевича в Москве Пушкин, в честь которого был дан этот вечер, вдруг вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале. восклицал: „Какой гений! какой священный огонь! что я рядом с ним?“ – и, бросившись Адаму на шею, обнял его и стал целовать как брата…».
Беседы с таким человеком для Пушкина неизмеримо важнее обыденных объяснений, в них, может быть, главная мудрость эпохи.
«Медным всадником» Пушкин разговаривает с собратом, как вершина – с вершиной…
Однако первые черновые строки стихотворения «Он между нами жил…», строки резкого ответа, отодвинутые «Медным всадником», – они все же вышли наружу; пусть пока что в черновике, спрятанные в глубине тетради, закрытые поэмой, – они живут, жгут, беспокоят…
Как знать, если бы «Медный всадник» появился в том виде, в каком Пушкин подал его высочайшему цензору, если бы поэма вышла, а Мицкевич прочитал, – то, может быть, не потребовались бы новые стихотворные объяснения. Но поэма не вышла…
В конце ноября 1833 года Пушкин возвращается в Петербург; «Медный всадник» тщательно переписан на одиннадцати двойных листах и в начале декабря представлен через Бенкендорфа царю. Ответ был довольно скорым – 12 декабря 1833 года. Рукопись возвращена с несколькими десятками царских замечаний и отчеркиваний.
Запрещены все слова, снижавшие, по мнению Николая, образ Петра, – «кумир», «гордый истукан», «ужо тебе, строитель чудотворный» и некоторые другие…
Это было в духе официального взгляда на самодержцев-предков.
Еще в 1829 году цензура обратила внимание на комедию «Арзамасские гуси», где один из персонажей обвинял Петра Великого в наводнении 1824 года. Там происходит следующий диалог:
Побродяжкин: А кто несчастию причина? Блаженной памяти покойный царь Петр Алексеевич! Был умный государь, А к морю чересчур подъехал близко. Как в яме строиться, когда есть материк? Вот то-то, матушка, и был велик, А выстроился низко…
Лихвин: Смотри, Егор, укороти язык, Ты слишком говорить изволишь фамильярно.
Побродяжкин: Помилуйте! Петру Великому Отечество всегда пребудет благодарно!
Тем не менее пьеса была разрешена. Однако за четыре прошедших года «погода» ухудшилась. Изучив историю высочайшего цензурования пушкинской поэмы, Н. В. Измайлов высказал очень справедливое предположение, что царь сделал множество отчеркиваний и, «возможно, не стал смотреть последних страниц, не обратил внимания и на имя Мицкевича в 3‐м и 5‐м примечаниях, почему оно позднее осталось и в печати, хотя вообще было запретным».
Впрочем, может быть, царь просто забыл, кто такой Мицкевич, и не догадался вычеркнуть это имя…
В императорской же семье с этого времени сложилось мнение, будто Пушкин не понимает Петра: Андрей Карамзин сообщал родным (10 (22) декабря 1836 года) отзыв великого князя Михаила Павловича:
«Он утверждал, что Пушкин недостаточно воздает должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его скорее как сильного человека, чем как творческого гения; и тут со свойственной ему легкостью речи, он начал ему панегирик, а когда я приводил в параллель императрицу Екатерину II, он посылал меня подальше».
Фактически «Медный всадник» был запрещен, и это было одним из самых сильных огорчений, подлинной трагедией, постигшей Пушкина. В России даже близкие люди, почитатели, не находя в печати его новых «значительных вещей», заговорили о том, что поэт «исписался» и т. п. Стоит ли удивляться, что Мицкевич, живший за границей, заметит о Пушкине 1830‐х годов: «Он перестал даже писать стихи, опубликовал лишь несколько исторических сочинений».
И тогда-то, через несколько месяцев после запрещения, Пушкин возвращается к оставленным строкам «Он между нами жил…»: беловой автограф, как уже говорилось, сопровождается датой 10 августа 1834 года.
В свое время специалисты задумались над тем, для чего же столь поздно, через год после знакомства с «Отрывком», поэт возобновляет старый спор?
М. А. Цявловский считал, что толчком, снова поднявшим из глубины сознания образ Мицкевича и его стихи, вероятно, было получение Пушкиным от графа Г. А. Строганова 11 апреля 1834 года заметки неизвестного из «Франкфуртского журнала» о речи Лелевеля.
Один из вождей восстания 1830–1831 годов, историк-демократ Иоахим Лелевель, 25 января 1834 года в Брюсселе говорил о Пушкине как противнике власти, вожде свободолюбивой молодежи.
Пушкин действительно крайне отрицательно отнесся к «объятиям Лелевеля», однако все же остается неясным, как этот эпизод, довольно далекий от Мицкевича, мог существенно повлиять на возобновление диалога. Даже если получение заметки от Строганова действительно стимулировало пушкинский замысел, то все равно главные причины надо искать в другом.
Дело в том, что запрещение «Медного всадника» оставляло ведь «Отрывок» Мицкевича без пушкинского ответа! Приходилось искать другие способы – поговорить, поспорить. Весь 1834 год, вообще очень тяжелый для Пушкина, можно сказать, проходит под тенью «Всадника».
В октябре с поэмой знакомится Александр Тургенев («Пушкин читал мне новую поэмку на наводнение 824 г. Прелестно, но цензор его, государь, много стихов зачернил, и он печатать ее не хочет»).
В декабре 1834 года публикуется начало – увы, только вступление к «Медному всаднику» – в журнале «Библиотека для чтения».
Несколько раньше жене пишутся любопытные строки:
«Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю матерьялы – привожу в порядок – и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок».
Слова о «площадях» напоминают:
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой –
Как будто грома грохотанье –
Тяжело-звонкое скаканье.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.
Поэт, по-видимому, шутливо соединяет двух медных исполинов – статую Петра и «Медную бабушку», принадлежащую Пушкиным статую Екатерины II, которую приходится постоянно перетаскивать «с одного конца города на другой…». Медный всадник скачет, бабушка «перемещается» – первый запрещен, вторую не удается сбыть, – меж тем приходят мысли о «памятнике нерукотворном…». Вот каков был 1834 год.
Работа же над стихами «Он между нами жил…», как прекрасно показал Цявловский, все время шла в сторону смягчения прямой полемики: никакой «ругани», больше спокойствия, объективности… Так же как несколько месяцев назад – при создании «Медного всадника».
И как не заметить, что в новом послании Мицкевичу присутствует очень серьезный личный мотив. Пушкин упрекает того, кто «злобы в душе своей к нам не питал», жалеет, что теперь
Наш мирный гость нам стал врагом – и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта…
Казалось бы, как можно укорять Мицкевича, если сам Пушкин пусть не «в угоду черни буйной», но совершенно искренне написал «Клеветникам России», «Бородинскую годовщину»?
Русский поэт имел право на упрек «Злобному поэту» только после того, как создал «Медного всадника». Иначе это были бы «слова, слова, слова»…
Когда он восклицает:
…боже! Освяти
В нем сердце правдою твоей и миром,
И возвести ему…
мы видим здесь важнейшее автобиографическое признание. Это он, Пушкин, год назад победил в себе «злобного поэта», сумел подняться к правде и миру, – и наградою явилась лучшая поэма!
Однако и стихи «Он между нами жил…» (где сначала, мы помним, мелькнуло «торгаш… собачий лай…») не даром дались; их тоже нужно отнести к тем бурям, что разыгрывались под обычной житейской оболочкой…
Пушкин в 1833‐м начал послание Мицкевичу, но не кончил, отложил; в 1834‐м завершил, перебелил рукопись, но не напечатал! Возможно, оттого, что все же не смог в стихах найти должной дозы «правды и мира» – такой, как в «Медном всаднике».
Или все дело в том, что снова возникли надежды на выход поэмы?
В 1836‐м Пушкин предпринял отчаянную попытку – переделать рукопись, как-то учесть царские замечания. Попытался даже серьезно ухудшить текст: вместо «кумир на бронзовом коне» попробовал «седок на бронзовом коне». Попробовал и, кажется, сам на себя осердился. Переделка так и не была завершена. Пушкин погиб, не увидев своей лучшей поэмы в печати.
Сегодня может показаться странным, отчего царь так разгневался на кумира; но дело в том, что это слово в те времена было страшнее, чем теперь: оно означало – идол, истукан.
Пятый, посмертный том пушкинского журнала «Современник» открывался знаменитым письмом Жуковского о кончине великого поэта, а затем сразу – «Медный всадник», конечно исправленный по царским замечаниям, без самых резких слов в адрес «горделивого истукана», но все же дух, смысл сохранялся; и оба дружелюбных примечания о Мицкевиче остались: царь их прежде не заметил, оттого и теперь цензоры не тронули!
Меж тем Мицкевич за границей, узнав о гибели Пушкина, тоже ищет настоящих слов… Ходили слухи, будто он искал Дантеса, чтобы отомстить. Весной 1837 года Мицкевич написал и опубликовал свой некролог-воспоминание. Еще не зная ни пушкинской поэмы, ни стихов «Он между нами жил…», польский поэт сочинял, будто догадываясь о «прекрасных порывах» Пушкина. Он писал с той же нравственной высоты, которая достигнута в споре-согласии «Медного всадника»:
«Я знал русского поэта весьма близко и в течение довольно продолжительного времени; я наблюдал в нем характер слишком впечатлительный, а порою легкий, но всегда искренний, благородный и откровенный. Недостатки его представлялись рожденными обстоятельствами и средой, в которой он жил, но все, что было в нем хорошего, шло из его собственного сердца».
Одного из собеседников не стало, свет же умершей звезды продолжал распространяться…
Пройдет еще несколько лет, и в руки Мицкевича попадают посмертные выпуски пушкинских сочинений.
11 февраля 1841 года в Париже друг Пушкина – тот, кто отвозил его в Лицей и хоронил, – Александр Иванович Тургенев записывает: «На лекцию Мицкевича. Собирался отдать ему стихи Пушкина, как голос с того света, но не положил на кафедру».
15 февраля Тургенев вновь записал: «С Мицкевичем встретился: он не знает стихов к нему Пушкина, ни 3‐х последних частей его; обещал их ему».
Пройдет еще год, и 25 февраля 1842 года Тургенев напишет Вяземскому: «Сообщаю вам извлечение из трех (а может быть, и четырех) лекций Мицкевича, мною слышанных. В последнюю – положил я на его кафедру стихи к нему („Голос с того света“) нашего друга-поэта».
В 9‐м томе посмертного собрания пушкинских сочинений (первой из трех «последних частей», где публиковались прежде не печатавшиеся его труды) польский поэт впервые прочел «Он между нами жил…» и «Медного всадника»!
Мицкевич, прекрасно владевший русским языком, конечно, очень многое понял даже и по многократно испорченному тексту петербургской поэмы; нашел он и свое имя в пушкинских примечаниях к «Медному всаднику».
Так же как Пушкин некогда встретился с «самим собою» в стихах «Памятник Петру Великому».
В будущем, в каких-нибудь польских или западных архивах, может быть, удастся найти отклики польского поэта на пушкинский «голос с того света…».
Вулканические вспышки спора-согласия двух гениев остались как бы «вещью в себе»: правду и мир Мицкевич возвестит Пушкину в некрологе, ничего не зная о «Медном всаднике»; поэма и стихи Пушкина дойдут к польскому мастеру позже, неполно…
Спор гениев, не состоявшийся в прямом смысле, тем не менее – важнейшее событие в развитии их духа.
Спор-согласие , потаенное сродство душ, которое мы, может быть, уже умеем услышать, увидеть…
Вот какие рассуждения возникли над двумя примечаниями к «Медному всаднику», над листами старых тетрадей. А ведь это еще далеко не вся их потенциальная энергия! Ведь в «Пиковой даме», например, есть эпиграф, еще более загадочный, чем первые два… А в «Медном всаднике», говорят, был целый исчезнувший монолог Евгения против Петра…
Мы пытались «алгеброй пушкинистики» поверить гармонию Пушкина.
Мы знали, что это невозможно. Но ободряли себя тем, что всякий поиск имеет результат, пусть и не тот, который предполагался.
«СНОВА ТУЧИ…»
ПУШКИН И САМОДЕРЖАВИЕ В 1828 ГОДУ
Рок завистливый…
150-летие пушкинской гибели почти совпадает со 160-летием «амнистии»: осенью 1826 года в кремлевском кабинете Николая I начались последние 10 лет на воле.
Снова и снова размышляя о финале трагедии, мы вглядываемся в последние, предпоследние, более ранние сцены – и наконец обращаемся к завязке.
Гул затих, я вышел на подмостки…
Здесь, в самом начале, определилось многое, очень многое, и нам, знающим, очевиден необратимый «конец пути». Пушкин же, многое предчувствовавший, еще надеялся. Как много несет в себе образ «завистливого рока». Этот эпитет поэт употребляет редко (в «Словаре языка Пушкина» отмечено 18 случаев). Девятнадцатилетний напишет Жуковскому:
Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль.
Теперь же завистлив рок; завидует счастью, очевидно немалому; счастью, трагический характер которого обозначается перед нами новыми и новыми подробностями.
«Краткая хроника»4–8 сентября 1826 года. Фельдъегерь доставляет Пушкина в Москву для встречи с царем. В эти же дни разрастается опасное для поэта дело о стихотворении «Андрей Шенье».
Осень. Пушкин в Москве на свободе. Первые чтения вслух, друзьям и знакомым, «Бориса Годунова».
Ноябрь. Поездка в Михайловское: «Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму» (XIII, 304)2121
Здесь и далее ссылки в тексте даются на Полное собрание сочинений А. С. Пушкина в девятнадцати томах. Издательство Академии Наук СССР. М., 1937–1959. I–XIX.
[Закрыть].
15 ноября. Завершение царского задания, записки «О народном воспитании».
В этот же день М. П. Погодин посылает Пушкину письмо из Москвы, которое перехватывается, перлюстрируется и передается для заключения «эксперту», Ф. В. Булгарину2222
См. мою публикацию в: Вопросы литературы. 1985. № 2.
[Закрыть].
22 ноября. Пушкину, по его выражению, «очень мило, очень учтиво вымыли голову»: «Ныне доходят до меня сведения, – сердился Бенкендорф, – что Вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную Вами вновь трагедию» (XIII, 307).
29 ноября. Пушкин из Пскова посылает «Бориса Годунова» для «высочайшего цензурования» вместе с перебеленным текстом записки «О народном воспитании».
Декабрь. Поэт, попавший в дорожную катастрофу, отлеживается в псковской гостинице. По-видимому, здесь он получает сообщение Бенкендорфа (от 9 декабря), что «Борис Годунов» передан царю; последняя же фраза письма была ответом на вежливые пушкинские сомнения, следует ли «человека государственного» беспокоить «ничтожными литературными занятиями».
Шеф жандармов не менее вежливо просил Пушкина «сообщать мне… все и мелкие труды блистательного вашего пера».
Теперь Пушкин яснее понимал свое положение и степень высочайшего контроля.
Меж тем пометой «13 декабря, Псков» сопровождается самое раннее из нам известных потаенных пушкинских стихотворений, обращенных к декабристам, – «Мой первый друг, мой друг бесценный…».
Послание Пущину, где теплые высокие слова были отданы «государственному преступнику», осужденному по высшему, 1‐му разряду, где автор желал «озарить заточенье» друга, хронологически соседствует с документом, где о декабристах говорится как о «молодых людях», вовлеченных в «преступные заблуждения».
И в дальнейшем, в течение нескольких лет, сочинения, сочувственные к узникам, безусловно, нелегальные, вольные, – перемежаются текстами внешне лояльными, комплементарными по отношению к высшей власти.
Автору уже не раз приходилось высказываться о том, что сам поэт с его широчайшим взглядом на сцепление вещей и обстоятельств не видел тут никакого противоречия; что оба полюса – «сила вещей» правительства и «дум высокое стремленье» осужденных – составляли сложнейшее диалектическое единство в системе его поэтического и нравственного мышления, «дум высоких вдохновенья». (Реплика декабриста Одоевского в стихотворении «Последняя надежда», посвященном Е. А. Баратынскому, возможно скрытая цитата из пушкинского «Послания в Сибирь».)
Разумеется, сохранение этого единства нелегко давалось самому поэту; понимание его позиции было труднейшей задачей для старых друзей-декабристов и – совершенно невозможной для подозрительной власти.
Отношения с престолом, как будто столь улучшившиеся в сентябре 1826‐го, – в декабре явно осложняются. Возвратившись в середине месяца в Москву, Пушкин получил крайне огорчительное для него письмо Бенкендорфа от 14 декабря с замечаниями Николая I, делавшими невозможной публикацию «Бориса Годунова».









































