Читать книгу "«Сказать все…»: избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков"
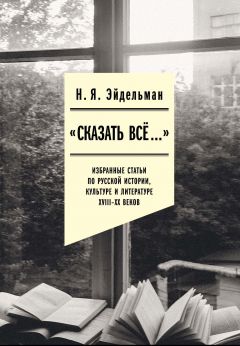
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Любопытно, что и после того, как окончательно выяснилась неосновательность доноса на Вяземского и «секретную газету», III отделение составило новую записку (в ответ на запрос о Погодине министра народного просвещения от 10 декабря 1828 года); в текст были включены большие выдержки из булгаринской записки – доноса 1826 года, а также доноса от 30 декабря 1827 года5858
См.: ПД. Ф. 244. Оп. 16. № 117. Л. 12–14.
[Закрыть].
Одна из резолюций царя на каком-то доносе гласила: «Доносить легко, доказать мудрено»5959
См.: Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 859 (архив Н. К. Шильдера). К. 2. № 13. Л. 19.
[Закрыть]. Тем не менее доносы принимались охотно и внимательно изучались…
Как видим, обширный свод документов о тайной слежке за Пушкиным, представленный в свое время Б. Модзалевским, пополняется теперь несколькими новыми, в том числе одним из самых ранних в николаевское царствование («экспертиза» в ноябре 1826 года).
Пушкин, Вяземский, Погодин, все более настороженно относясь к Булгарину, до поры до времени не догадывались о его прямом осведомительстве и не прерывали с ним «дипломатических отношений». Если записки 1826 года о «лицейском духе», об «Арзамасе», о книгопечатании и цензуре еще не представляли собой прямого «шпионского действия» и скорее обозначали, подчеркивали испуганную лояльность, то записка-донос насчет Погодина, Пушкина и Вяземского в ноябре 1826 года – документ, вряд ли нуждающийся в каких-либо объяснениях насчет его характера.
Возможно, «экспертиза» в связи с перехваченным письмом Погодина к Пушкину была первым серьезным полицейским заданием Булгарину; ведь сразу же после удачного дебюта он был отмечен: 22 ноября 1826 года, через 7 дней после погодинского письма, последовал указ Сенату:
«Обращая внимание на похвальные литературные труды бывшего французской службы капитана Фаддея Булгарина, всемилостивейше повелеваем переименовать его в VIII класс и причислить на службу по Министерству народного просвещения» 6060
Лемке Мих. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. Любопытно, что в указе буквально использован оборот из подлинной записки Бенкендорфа о «похвальных литературных трудах» Булгарина (28 октября 1826 года).
[Закрыть].
Разнообразные доносы на Пушкина и его друзей, как видим, накапливались с осени 1826 года, когда Пушкин был возвращен из ссылки, когда готовил записку «О народном воспитании». «Прощение» соседствовало с неприязнью, слежкой, недоверием.
Погодинское дело 1826–1828 годов – один из впечатляющих «эпиграфов» к последнему десятилетию пушкинской биографии.
«СКАЗАТЬ ВСЕ…»
…и не попасть в Бастилию».
Изречение Ф. Гальяни, нравившееся Пушкину. 1826
27 мая 1826 года Пушкин из псковской ссылки пишет другу, Петру Андреевичу Вяземскому: «Грустно мне, что не прощусь с Карамзиным – бог знает, свидимся ли когда-нибудь» (XIII, 280)6161
Здесь и далее ссылки на издание: Полное собрание сочинений А. С. Пушкина в девятнадцати томах. М.; Л., 1937–1959 даются в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы.
[Закрыть]. Карамзины собирались за границу в надежде, что больного главу семьи спасет итальянский климат.
Без радио, без телефона – откуда было Пушкину узнать, что за пять дней до того, как он написал «Грустно мне…» – 22 мая 1826 года, Николай Михайлович Карамзин скончался в Петербурге.
Для многих это событие слилось воедино с другими трагическими днями 1825–1826 годов: восстание 14 декабря, аресты, допросы; 13 июля 1826 года будет исполнен приговор.
«Никто не верил тогда, – воскликнул один мемуарист, – что смертная казнь будет приведена в исполнение, и будь жив Карамзин, ее бы не было – в этом убеждены были все…»
Восклицание наивное, но многозначительное: ушел просвещенный, влиятельный заступник.
Вяземский, успевший проститься с Карамзиным, пишет Пушкину в Михайловское: «Без сомнения, ты оплакал его смерть сердцем и умом: ибо всякое доброе сердце, каждый русский ум сделали в нем потерю невозвратную, по крайней мере для нашего поколения. Говорят, что святое место пусто не будет, но его было истинно святое и истинно надолго пустым останется» (XIII, 284–285). Друзья повторяют, что нужно оценить труды Карамзина, написать его биографию, собрать воспоминания. Речь шла не просто о крупном писателе-историке, но о целой эпохе, которую он представлял. Опасность, невозможность прямо писать о революции, декабристах и в то же время нежелание, невозможность переходить к «победителям» – все это также определяло для карамзинистов поиски немногих путей к настоящему разговору.
Карамзин в 1826 году был уникальной фигурой, почитаемой, уважаемой (разумеется, с разных точек зрения) и властью, и ее противниками. В то время как Николай I воспользовался болезнью и кончиной историка для особых, демонстративных милостей к нему и его семье, Вяземский, летом 1826‐го очень остро, оппозиционно настроенный, в своих письмах и дневниках помещал горячие, уничтожающие строки в адрес тех, кто судит и казнит. В одной из записей, где обосновывается право мыслящих людей на сопротивление, борьбу с деспотизмом, он прямо ссылается на Карамзина, и эта ссылка тем весомее, что отрицательное отношение историографа к революции было общеизвестно6262
Процитировав стихотворение Карамзина о Риме «Тацит», Вяземский комментировал: «Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному». Вяземский П. А. Записные книжки. М., 1963. С. 129.
[Закрыть].
Можно сказать, что Вяземский в Записных книжках фактически начал писать биографию Карамзина, резко обозначив самую острую и опасную тему – об историографе, русском обществе и власти. Однако более или менее цельных мемуарных текстов он долго не мог завершить, ряд важных записей был сделан лишь много лет спустя. Услышав однажды упрек от дочери историографа (и своей племянницы), что он написал биографию Фонвизина, а не Карамзина, Вяземский отвечал: «Ведь не напишешь же биографии, например, горячо любимого отца».
Не решаясь приняться за жизнеописание Карамзина, его друг, ученик и родственник притом постоянно хлопочет о сохранении карамзинского наследства; в январе 1827‐го он убеждал Александра Тургенева: «…Ты, Жуковский, Блудов и Дашков должны бы непременно положить несколько цветков на гроб его. Вы более всех знали его, более моего <…> Вы живые и полные архивы, куда горячая душа и светлый ум его выгружали сокровеннейшие помышления. Право, Тургенев, опрокинь без всякого усилия авторство памяти и сердечную память свою на бумагу, и выльется живое и теплое изображение».
Позже Вяземский не раз просит Жуковского и Дмитриева: «Время уходит, и мы уходим. Многое из того, что видели мы сами, перешло уже в баснословные предания, или и вовсе поглощено забвением. Надобно сдавать свою драгоценность в сохранное место»6363
Подробную сводку различных попыток составить биографию Карамзина см.: Пушкин А. С. Письма. М.; Л., 1928. С. 167–169.
[Закрыть].
Пушкина как мемуариста друзья Карамзина как будто в расчет не берут: знакомство молодого поэта с историографом было куда менее длительным, основательным, чем у них; к тому же было известно о периодах взаимного охлаждения…
Меж тем 10 июля 1826 года поэт в очередном письме Вяземскому произносит очень важные слова: «Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти? Отечество вправе от тебя того требовать. Напиши нам его жизнь, это будет 13‐й том Русской Истории; Карамзин принадлежит истории. Но скажи все; для этого должно тебе иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре».
Как известно, Пушкин подразумевал следующие слова итальянского публициста аббата Гальяни (написанные в 1774 году): «Знаете ли Вы мое определение того, что такое высшее ораторское искусство? Это – искусство сказать все – и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего»6464
Важные интересные соображения о «формуле Гальяни» и взглядах Карамзина см. в работе: Вацуро В. Подвиг честного человека // Вацуро В., Гиллельсон М. Сквозь умственные плотины. М., 1972. С. 88.
[Закрыть].
Советуя Вяземскому, указывая даже на «красноречие», которое необходимо для того, чтобы сказать все, Пушкин, по существу, подразумевает собственные мемуары о Карамзине. Теперь мы знаем, что к этому времени поэт уже написал важнейшие страницы о писателе-историке, где сам сказал все: то есть самое главное…
Чтобы понять пушкинский замысел, столь важный в трагическом 1826 году, надо пройти его с самого начала, а для того отступить назад на десять и более лет.
1799–1816Карамзин, старший Пушкина 33 годами, был старше и Сергея Львовича, а в литературном смысле мог быть сочтен за «деда»: ведь его непосредственными учениками, сыновьями, были Жуковский, Александр Тургенев и другие «арзамасцы», в основном появившиеся на свет в 1780‐х годах. В год рождения Пушкина Карамзин предсказывал, что в России «родится вновь Пиндар». Хорошо знакомый с отцом и дядей Александра Сергеевича, писатель-историк знает будущего поэта с младых ногтей. Оставим в стороне «домашнюю» версию Сергея Львовича, зафиксированную почти через полвека: «В самом младенчестве он (А. С. Пушкин) показал большое уважение к писателям. Не имея шести лет, он уже понимал, что Николай Мих. Карамзин – не то, что другие»; и без этого в первые годы XIX столетия многое уже сближало маленького, «долицейского» Пушкина со знаменитейшим прозаиком, публицистом, поэтом, в недалеком будущем – историком.
Круг общих знакомых будто сразу задан на всю жизнь: Екатерина Андреевна Карамзина, Карамзины-дети, Жуковский, Тургенев, Дмитриев, Батюшков, Вяземские… Кроме того, была Москва «допотопная и допожарная» (выражение П. А. Вяземского); московские впечатления и воспоминания всегда важны для будущих петербуржцев. Разговоры о Карамзине, споры вокруг его сочинений и языка, ожидание «Истории…» – все это постоянный фон пушкинского детства, отрочества и юности.
Как известно, с 1803 года Карамзин почти совсем оставил литературные занятия, получил должность историографа и «заперся в храм истории». Ему было в ту пору 37 лет, и он начинал совершенно новую жизнь в том именно возрасте, в котором позже оборвется жизнь Пушкина…
С 1811‐го Пушкин в Лицее; Карамзин в 1812 году перед вступлением французов одним из последних уходит из Москвы, переносит тяготы войны, московского пожара, теряет первенца-сына, болеет; в 1814 году вынашивает идею написать историю нового времени, в 1816 году навсегда переезжает в Петербург; летом работает в Царском Селе…
Отныне лицеист Пушкин – как «старый знакомый», представленный еще малышом, – постоянно посещает Карамзина. Хотя старшему 60, а младшему 17 лет, завязываются очень своеобразные отношения.
Попытаемся же представить прямую предысторию будущих пушкинских записок о Карамзине в виде «хроники» с комментариями.
25 марта 1816 года. В Лицей приезжают шесть человек: Карамзин, Жуковский, Вяземский, Александр Тургенев, Сергей Львович и Василий Львович Пушкины. Встреча длится не более получаса. Вяземский не помнил «особенных тогда отношений Карамзина к Пушкину», стихами юного лицейского поэта историк еще не заинтересовался, однако сам визит носит «арзамасский» характер, как бы подчеркивает заочное участие Сверчка в литературном братстве.
В этот или следующий день лицеисты узнают из объявления в «Сыне отечества» о завершении восьми томов «Истории государства Российского» и о том, что «печатание продолжится год или полтора». Именно к этому моменту (когда издание объявлено, но еще не вышло) относится и первая из эпиграмм на Карамзина, обычно связываемая с именем Пушкина:
«Послушайте: я сказку вам начну
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и Царство золотое
И наконец про Грозного царя…»
– И, бабушка, затеяла пустое!
– Докончи нам «Илью-богатыря»! 6565
Авторство Пушкина, которое в большом академическом собрании отмечено как не вызывающее сомнения (11. 1025–1026), недавно оспаривалось Ю. П. Фесенко, обратившимся к старой идее об авторстве А. С. Грибоедова. См.: Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина // Сб. Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. С. 298–299.
[Закрыть]
Не вдаваясь в подробности, заметим только, что общее благоговейное отношение к Карамзину, «арзамасское» единство взглядов – все это не могло помешать веселому лицейскому поэту «стрельнуть» эпиграммой или насмешкой даже и в своего Карамзина. Пушкин ведь еще в Москве, а затем в Царском Селе не раз слышал скептические толки о писателе, который вряд ли сможет сочинить нечто серьезное, научное, отличающееся от «сказки»…
Известны петербургские толки о будущей «Истории…», когда один только Державин верил в успех карамзинского начинания. К тому же неоднократно раздавались голоса о «слишком долгой» (с 1803 года) работе без видимых плодов.
Между тем весной и летом 1816 года Карамзин выполняет обещанное, и Пушкин постепенно понимает, что присутствует при необыкновенном эпизоде российской культуры.
Так начинался первый, удивительный, особенно теплый и дружеский «сезон» в отношениях деда с внуком.
Зная (а может быть, имея новые доказательства) непокорный нрав племянника, дядя Василий Львович 17 апреля 1816 года наставляет его в том, в чем «иных» и не надо было убеждать: «Николай Михайлович в начале майя отправляется в Сарское Село. Люби его, слушай и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя много ожидаем» (XIII, 4).
Неопределенное дядюшкино «мы» подразумевает, конечно, не только семейство Пушкиных, но и карамзинский круг. Как видим, с первых дней нового знакомства сразу обнаруживаются два начала будущих отношений: сближение идейное, «арзамасское»; и некоторое отталкивание, насмешка молодости над любым авторитетом (и, соответственно, старшие предупреждают – «люби его и почитай»).
24 мая 1816 года. Карамзин с семьей поселяется в Царском Селе и работает над окончательной отделкой и подготовкой для типографии восьми томов своей «Истории…»; четыре месяца до 20 сентября (дата возвращения Карамзина в Петербург) – важнейший период общения, когда складываются некоторые главные черты будущих отношений. Догадываемся, что Пушкину «сразу» понравился историограф. Позже он вспомнит и даже изобразит Погодину его «вытянутое лицо во время работы».
«Честолюбие и сердечная приверженность» – вот как 10 лет спустя поэт определит свои чувства к Карамзину. Пушкин был настолько увлечен, что (по наблюдению Горчакова) «свободное время свое во все лето проводил у Карамзина, так что ему стихи на ум не приходили…».
Сам же Карамзин 2 июня (то есть через девять дней после приезда) уже сообщает Вяземскому, что его посещают «поэт Пушкин и историк Ломоносов», которые «смешат своим простосердечием. Пушкин остроумен».
Молодой Пушкин замечен как поэт (не сказано талантлив, но – остроумен!). Карамзину, очевидно, все же пришлись по сердцу некоторые поэтические сочинения лицеиста, может быть, остроумные эпиграммы. Вообще знакомство начинается со смеха, простосердечия, равенства; этого не следует забывать, хотя столь жизнерадостное начало будет сокрыто, почти затеряно в контексте последующих серьезных, противоречивых отношений.
Именно уважением к дару юного Пушкина объясняется известный эпизод, случившийся буквально через несколько дней после возобновления знакомства.
Старый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий не в силах выполнить высочайший заказ – написать «приличествующие стихи» в честь принца Оранского, прибывшего в Петербург для женитьбы на великой княжне Анне Павловне. Нелединский бросается к Карамзину, тот рекомендует молодого Пушкина, лицеист в течение часа или двух сочиняет то, что нужно, – «Довольно битвы мчался гром…».
Впрочем, тут же линия согласия прерывается сопротивлением: гимн приезжему принцу поется на празднике в честь новобрачных, императрица-мать жалует сочинителю золотые часы, Пушкин же разбивает их «нарочно» о каблук. Верна эта лицейская легенда буквально или нет – она сохраняет отношение Пушкина к событию, моральную ситуацию: стыдно принимать подарки от царей!
Карамзин, только что получивший огромную сумму на издание своего труда, а также «анну» 1‐й степени, вряд ли бы одобрил столь резкое действие; но одновременно – ценил подобный взгляд на вещи. Любопытно, что сам Пушкин позже опишет эпизод, по духу своему сходный (тем более что он связан с поездкой Карамзина в Павловск, то есть в гости именно к императрице-матери Марии Федоровне): «Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались…» (XII, 306).
Пушкин и другие лицеисты, без сомнения, знали, пересказывали еще немалое число подобных же эпизодов, которые определяли в их глазах карамзинскую репутацию.
«Один из придворных, – вспоминал Вяземский, – можно сказать, почти из сановников, образованный, не лишенный остроумия, не старожил и не старовер, спрашивает меня однажды:
„Вы коротко знали Карамзина. Скажите мне откровенно, точно ли он был умный человек?“
– „Да, – отвечал я, – кажется, нельзя отнять ума от него“.
„Как же, – продолжал он, – за царским обедом часто говорил он такие странные и неловкие вещи“.
Дело в том, что по понятиям и на языке некоторых всякое чистосердечие равняется неловкости».
Вяземский, впрочем, прибавил, что хозяева, «пресыщенные политикою», любили разговоры Карамзина, «свободные и своевольные».
Ксенофонт Полевой вспоминал, что Пушкин и много лет спустя питал к Карамзину «уважение безграничное», что «историограф был для него не только великий человек, но и мудрец, – человек высокий, как выражался он»; мемуарист воспроизвел рассказ Пушкина:
«Как-то он был у Карамзина (историографа), но не мог поговорить с ним оттого, что к нему беспрестанно приезжали гости, и, как нарочно, все это были сенаторы. Уезжал один, и будто на смену ему являлся другой. Проводивши последнего из них, Карамзин сказал Пушкину:
– Заметили вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?»
Наконец, на глазах Пушкина и лицейских, тем летом 1816 года складываются удивляющие, не имеющие русских аналогий отношения историографа с царем. Александр I все чаще заглядывает к Карамзину, рано утром они почти ежедневно прогуливаются, часами беседуют в «зеленом кабинете», то есть царскосельском парке. Историк, по его собственному позднейшему признанию, «не безмолвствовал о налогах в мирное время, о нелепой губернской системе финансов, о грозных военных поселениях, о странном выборе некоторых важнейших сановников, о министерстве просвещения иль затмения, о необходимости уменьшить войско, воюющее только Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном для народа, наконец, о необходимости иметь твердые законы, гражданские и государственные».
Разумеется, о содержании потаенных бесед никто почти ничего не знал, но общий их дух скрыть было невозможно. Лицеисты вряд ли могли усомниться, что с царем Карамзин говорил свободно, как со всеми.
Равенство и достоинство, «честолюбие и сердечная приверженность».
Пушкин тем летом, несомненно, читал Карамзину свои стихи.
Карамзин же показал вступление к «Истории…», которое Пушкин считал позже «недооцененным». В письме к брату Льву (4 декабря 1824 года) Александр Сергеевич припомнит, как Карамзин при нем переменил начало введения. Было: «История народа есть в некотором смысле то же, что библия для христианина». Опасаясь конфликта с церковью из‐за сравнения гражданской истории со Священным Писанием, историограф, как видно, поделился опасениями с молодым собратом и при нем переделал первую фразу: «История в некотором смысле есть священная книга народов».
Как не заметить, что Пушкин вспомнит этот эпизод как раз в ту пору, когда уже трудится над записками о Карамзине и других современниках (подробнее см. ниже); кроме того, опальный поэт, только что (летом 1824 года) пострадавший за вольное высказывание о религии, естественно, вспоминает Карамзина в «сходной ситуации».
В Царском Селе, кроме Введения, без сомнения, были прочитаны в рукописи и другие отрывки «Истории…»: лицейский Горчаков сообщал дяде, что «Карамзин все еще торгуется с типографщиками и не может условиться <…> Некоторые из наших, читавшие из нее („Истории…“) отрывки, в восхищении».
«Некоторые» – это прежде всего Пушкин. Ему все интереснее в доме историографа, он там все более свой. У Карамзина знакомится и беседует с Чаадаевым, Кривцовым: в день именин Вяземского (который находится в Москве), а затем в день его рождения (29 июня и 13 июля 1816 года) Пушкин «от всего сердца» пьет за здоровье чествуемого.
В разговорах о жизни Карамзин, как видно, абсолютно избегает нравоучительного тона (не то что, например, у юного поэта с другим, вполне благородным человеком, лицейским директором Энгельгардтом: тот желает привлечь Пушкина к себе, но «естественный тон» не найден, и отношения ухудшаются).
Так проходило примечательное лето 1816 года. В осеннем послании к Жуковскому мы находим поэтический итог длительного общения поэта-лицеиста с Карамзиным, как бы первый, стихотворный «пролог» к будущим Запискам:
…Сокрытого в веках священный судия6666
Карамзин (прим. Пушкина).
[Закрыть],
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый,
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитров слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец избранный6767
Державин (прим. Пушкина).
[Закрыть],
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
И ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный? (I, 194)
Обратим внимание на последовательность имен… На первом месте Карамзин, и в четырех строках – основные впечатления минувшего лета: историк, но притом «священный судия», «страж верный…». Его высокий талант («наперсник муз любимый») равен характеру («неколебим»). Его отношение к пушкинским опытам – это «ободрение», «приветливое внимание».
После Карамзина – И. И. Дмитриев; однако тем летом он не приезжал из Москвы. Возможно, что старый поэт и бывший министр в одном из писем Карамзину присоединил какие-то лестные отзывы к мнению друга о талантливом лицейском поэте, а письмо было прочтено молодому Пушкину. К сожалению, все письма Дмитриева к Карамзину бесследно исчезли…
Итак, два первых имени в пушкинском перечне «благословителей» – это, в сущности, один Карамзин. Только на третьем месте – «славный старец наш» Державин; наконец, адресат послания – Жуковский…
В стихотворных мемуарах Пушкин сообщает о важнейших для него событиях. Только теперь он утвердился в своем призвании, и роль старших друзей огромна, необыкновенна.
Можно сказать, что за несколько месяцев до окончания Лицея юный поэт прошел важнейший курс обучения в доме Карамзина: познакомился с высокими образцами культуры, литературы, истории, личного достоинства – и эти мотивы, конечно же, подразумевались 10 лет спустя, когда Пушкин мечтал о Карамзине «сказать все». Догадываемся, что поэт скучал по историографу последней лицейской осенью и зимой; что из Царского Села в Петербург и обратно шли приветы, а на Рождество Пушкин в столице и, конечно же, наносит визит… Карамзин занят типографией, корректурой восьми томов. Пушкин тяготится учением, все чаще пропадает у царскосельских гусар, влюбляется.
Весной 1817‐го начался второй «карамзинский сезон» в Царском Селе. В мае историограф между прочим присутствует на выпускном лицейском экзамене по всеобщей истории; ведомость о состоянии Лицея фиксирует, что в день рождения Пушкина, 26 мая 1817 года, его посещают примечательные гости: Карамзин, Вяземский, Чаадаев, Сабуров. Через четыре дня снова визит Карамзина и Вяземского.
Между тем именно в этот момент происходит эпизод, который подвергает испытанию сложившиеся как будто отношения.
18-летний Пушкин пишет любовное письмо 37-летней Екатерине Андреевне Карамзиной, жене историографа.
Ю. Н. Тынянов видел в этой истории начало «потаенной любви» Пушкина к Е. А. Карамзиной, чувства, прошедшего через всю жизнь поэта. Мы не беремся сейчас обсуждать гипотезу во всем объеме. Заметим только, что Тынянов, вероятно преувеличивая, все же верно определил особенный характер отношений между Пушкиным и женой, а потом вдовой Карамзина.
Смертельно раненный поэт прежде всего просит призвать Карамзину. «Карамзина? Тут ли Карамзина? – спросил он <…> Ее не было; за нею немедленно послали, и она скоро приехала. Свидание их продолжалось только минуту, но когда Катерина Андреевна отошла от постели, он ее кликнул и сказал: „Перекрестите меня!“ Потом поцеловал у нее руку»6868
В. А. Жуковский – С. Л. Пушкину. См.: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 349.
[Закрыть].
Е. А. Карамзина о том же: «Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал <…> Он протянул мне руку, я ее пожала, он мне также и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: „Перекрестите еще“; тогда я опять, пожавши еще раз его руку, уже перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, и очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице»6969
Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 166.
[Закрыть].
О совершенно особых отношениях Карамзиной и Пушкина свидетельствует, между прочим, и эпизод, случившийся уже после гибели поэта. В начале июля 1837 года в Баден-Бадене Дантес в разговоре с Андреем Карамзиным, сыном историка, всячески оправдывался, горячо доказывая свою невиновность; надеялся на понимание всех Карамзиных, за исключением одного человека, Екатерины Андреевны: «В ее глазах я виновен, она мне все предсказала заранее, если бы я ее увидел, мне было бы нечего ей ответить»7070
Старина и новизна. Кн. ХVII. СПб., 1913. С. 317. Подлинник на французском языке.
[Закрыть].
К сказанному позволим прибавить еще одно, весьма, впрочем, гипотетическое соображение: во многих современницах Пушкина позже находили прототип Татьяны Лариной. Отвергая прямолинейную идею «копирования» Татьяны с кого-то из окружающих Пушкина лиц, все же задумаемся о женском типе, «милом идеале», близком к тому, что воплотилось в Татьяне. Давно замечено, что к своей героине Пушкин применял любимое словосочетание «покой и воля»:
…она
Сидит покойна и вольна.
Портрет женщины, прибывающей из провинции в столицу, женщины, в которой сначала рассчитывают найти смешные черты и вдруг обнаруживают естественность, достоинство, величественность, – все это Катерина Андреевна Карамзина, какой она представлена в нескольких рассказах современников. Еще раз повторим, что не настаиваем на сознательной аналогии Карамзина – Татьяна Ларина; однако полагаем, что встречи с Карамзиной в Лицее и Петербурге, а затем, много лет спустя – после возвращения из ссылки – все это вместе с другими впечатлениями формировало пушкинский «идеал».
Не принимая гипотезы Тынянова буквально, но соглашаясь с направлением его размышлений и поисков, нужно только возразить против соответствующих тыняновских оценок самого историографа, супруга Катерины Андреевны. Ю. Н. Тынянов сосредоточивался на том, что разделяло Пушкина и Карамзина, подчеркивал, что «отношения с Карамзиным чем далее, тем более становятся холодны и чужды <…> Разумеется, расхождения между ними были глубокие. Это нисколько не исключает и личных мотивов ссоры»7171
Тынянов Ю. Н. Безымянная любовь // Тынянов Ю. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 213–214.
[Закрыть].
Важным элементом заметного охлаждения исследователь считал эпизод с перехваченным любовным признанием Пушкина. Между тем подобный взгляд представляется односторонним. Весьма важно и любопытно, что легкоранимый, возбудимый Пушкин был совершенно обезоружен тонким и точным поведением уважаемых и любимых им людей. Согласно П. И. Бартеневу, «Катерина Андреевна, разумеется, показала (любовную записку) мужу. Оба расхохотались и, призвавши Пушкина, стали делать ему серьезные наставления. Все это было так смешно и дало Пушкину такой удобный случай ближе узнать Карамзиных, что с тех пор он их полюбил, и они сблизились»…
Самым же веским доказательством, что отношения отнюдь не прервались после объяснения весной 1817 года, являются постоянные дружеские контакты. Это очень хорошо видно по «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина». Сразу после окончания Лицея Пушкин переезжает в Петербург, затем отправляется в Михайловское, снова – в Петербург, в то время как Карамзины почти безвыездно находятся в Царском Селе. В конце же 1817 года, когда историограф с семьей возвращается в столицу, отношения легко и хорошо возобновляются. С 16 сентября 1817 года поэт постоянно бывает у старших друзей на их петербургской квартире. Именно в доме Карамзиных Пушкин «смертельно влюбился» в «пифию Голицыну», о чем хозяин не замедлил известить Вяземского.
В начале 1818 года общение прерывается длительной и тяжелой болезнью Пушкина. В это время, 2 февраля, публикуется объявление о выходе в свет восьми томов «Истории государства Российского». Пушкин позже признается, что читал «в постели, с жадностию и вниманием». О том, что он был в восторге, можно судить не только по его позднейшим воспоминаниям об этом событии, но и по стихам, написанным под свежим впечатлением (послание «Когда к мечтательному миру», о котором особая речь впереди).
Пушкин выздоравливает – и все сохранившиеся сведения свидетельствуют о близких, добрых, безоблачных отношениях с Карамзиным весной и летом 1818 года.
30 июня – 2 июля. Пушкин гостит у Карамзиных в Петергофе, на праздниках по случаю дня рождения великой княгини Александры Федоровны; 1 июля на катере по Финскому заливу катается примечательная компания: Карамзин, Жуковский, Александр Тургенев, Пушкин.
В этот период Пушкин пером рисует портрет Карамзина.
Середина июля. Пушкин опять в Петергофе, с Карамзиным, Жуковским и Тургеневым; пишется коллективное, к сожалению, не сохранившееся письмо Вяземскому.
2 сентября. Пушкин и Александр Тургенев гостят у Карамзина в Царском Селе. Тургенев жалуется Карамзину на образ жизни Пушкина. Точного смысла «жалобы» мы не знаем, но угадываем, что подобные сетования были в письме Тургенева Батюшкову; Батюшков же из Москвы отвечал «в карамзинском духе» 10 сентября 1818 года: «Не худо бы его (Пушкина) запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою… Как ни велик талант Сверчка, он его промотает, если… но да спасут его музы и молитвы наши!»
Тем не менее «выволочка» была, кажется, не слишком суровой, потому что 17 сентября Пушкин опять у Карамзиных в Царском Селе, на этот раз в компании с Жуковским.
В эту же пору Сверчок воюет за честь историографа, сражаясь в одном ряду с Вяземским и другими единомышленниками против Каченовского, и Карамзин не мог не оценить преданности юного поэта: как раз в сентябрьские дни 1818 года по рукам пошла эпиграмма, которой Пушкин «плюнул» в Каченовского («Бессмертною рукой раздавленный Зоил…»).
Итак, в сентябре 1818‐го отношения еще прекрасные.
22 сентября. Пушкин опять в Царском Селе с Жуковским и братьями Тургеневыми, Александром и Николаем. Карамзин читает им свою речь, которую должен произнести в торжественном собрании Российской академии («прекрасную речь», согласно оценке, сделанной А. И. Тургеневым в письме к Вяземскому). Декабрист же Николай Тургенев, восхищаясь в 1818 году многими страницами «Истории…», также искал и находил у Карамзина «пренечестивые рассуждения о самодержавии», подозревал историографа в стремлении «скрыть рабство подданных и укореняющийся деспотизм правительств»7272
См.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований. 1816–1825. М., 1975. С. 62–63.
[Закрыть].
Несколько раз происходят, как видно по дневникам и письмам Н. И. Тургенева, прямые его столкновения с Карамзиным из‐за вопроса о крепостном рабстве.
30 сентября – можно сказать, последний известный нам безоблачный день в отношениях историографа и поэта: Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву, что 7 октября думает переехать в город и «пить чай с Тургеневым, Жуковским и Пушкиным».
Действительно, с начала октября Карамзины поселяются в столице, в знакомом доме Екатерины Федоровны Муравьевой на Фонтанке. Это, можно сказать, одна из самых горячих точек Петербурга, где сходятся и сталкиваются могучие силы и сильные страсти. Дети хозяйки, Никита и Александр Муравьевы, члены тайных обществ, а Никита – один из главных умов декабристского движения. Среди родственников и постоянных гостей – братья Муравьевы-Апостолы, Николай Тургенев и другие «молодые якобинцы». Первая известная нам встреча названных лиц «у беспокойного Никиты» состоялась около 10 октября 1818 года. С того вечера из‐за того чайного стола к нам доносятся только две фразы, записанные Николаем Тургеневым: «„Мы на первой станции образованности“, – сказал я недавно молодому Пушкину. „Да, – отвечал он, – мы в Черной Грязи“».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































