Текст книги "«Сказать все…»: избранные статьи по русской истории, культуре и литературе XVIII–XX веков"
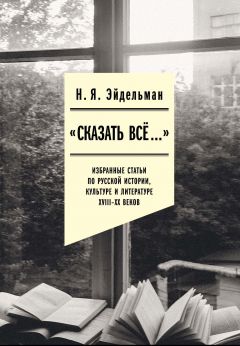
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Реплики произносятся при Карамзине; историограф, вероятно, с ним согласен и может оценить остроту молодого поэта: ведь Черная Грязь – первая станция по пути из Москвы в Петербург – одновременно некий символ. Однако согласие не могло быть прочным, как только начинался разговор о путях исправления, о том, куда и как отправляться с «первой станции»…
То ли на этом самом октябрьском вечере, то ли чуть позже, но между Пушкиным и Карамзиным что-то происходит. Ведь прежде переписка современников и другие данные свидетельствуют о постоянных встречах; имена Пушкина и Карамзина регулярно соединяются. Однако с октября 1818 года общение исчезает. Никаких сведений о чаепитиях, совместных поездках, чтении, обсуждении… Ничего. Только один раз, по поводу выздоровления Пушкина от злой горячки (8 июля 1819 года) Карамзин замечает: «Пушкин спасен музами».
Почти через год после охлаждения, в середине августа 1819-го, мелькает сообщение о поездке поэта в Царское Село, к Карамзину: «Обритый, из деревни, с шестою песнью («Руслана и Людмилы»), как бес мелькнул, хотел возвратиться (в Петербург) и исчез в темноте ночи как привидение».
Эти строки из письма А. И. Тургенева к Вяземскому ясно рисуют какой-то новый тип отношений: краткое появление у Карамзиных, из вежливости (очевидно, под давлением Тургенева), и стремление скорее исчезнуть.
Около 25 августа – еще краткий визит А. И. Тургенева и Пушкина к Карамзиным, откуда ночью они отправляются к Жуковскому в Павловск.
Затем опять никаких сведений о встречах, беседах; биографии Карамзина и Пушкина, можно сказать, движутся параллельно, не пересекаясь, и это длится до весны 1820-го, когда над Пушкиным нависает гроза.
Итак, полтора года отдаления после двух с половиной лет привязанности.
Что же случилось?
Вяземский много позже, в 1826 году, упрекнет Пушкина, что он – «шалун и грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов». Как видим, Вяземский, очень близкий и к Пушкину, и к Карамзину, прямо указывает на эпиграммы как событие, разделившее двух писателей (так и кажется, что «сорванцы и подлецы» – это не Вяземского слова, а кого-то другого, может быть, самого Карамзина). Пушкин 10 июля 1826 года отвечал Вяземскому известными строками, единственным прямым признанием насчет конфликта с Карамзиным:
«Коротенькое письмо твое огорчило меня по многим причинам. Во-первых, что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? довольно и одной, написанной мною в такое время, когда Карамзин меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу хладнокровно об этом вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены; ужели ты мне их приписываешь?» (XIII, 285)
Если буквально следовать пушкинскому письму, выходит, что Карамзин сначала его оскорбительно, несправедливо отстранил, и только затем была сочинена какая-то острая и ничуть не обидная эпиграмма, которая, очевидно, «не улучшила» отношений. Но главное – даже много лет спустя поэт не может «хладнокровно» вспомнить о том, что произошло, считает, что Карамзин не прав.
Из этого обмена письмами, а также по другим источникам можно заключить, что ссора, разлад, недоумение были связаны с причинами политическими (эпиграмма, «сорванцы» и т. п.). Во всем этом полезно разобраться.
«И прелести кнута…»Окончив Лицей и переехав в Петербург, Пушкин попадает в вулканическую атмосферу декабризма, в «поле притяжения» прежде всего такой могучей личности, как Николай Иванович Тургенев. Уже через несколько недель после своего переезда в столицу на квартире декабриста написана ода «Вольность». Вслед за тем сочиняется и быстро распространяется еще немалое число вольных стихов, эпиграмм, политических острот. Пушкин, можно сказать, выходит из-под влияния Карамзина, столь сильного в 1816–1818 годах; он попадает в среду, где историографа хоть и уважают, но спорят и спорят все более ожесточенно7373
Краткая сводка того, что говорилось и писалось декабристами в адрес историографа и его первых восьми томов именно в интересующее нас время (1817–1820 годах), см. в моей книге «Последний летописец». М., 1983. С. 104–111.
[Закрыть].
Пушкин, очевидец и участник этих споров, напишет о них замечательные мемуары. Однако это случится несколько лет спустя, можно сказать, в другую историческую эпоху. Непросто отделить то, что поэт думал о Карамзине в 1825–1826 годах и как понимал ситуацию в 1818–1820‐м; подчеркнем только, что пафос позднейших пушкинских Записок о Карамзине – в пользу историографа, против тех, кто не оценил, «не сказал спасибо», «не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина».
Напомним строки, посвященные декабристской критике, которые Пушкин довольно прозрачно адресует и самому себе:
«Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, – казались им верхом варварства и унижений. – Они забывали, что Карамзин печатал Историю свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностию историка, он везде ссылался на источники – чего же более требовать было от него? Повторяю, что История Государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.
Некоторые из людей светских письменно критиковали Карамзина. Никита Муравьев, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!.. Михаил Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян, т. е. требовал романа в истории – ново и смело! Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина. Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, конечно, были очень смешны. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни». (XII, 306)
Почти каждая фраза пушкинского рассказа сегодня подкрепляется документально. Давно замечена и двойственность пушкинской фразы об «одной из лучших русских эпиграмм»; фраза «мне приписали» как будто вступает в спор с теми, кто приписал, ввел в заблуждение общественное мнение и т. п. Однако двусмысленные слова – «не лучшая черта в моей жизни» – как будто намекают, что действительно Пушкин написал; да кому же еще написать «одну из лучших эпиграмм»? Лучшей из дошедших к нам, безусловно, является —
В его Истории изящность, простота
Доказывают нам без всякого пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута. (XVII, 16)
Хлесткой, нарочито несправедливой, но (как и положено в эпиграмме) заостряющей смысл является, собственно говоря, последняя строка.
Да, Карамзин говорил и писал о необходимости самовластья в историко-философском смысле, подразумевая, что самодержавие соответствует уровню развития и просвещения народа. Разумеется, он никогда не говорил о «прелести кнута» – да автор эпиграммы это отлично понимает, но сознательно доводит до некоторого абсурда исторический фатализм Карамзина.
Наиболее вероятно, что эпиграмма составлена под свежим впечатлением от первых восьми томов «Истории государства Российского», в том же 1818‐м, может быть, в 1819 году7474
Первая публикация сопровождалась датой «1819». См.: Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. 1861. С. 103; Томашевский Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина // Сб. Пушкин. Исследования и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 210–211.
[Закрыть].
Скорее всего, стихи были лишь одним из элементов обострявшихся политических споров, которые все больше и чаще переходили «на личности».
Поэт в позднейшие свои Записки внесет рассказ об одном из таких споров, когда отношения еще не расстроены, но историограф уже гневается; когда Пушкин в разговоре с Карамзиным, можно сказать, прозаически излагает «острую эпиграмму»:
«Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: Итак, вы рабство предпочитаете свободе. Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзину стало совестно и, прощаясь со мною как обыкновенно, упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности. Вы сегодня сказали на меня то, что ни Шихматов, ни Кутузов на меня не говорили. В течение 6-летнего знакомства только в этом случае упомянул он при мне о своих неприятелях, против которых не имел он, кажется, никакой злобы, не говоря уже о Шишкове, которого он просто полюбил». (XII, 306–307)
Мемуарный текст, кажется, очень многое объясняет в истории разлада.
Карамзин написан здесь с теплотою, сочувствием; Пушкин стремится подчеркнуть его правоту и благородство в споре; но в то же время с расстояния прожитых лет сожалеет о слишком резких своих замечаниях («рабство предпочитаете свободе» – это ведь «прелести кнута»!); здесь ни слова об охлаждении – наоборот, говорится о шестилетнем знакомстве (на самом деле меньше четырех лет, из которых последние полтора «омрачены»; однако ошибка Пушкина очень показательна: контакты были столь богаты и насыщены, что позже представлялись более длительными, чем были в действительности!).
О датировке запомнившегося Пушкину разговора (ясно, что поэт подразумевает определенный, а не «собирательный» диалог, ибо отмечает, что «только в этом случае» Карамзин упомянул о своих неприятелях) – о датировке специалисты размышляли и почти единодушно пришли к выводу, что беседа была после выхода «Истории государства Российского». Хотя Пушкин знакомился с ее фрагментами еще в 1816–1817 годах, но все же мог представить общую концепцию Карамзина только тогда, когда прочитал восемь томов «с жадностию и вниманием». Поскольку же с осени 1818 года отношения почти прерываются и Карамзин уже не станет извиняться «в своей горячности», надо думать, что разговор состоялся в 1818 году, во время одного из частых летних или осенних наездов бывшего лицеиста в Царское Село.
Исследуя вопрос об эпиграммах на Карамзина, В. В. Томашевский отметил и другую краткую пушкинскую запись (относящуюся примерно к тому же времени, что и эпиграмма), где, возражая Карамзину, поэт именует самодержавие беззаконием. (см. XII, 189)
Еще одна, две, три подобные стычки, и Карамзин, внешне сдержанный, отрицающий необходимость отвечать на критику, вспыхивает сильнее.
Сохранились сведения о том, как портились личные отношения историографа с другими довольно близкими людьми.
Мы не знаем, до каких пределов доходили прямые споры Карамзина с Никитой Муравьевым, но сам декабрист, перечитывавший в это время «Письма русского путешественника», оставил на полях книги весьма нелестные аттестации Карамзина7575
См.: Верещагина Е. И. Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на «Письмах русского путешественника» в 9-томном издании Сочинений Карамзина 1814 года // Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. М., 1981. Разбор полемики см. в моей книге «Последний летописец». С. 105–110.
[Закрыть]; жена Карамзина допускала, полушутя-полусерьезно, что, может статься, близкий родственник П. А. Вяземский тоже вскоре будет избегать встречи.
Горячие декабристские формулы и «любимые парадоксы» Карамзина – таков был исторический, психологический контекст разлада между умеренным Карамзиным и «красным либералом» Пушкиным. На фоне общих политических расхождений выглядели уже второстепенными, но, впрочем, для Карамзина закономерными «буйные шалости» поэта: 23 марта 1820 года Е. А. Карамзина писала Вяземскому, что «у г. Пушкина всякий день дуэли; слава богу, не смертоносные, так как противники остаются невредимыми». Даже в этих строках, вероятно, скрыта карамзинская ирония насчет несерьезности, неосновательности…
Пушкин же, огромными шагами идущий вперед, завершающий «Руслана и Людмилу», внутренне созревающий, чувствует себя уязвленным, обиженным; он не может и не хочет преодолеть «сердечной приверженности» к Карамзиным, но имеет основание считать, что историограф смотрит узко, односторонне.
Мы размышляли о причинах расхождения в первую очередь по текстам самого Пушкина, а также по общему характеру «карамзинско-декабристских» противоречий.
Очень многое объясняет задним числом и эпизод, завершающий целый период пушкинской биографии. История, восстанавливаемая гипотетически, по косвенным данным, но имеющая, полагаем, первостепенное значение: последняя встреча, последний прямой, непосредственный разговор Карамзина и Пушкина.
Весна 1820-гоВ середине апреля 1820 года Пушкин был вызван на известную беседу петербургским генерал-губернатором Милорадовичем. «Откровенный поступок с Милорадовичем» – целая тетрадь запретных стихов, которую поэт заполнил в кабинете хозяина столицы, и последующее прощение: все это как бы «репетиция» смелого ответа Николаю I в 1826 году – «я был бы на Сенатской площади…».
Милорадович хотя и объявил прощение, но, понятно, не окончательное, до царского подтверждения, Пушкин же, вернувшись от генерала, узнал от Чаадаева и других друзей о грозящей ссылке в Соловки.
Чаадаев, Жуковский, Александр Тургенев, наконец, сам Пушкин отправляются за помощью к влиятельнейшему из знакомых – Карамзину.
19 апреля 1820 года историк сообщает новости своему неизменному собеседнику Ивану Ивановичу Дмитриеву: «Над здешним Пушкиным если не туча, то по крайней мере облако и громоносное (это между нами)»; Карамзин вкратце напоминает, что провинившийся написал много запретных стихов, эпиграмм, и прибавляет важную подробность, относящуюся к острым беседам прошлых лет и охлаждению: «Я истощил способы образумить несчастного и предал его року и Немезиде»; однако «из жалости к таланту» он берется хлопотать, и тут-то следуют знаменательные строки: «Мне уже поздно учиться сердцу человеческому, иначе я мог бы похвалиться новым удовлетворением, что либерализм наших молодых людей совсем не есть геройство или великодушие».
Несколько позже Карамзин пишет Вяземскому в Варшаву:
«Пушкин, быв несколько дней совсем не в пиитическом страхе от своих стихов на свободу и некоторых эпиграмм, дал мне слово уняться и благополучно поехал в Крым месяцев на пять. Ему дали рублей 1000 на дорогу. Он был, кажется, тронут великодушием государя, действительно трогательным. Долго описывать подробности, но если Пушкин и теперь не исправится, то будет чертом еще до отбытия своего в ад. Увидим, какой эпилог напишет он к своей поэмке».
Позже, 7 июня 1820 года, Карамзин в очередном письме к Дмитриеву снова вспомнит о Пушкине: «Я просил об нем из жалости к таланту и молодости: авось будет рассудительнее; по крайней мере дал мне слово на два года».
Пушкин, придя к Карамзину, явно не мог скрыть своего страха, боязни Соловков, Сибири, так что Карамзин даже нашел немалое противоречие между прежней «левой решимостью», либерализмом, революционностью и нынешним упадком духа. В приведенных письмах историографа сквозит мысль, что вот-де меня и мне подобных «молодые якобинцы» высмеивают, подозревают в приверженности к рабству, – а как дело доходит до расправы, ищут спасения в мужестве и твердости именно старших и умеренных.
Содержание последней беседы Пушкина с Карамзиным как будто легко вычисляется: Пушкин «кается», просит о помощи; Карамзин берет с него слово уняться – и мы даже точно знаем, что поэт обещал два года ничего не писать против правительства…
Однако все это на поверхности и не затрагивает другой, куда более важной стороны этого примечательного разговора.
Даже если приглядеться к только что приведенной формуле – «по крайней мере дал мне слово на два года», то и она кое-что открывает в потаенной части беседы. Ведь в «официальном смысле» Карамзин должен был взять клятву с Пушкина вообще никогда не писать против власти. Смешно и невозможно представить, будто историограф сообщает царю про обещание на два года (два года спустя, выходит, Пушкину можно снова дерзить?). Ясно, что тональность разговора была не дидактической, а дружеской, снисходительной; Карамзин сказал нечто вроде того, что пусть Пушкин даст ему (и только ему) слово – хотя бы на два года, если иначе уж никак не может…
Проникнув благодаря одному намеку в самую интересную часть беседы, постараемся расслышать ее получше.
Пушкин во время своих будущих странствий по России (отнюдь не пятимесячных, как думал Карамзин, но многолетних) в 1820–1826 годах будет постоянно вспоминать о Карамзине с теплотой, дружбой, благодарностью, благоговением. Как будто не было двухлетнего почти разлада, ссоры, оскорбления.
Не вызывает никаких сомнений, что Карамзин и Пушкин во время последней встречи помирились, точнее, Пушкин вернулся душой: кризис отношений изжит, произошел катарсис…
Неужели все это только потому, что Карамзин помог, ходатайствовал перед графом Каподистрией, а также, очевидно, перед императрицей Марией Федоровной и Александром I? Разумеется, Пушкин, отзывчивый и благородный, навсегда сохранит теплые воспоминания о том, как Карамзин и другие друзья спасли от участи, которая могла привести к надлому и гибели.
Недавно было опубликовано воспоминание М. И. Муравьева-Апостола о высылке Пушкина, где рассказывается, что А. Тургенев хлопотал за Пушкина через Карамзина, М. А. Милорадовича, А. Ф. Орлова: «Я тогда был в Петербурге. Карамзин жил у тетушки Екатерины Федоровны (Муравьевой). Помню, как Александр Иванович Тургенев приезжал сообщать, как идет дело о смягчении приговора»7676
См.: Рабкина Н. А. Отчизны внемлем призыванье… М., 1976. С. 144.
[Закрыть].
Среди заступников поэта были также Жуковский, Чаадаев, Федор Глинка. Однако главной фигурой, способной переменить «царский гнев на милость», оставался Карамзин.
И все же одна только «физическая помощь», спасение от ареста и крепости еще не вызывали бы у поэта такой гаммы горячих, глубоких чувств к историку.
Как в 1817 году (когда возник казус с любовным посланием Екатерине Андреевне), Карамзин, очевидно, сумел теперь с Пушкиным поговорить.
Кроме наставлений и оригинальной просьбы – два года не ссориться с властями, – историограф коснулся очень важных для Пушкина вещей, и мы можем судить по крайней мере о трех элементах той знаменательной беседы в апреле 1820 года.
Во-первых, без всякого сомнения, были произнесены особенно лестные в устах Карамзина слова о таланте, который нужно развивать и беречь (этот мотив повторяется и в письмах к Дмитриеву).
Во-вторых, снова были «любимые парадоксы» Карамзина, известные нам, между прочим, по интересной, позднейшей записи К. С. Сербиновича:
«Довольно распространялись о мнениях молодых людей насчет самодержавия и вольнодумства, которое происходит с летами. Николай Михайлович вспомнил о чрезмерном вольнодумстве одного из близких знакомых в молодости его, так что некто почтенный муж, слушая его речи, сказал ему: „Молодой человек! Ты меня изумляешь своим безумием!“
Николай Михайлович два раза повторил это с заметной пылкостью. „Но, – прибавил он, – опыт жизни взял свое“».
Говоря это, Карамзин, вероятно, подразумевал, в частности, беседы с Пушкиным и в какой-то степени собственный опыт.
Карамзин в молодости не был столь радикален, как юный Пушкин, но все же пережил немалый период увлечений и надежд, когда начиналась Французская революция и победа разума, просвещения казалась близкой.
Позже, потрясенный крайностями якобинской диктатуры, Карамзин пришел к выводу: «Долго нам ждать того, чтобы люди перестали злодействовать и чтобы дурачества вышли из моды на земном шаре», наконец, печально восклицал (и эти слова были полвека спустя оценены столь отличающимся от Карамзина мыслителем, как Герцен): «Век просвещения! Я не узнаю тебя – в крови и пламени не узнаю тебя!»
Ни в коей мере не утверждая, будто именно эти примеры были приведены в последнем разговоре с Пушкиным, можно не сомневаться, что они в той или иной степени подразумевались; что, демонстрируя свой опыт, Карамзин создал обстановку разговора на равных, столь привычную по первым царскосельским встречам 1816–1817 годов. Нет никаких сомнений, что Карамзин не пытался лицемерить с юным проницательным гением; не старался идеализировать русскую действительность, которую собирались коренным образом переменить декабристы и о чем горячо писал бунтующий Пушкин. И положение крестьян, и самовластие, и военные поселения, и «подлость верхов» – обо всем этом Карамзин говорил в те годы не раз, в том числе с самим царем; он хорошо знал, сколь взрывчата российская реальность.
Много лет спустя одну фразу Карамзина, которую не найти в его сочинениях и письмах, Пушкин поставил эпиграфом к своей статье «Александр Радищев»: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице»7777
Перевод Вяземского. См.: Вацуро В. Подвиг честного человека. С. 105.
[Закрыть]. Эпиграф сопровождался ссылкой – «слова Карамзина в 1819 году».
Карамзин действительно мог произнести эти слова в спорах 1819 года, которые развели его с Пушкиным; однако мы вправе предположить, что именно эти слова (или, шире говоря, именно эта мысль) были лейтмотивом последней беседы с Пушкиным. Как известно, смысл этой фразы отнюдь не в том, что порядочному человеку должно избегать опасностей, беречь себя и т. п.; Карамзин хотел сказать (речь шла, разумеется, не о тиранических режимах, но о сколько-нибудь просвещенных), что, если честного человека тащат к виселице, значит, он не использовал законных, естественных форм сопротивления, изменил самому себе…
Пушкин далеко не сразу воспримет эти идеи; мы хорошо знаем, что в первые годы ссылки он еще отнюдь не «исправился», – но, может быть, его потряс не столько буквальный смысл карамзинских слов, сколько их дух, тональность… Позже, когда Пушкин своим путем, своим разумением придет к сходным мыслям, завещание Карамзина (а ведь разговор 1820 года, по существу, и был завещанием!) будет оценено с двойной, тройной силой и значение последней беседы будет все возрастать.
Мы можем также догадываться и о роли Екатерины Андреевны в той апрельской встрече 1820 года, о каком-то ее прощальном напутствии, которое, по-видимому, сильно утешило Пушкина и облегчило поэту прощание со столь милым, привычным петербургским миром.
Сложные перипетии, взлеты, падения, новые взлеты карамзинско-пушкинских отношений – все это отразилось в истории одного замечательного стихотворения, где опять находим поэтические мемуары Пушкина о Карамзине и его круге.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































