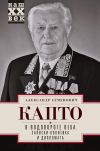Текст книги "Воспоминания дипломата"

Автор книги: Николай Новиков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
После произнесения присяги Рузвельт садится перед столом, уставленным микрофонами радиовещательных станций, и слегка дрожащим голосом, в котором чувствуется только что испытанное физическое напряжение, зачитывает традиционное обращение к американскому народу. Исполнение оркестром государственного гимна завершает инаугурацию.
После того как вновь «коронованный» президент и его свита с вынужденной медлительностью покинули балкон южного портика, сотни привилегированных зрителей, с пригласительными билетами в карманах, устремились в гардероб южного входа, в «особняк исполнительной власти». Устремились с шумом и необыкновенной прытью, нимало не заботясь о соблюдении внешнего достоинства.
Набравшись терпения и выждав момент, когда напор стихии в гардеробной ослаб, я кое-как пристроил свое пальто на крючок поверх четырех-пяти чужих и прошел в обширный холл, откуда открывался доступ в так называемую Восточную комнату – великолепный парадный зал – и в парадную столовую, предназначенную для государственных банкетов. В холле я стал в длиннейшую очередь гостей, выстроившихся для того, чтобы приветствовать «первую леди страны» миссис Элеонору Рузвельт. Вопреки законам гостеприимства, хозяйка дома принимала гостей одна, ибо хозяин дома, утомленный церемонией, выступать в этой роли не мог.
Он сидел в кресле, в некотором отдалении от входа в холл, полуокруженный заслоном из телохранителей и ближайших помощников. К нему никого не подпускали – об этом каждого из нас предупредили заранее. По временам он приветственно взмахивал рукой, считая нужным особо выделить кого-либо из стоявших в очереди.
«Первая леди», не по годам статная, энергичная дама, самоотверженно несла вахту гостеприимства, пожимая сотни рук, бегло отвечая на приветствия и иногда ухитряясь даже обменяться с кем-нибудь парой реплик. Когда подошла моя очередь и стоявший рядом с миссис Рузвельт дворецкий, вполголоса спросив у меня о моей фамилии и дипломатическом статусе, представил меня ей, она экспансивно воскликнула: «О, новое лицо в Вашингтоне! Счастлива встретиться с вами, мистер Новиков!» Разумеется, ее возглас был не более чем аффектированной данью светскому этикету, расточаемой ею и всем остальным гостям. Данью, которую в порядке взаимности уплатил и я сам, правда согрев ее нелицемерной теплотой тона: ведь я был достаточно осведомлен об общественной и публицистической деятельности миссис Рузвельт, отмеченной печатью демократичности и дружественного отношения к нашей стране.
Отойдя от миссис Рузвельт, я, в отличие от большинства приглашенных, не ринулся к буфетным столам, а решил воспользоваться представившимся мне удобным случаем осмотреть Белый дом изнутри. С этой целью двинулся в неторопливый поход по роскошным парадным комнатам первого этажа – Восточной, Красной, Зеленой и Синей.
Возвратившись в Восточную комнату и осторожно лавируя между группками уже позавтракавших и оживленно беседовавших гостей, я неожиданно наткнулся на помощника государственного секретаря Дина Ачесона, разговаривавшего с пожилым, седоватым мужчиной.
– Вы очень кстати появились, мистер Новиков, – поздоровавшись со мной, промолвил Ачесон. – Разрешите познакомить вас с вашим коллегой по дипкорпусу мистером Урбаном, с которым у вас, наверное, найдутся общие темы.
Седоватый мужчина был чехословацким послом. На первых порах мы втроем обменивались оптимистическими комментариями о мощном январском наступлении Красной Армии. Затем Ачесон оставил нас вдвоем, и тогда мы с Урбаном коснулись действительно общих для нас актуальных чехословацких тем.
Вскоре к нам присоединился мексиканский посол – он же дуайен дипкорпуса – Франсиско Нахера. Урбан отрекомендовал нас друг другу. Узнав о том, что перед ним представитель советского посольства, мексиканец не мог не коснуться тогдашних сенсационных новостей с советско-германского фронта. «Ваша армия буквально спасла англичан от разгрома! В дипкорпусе подсчитывают недели, остающиеся до падения Берлина» – так заключил свои комплименты дуайен. Я слушал его с естественным чувством гордости за свою великую Родину и ее победоносную армию.
Покинул я Белый дом, приобретя трех новых знакомых – миссис Рузвельт и двух членов дипкорпуса. А что касается «легкого завтрака», то я его все-таки отведал, когда толчея у буфетных столов поубавилась.
В своем дневнике за 24 января я отметил факт посещения Белого дома такой краткой записью:
«20 января присутствовал на инаугурации президента Рузвельта. Это редкостный случай. Во-первых, она бывает раз в четыре года; во-вторых, это четвертое «коронование» Рузвельта, причем наверняка последнее. После инаугурации в Белом доме состоялся завтрак, пожалуй самый скромный из всех званых завтраков, на которых мне приходилось бывать: цыплячий салат, чашка кофе и кусочек кекса. Но все же это был «президентский» завтрак».
* * *
С течением времени сотрудники посольства свыклись с тем, что во главе его стоит новое лицо. Сам я, повседневно общаясь с коллективом, все более и более сближался с ним, постепенно завоевывая его доверие. Между прочим, несмотря на окончание Крымской конференции, Громыко в феврале так и не возвратился в Вашингтон.
Во второй половине января и в феврале мне довольно часто приходилось встречаться с американскими официальными лицами, представителями общественности и с аккредитованными в Вашингтоне иностранными дипломатами, от которых я начал получать приглашения на приемы.
В феврале я нанес еще один визит в Белый дом – на этот раз юридическому советнику президента судье Розенману. В его более чем скромном кабинете, в личной канцелярии президента, я обсуждал с ним (по поручению наркома) ряд вопросов, связанных с предстоящим вскоре созывом конференции Объединенных Наций, которая должна была учредить Международный военный трибунал для суда над германскими военными преступниками и разработать его Устав.
В конце этого же месяца я встретился (по новому заданию НКИД) с министром финансов США Генри Моргентау, крупным банкиром и давним сотрудником Рузвельта по осуществлению «нового курса». Он был из числа тех членов кабинета, деятельность которых не замыкалась в узковедомственные рамки и которые принимали активное участие в формировании как внутренней, так и внешней политики правительства. Он принял меня в импозантном здании казначейства (так в США именуется министерство финансов), расположенном в непосредственном соседстве с Белым домом. Чисто деловая часть моего визита заняла минут 10–15, но после этого мы еще столько же времени посвятили обмену мнениями по поводу опубликованных 13 февраля решений Крымской конференции.
Должен сказать, что эти решения по актуальнейшим проблемам того периода были, наряду с фронтовыми сводками, как бы лейтмотивом и других моих бесед с иностранными собеседниками. Теперь их было у меня немало и среди членов дипкорпуса, и среди членов конгресса, с которыми меня знакомили на приемах, и среди представителей прогрессивной общественности.
Приближалась XXVII годовщина Красной Армии, и посольство готовилось достойно отпраздновать ее. В 1945 году эта годовщина совпадала с продолжающимся с 12 января победоносным наступлением наших Вооруженных Сил.
Приглашения на традиционный прием по случаю годовщины Красной Армии рассылались не только от имени поверенного в делах, но и от имени военного атташе полковника Сараева и военно-морского атташе капитана Скрягина.
В подготовке к приему были заняты на протяжении нескольких дней многие сотрудники посольства, но основная тяжесть ответственности за нее ложилась на А. Н. Капустина.
За четверть часа до начала приема все наши сотрудники были на своих местах в вестибюле и парадных залах посольства. На своих местах в холле второго этажа находились и шестеро хозяев приема – я, оба атташе и рядом с нами наши супруги. Я стоял первым в ряду встречающих, а возле меня, слева, чуть позади, находился дворецкий – специально нанимаемый служитель, неизменно присутствующий на всех больших приемах в столице и потому знающий «весь Вашингтон». Он тихонько подсказывает хозяину приема фамилию и общественное положение или звание приближающегося гостя, после чего того можно приветствовать уже по фамилии и званию. Взаимные приветствия на таких массовых приемах неизбежно крайне лаконичны, а разговоры между хозяином и гостем в этот момент вообще невозможны.
И вот по широкой парадной лестнице поднялись первые двое гостей, а за ними просматривалась реденькая цепочка других. Дворецкий представлял их нам, мы поочередно пожимали им руки, произносили не блещущие разнообразием слова приветствий и тут же обращались к вновь подходящим посетителям. Их реденькая цепочка очень быстро превратилась в сплошной поток, непрерывно текущий вверх из вестибюля. Теперь мы едва успевали здороваться, чтобы не задерживать нарастающий поток. Он был густо прослоен военными, многие из них красовались в генеральских и адмиральских мундирах. Когда дворецкий называл мне фамилии членов правительства, «трех-звездных» генералов и послов, процедура обмена приветствиями несколько удлинялась и становилась изощренней, что неизбежно вело к тому, что ждущие своей очереди нетерпеливо переминались с ноги на ногу.
Из холла гости направлялись в залы, где заботу о них брали на себя советник Капустин, секретари посольства Орехов, Кудрявцев, Павлов и Хомянин и пятеро младших дипломатических сотрудников, владевших английским языком. Они приглашали гостей к столам, занимали беседой тех, кто еще не нашел собеседников по собственному выбору. А нам, шестерым, полагалось стоять на вахте до тех пор, пока мы не пожмем руки всей тысяче с лишним приглашенных.
Тысяча гостей – это множество, но не бесконечное. Настала наконец минута, когда поток посетителей начал оскудевать, а затем по опустевшей лестнице поднимались уже только запоздалые одиночки. Для нас это был как бы сигнал к окончанию довольно-таки нудной вахты. Оставив в холле на дежурстве одного из секретарей, мы двинулись в гудящие, словно пчелиный улей, залы.
Нас с женой заприметили с первых же наших шагов. Некоторые из гостей пытались компенсировать вынужденно скупые приветствия в холле пространными поздравлениями в связи с успехами Красной Армии. Настоящим панегириком на эту тему разразился коренастый и неулыбчивый министр внутренних дел Гарольд Икес. Нашлось немало охотников произносить тосты за скорую победу в Европе, предлагая нам выпить с ними. В двух случаях я выпил по рюмке коктейля, но в дальнейшем позволял себе только пригубить бокал с шампанским – слишком уж много было тостов.
Неторопливо, с остановками, мы с женой передвигались по гостиной, то обмениваясь с гостями парой реплик, то вступая в беглый разговор. Сравнительно надолго мы задержались возле группы из трех человек, знакомых мне по встречам на приемах у коллег по дипкорпусу.
Один из них – пожилой, низкорослый, почти карлик, с длинным мясистым носом, увенчанным старомодным пенсне в металлической оправе, – был председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса профессор Соломон Блум. Рядом с ним стояла его дочь – дама неопределенного возраста, крикливо одетая. Отец и дочь были популярны в столице и за ее пределами: он – как один из влиятельных деятелей демократической партии и палаты представителей, а она – как журналистка. Широко известна она была и как пламенная почитательница Бенито Муссолини.
Знал я и третьего собеседника. Это был твердолобый английский консерватор лорд Ирвин, более известный как Эдвард Галифакс, в недавнем прошлом министр иностранных дел его британского величества и один из творцов зловещей «мюнхенской» политики, а ныне посол в Вашингтоне. Куря сигарету, он рассеянно стряхивал пепел с нее на пиджак и брюки. Вообще, вид у него был – для сиятельного лорда – очень непрезентабельный. Галстук-бабочка торчал на воротничке криво, на рукаве виднелось пятно от пролитого вина, к которому прилипли крошки торта.
Подойдя к группе, я шутливо спросил:
– Надеюсь, мы с женой не нарушим гармонии вашего трио?
– Наоборот, мистер Новиков, вместе с вами и миссис Новиков, квинтетом, мы сделаем ее еще богаче, – шуткой же ответил конгрессмен, а его дочь не без лукавства добавила:
– Мистер Галифакс только что начал описывать свою одиссею по нашей стране. Кажется, для него это был очень увлекательный опыт.
– Уж куда увлекательнее, – хмуро пробормотал флегматичный лорд и возобновил прерванный рассказ.
Речь в нем шла о его турне в декабре 1943 года по городам Среднего Запада. Турне носило пропагандистский характер и должно было по замыслу английского посольства скрепить узы союзнической солидарности между Великобританией и США. Но, подумалось мне в этом месте рассказа, вряд ли можно было сыскать для этой цели более неподходящего оратора, чем Эдвард Галифакс, чья «мюнхенская» репутация не была закрытой книгой для среднего американца. Это обстоятельство полностью подтвердили ламентации посла о холодности и даже неприязненности, проявленных слушателями на митингах, где он выступал.
– У ваших соотечественников, – говорил он, обращаясь к Блумам, – я далеко не всегда обнаруживал понимание того фундаментального факта, что мы, ваши британские кузены, уже два года подряд воевали бок о бок с вами против нашего общего врага. – В тоне его голоса ощущались обида и возмущение. – Многие из моих слушателей не скрывали своего убеждения, что мы, британцы, чуть ли не вставляем палки в колеса союзнической военной машины.
– Но чего вы хотите от провинциальной публики, – примирительно произнес Соломон Блум. – Мудрость тамошних доморощенных политиков не идет далее того, что они вычитывают из газет. А некоторые наши газетенки, не буду этого отрицать, зачастую разжигали враждебность к Англии.
– Вы абсолютно правы, – согласился посол. – И это сказалось не только в отношении страны, которую я представляю, но и меня лично. Да, да, лично. Во время выступлений я неоднократно слышал выкрики о себе весьма… да, весьма неприятного свойства. Точнее, даже совсем неприличные. А в Детройте мне устроили форменную обструкцию. Мало того, что в зале поднялся шум, так еще, представьте, меня забросали помидорами и яйцами.
– Какой скандал! – потрясенно воскликнула мисс Блум. – И вы, конечно, тут же демонстративно покинули митинг?
– Нет, не сразу, – с кислой улыбкой возразил незадачливый оратор. – У меня хватило присутствия духа парировать эти безобразные выходки. Я указал на разбитые яйца – одно из них угодило мне в грудь, а другое в коленную чашечку – и заметил: «Завидую американцам, которые могут позволить себе роскошь швыряться столь важными продуктами. У нас в Англии их ценят на вес золота и весьма скупо распределяют по карточкам».
Признаюсь, что, слушая повествование бывшего министра иностранных дел, я не испытывал к нему сочувствия – слишком уж одиозной фигурой выглядел в моих глазах этот человек. Но я не мог остаться равнодушным к самому факту хулиганских выходок по отношению к представителю другой страны, обладавшему дипломатическим иммунитетом. Я высказал соответствующие соображения на этот счет, адресуя их председателю комитета по иностранным делам. Но Соломон Блум с невозмутимым видом взглянул на Галифакса.
– Насколько мне помнится, ваше превосходительство, государственный департамент принес вам тогда свои извинения.
– Да, конечно, – флегматично кивнул Галифакс. – Только это не значит, что инциденты подобного порядка тем самым исчерпываются.
На это конгрессмен лишь пожал плечами.
Нашему «квинтету» не суждено было существовать дольше. К нам подошло несколько гостей, чтобы распрощаться со мной и моей женой. Тотчас же распрощалось и все «трио». Мы поспешили на свой пост в холле, где уже снова несли вахту Сараевы и Скрягины. Наша заключительная хозяйская обязанность была облегчена тем, что многие гости ушли «по-английски», не прощаясь. Тем не менее на пожимание рук задержавшихся ушло еще добрых полчаса.
Это был второй массовый прием, устроенный мною. Первый состоялся в Каире в XXVI годовщину Красной Армии, собрав тогда около 300 гостей. Теперь их было более тысячи. Но как выяснилось позже, уже в мае, «более тысячи» – это тоже еще не предел, когда для такого грандиозного приема имеются достаточно веские поводы.
3. Последние месяцы войны
8 марта в Вашингтон после длительного отсутствия вернулся Громыко.
На беседу о наиболее существенных вопросах, решенных посольством в его отсутствие, мне и Громыко понадобилось около часа и примерно столько же на мои расспросы о ходе конференции в Ялте, о московских и наркоминдельских новостях и т. п. Против обыкновения на сей раз посол не прибегал к своему жесткому лаконизму. Вообще его отношение ко мне изменилось к лучшему, не потеряв, правда, официального характера.
В первых числах апреля Громыко дал завтрак в честь трех представителей госдепартамента, вместе с которыми ему предстояло участвовать в конференции Объединенных Наций в Сан-Франциско. С одним из них – государственным секретарем Эдвардом Стеттиниусом я свел знакомство еще в январе, с двумя другими – Уильямом Клейтоном и Олджером Хиссом встретился впервые.
Помощник государственного секретаря У. Клейтон был довольно значительной фигурой, представляя в госдепартаменте монополистические группы южных штатов.
В отличие от Клейтона Олджер Хисс был профессиональным дипломатом. В госдепартаменте он работал с 1936 года, занимая в последние годы должность заместителя директора канцелярии по специальным делам. Он участвовал в переговорах в Думбартон-Оксе, как эксперт присутствовал на Крымской конференции.
Во время завтраков Хисс держался очень непринужденно, остроумно рассказывал занятные истории из дипломатического фольклора и оставил бы о себе впечатление как о приятном собеседнике, если бы не допустил промаха, непростительного для опытного дипломата. Так, в разговоре о предстоящей конференции в Сан-Франциско он неожиданно позволил себе несколько критических замечаний о советской дипломатии, основываясь на собственных наблюдениях, в том числе во время переговоров в Думбартон-Оксе. Свои замечания он резюмировал так:
– В общем, странные дипломаты эти русские. Они выкладывают напрямик свои максималистские предложения и потом упорно цепляются за них как за единственный и возможный выход. Им определенно не хватает гибкости и маневренности.
Явная бестактность гостя вызвала за столом некоторое замешательство. Громыко нахмурился, приняв, судя по всему, слова Хисса на свой счет. Я же понял их шире, как суждение о советской дипломатии в целом и решил не оставлять их без отпора.
– Прелюбопытные откровения преподнесли вы нам, мистер Хисс, – сказал я. – С такими дипломатами, как вы их изобразили, наверняка никогда каши не сваришь. А как, по-вашему, эти странные русские и в Ялте придерживались такой же странной тактики?
– Боже упаси! – с осуждением в голосе опередил ответ Хисса Стеттиниус. – Ялта стала высшей академией дипломатии и продемонстрировала нам лучшие образцы разумных компромиссов по самым трудным проблемам. Я не могу не восхищаться широтой взглядов Сталина и его дипломатической гибкостью.
Досадный инцидент был этим закрыт. А сконфузившийся Хисс до самого ухода так и не обрел вновь своей живости и непринужденности.
Я не мог понять, что толкнуло его в тот день на столь, мягко выражаясь, легковесное суждение о советской дипломатии, не говоря уже об его неуместности за столом советского посольства. Ведь в других случаях – а я встречался с ним и впоследствии – он был примером корректности и благожелательности, и так считал не только я. Но еще более непонятное было впереди…
В начале 1947 года преуспевающий дипломат Олджер Хисс добровольно оставил службу в госдепартаменте и занял пост президента Фонда Карнеги, должность не столько почетную, сколько высокооплачиваемую. А в 1948 году, когда в США свирепствовал маккартизм, он, к всеобщему недоумению, пал одной из первых ее жертв. Пресловутая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности обвинила его ни много ни мало в шпионаже в период работы в госдепартаменте. Несмотря на всю голословность подобного обвинения, несмотря на то, что сфабрикованные Федеральным бюро расследования «документы» были на суде признаны фальшивками, после длительной судебной волокиты Олджер Хисс был выпущен только в 1954 году с опороченной репутацией, что навсегда закрыло для него двери правительственных учреждений и деловых организаций.
* * *
9 апреля в Вашингтоне открылась сессия Комитета юристов Объединенных Наций, в компетенцию которого входила разработка проекта статуса будущего Международного суда ООН для последующего рассмотрения его в Сан-Франциско. В работе комитета приняла участие советская делегация в составе двух специалистов по вопросам международного права профессоров С. А. Голунского и С. Б. Крылова и представителя посольства в моем лице. Возглавлять делегацию В. М. Молотов поручил мне, поставив тем самым передо мною нелегкую задачу, ибо интересоваться проблемой Международного суда мне до сих пор не приходилось. За несколько дней до открытия сессии пришлось тщательно проштудировать вместе с обоими экспертами предварительные наметки проекта статута и всю относящуюся к ним документацию. От Наркоминдела я получил официальные указания о советской позиции по отдельным вопросам сессии и продолжал получать их в ходе сессии. Протекала она без особых осложнений и закончилась 17 апреля выработкой проекта, который был окончательно обсужден в Сан-Франциско и 24 октября 1945 года вступил в силу.
На меня возлагалось все более и более заданий по связи с госдепартаментом, дипкорпусом и общественностью и по внутренним вопросам посольства. Фактически я выполнял, за небольшим исключением, те же обязанности, что лежали на мне, как Поверенном в делах. Новый порядок, естественно, предопределял не только полное и своевременное ознакомление со всей перепиской посольства с НКИД, но и мое личное участие в ней.
Знакомился я неукоснительно и с совершенно секретными посланиями И. В. Сталина президенту Ф. Рузвельту.
В апреле 1945 года в этой переписке наряду с согласием по многим актуальным вопросам наметились и крупные разногласия по некоторым другим. Важнейшим среди них был вопрос о составе будущего Польского правительства национального единства.
Британский премьер-министр и поддерживающий его позицию Рузвельт добивались, в обход решений Крымской конференции, создания такого правительства, в котором большую или даже ведущую роль играли бы представители реакционных сил, исконно враждебных Советскому Союзу. Отвергая эти неблаговидные поползновения, Сталин решительно настаивал на том, чтобы Правительство национального единства было создано на основе уже существующего в Варшаве Временного правительства с включением в него нескольких деятелей из числа находящихся в Польше и Лондоне. Такой состав правительства обеспечивал бы дружественную политику Польши в отношении СССР, что имело бы громадное значение в условиях продолжающихся военных действий. Однако ни Рузвельт, ни Черчилль не считались с веско аргументированной позицией Советского правительства, и согласие в этом вопросе весной 1945 года так и не было достигнуто, вследствие чего он еще в течение долгого времени отравлял отношения между союзниками.
В тот же период возник и другой серьезный повод для трений – в виде начавшихся в Берне сепаратных переговоров между представителями западных союзников и командованием вермахта в Северной Италии. Отказ союзников допустить к участию в этих переговорах представителей советского командования, естественно, не мог не вызвать у советской стороны подозрений в нарушении союзнической солидарности, и Сталин в недвусмысленной форме их высказал. Неубедительные заверения Рузвельта в том, что никаких сепаратных переговоров в Берне не велось, не смогли рассеять этих подозрений. В переписке явственно зазвучала нота недоверия. В пылу этой полемики Сталин привел в послании от 7 апреля факт провокационной дезинформации американской военной разведки, сообщившей в феврале 1945 года советскому командованию дезориентирующие сведения о готовящемся немецком наступлении в районе Моравска Острава (в Чехословакии). В действительности же, как показали события, крупная группировка вермахта в составе 35 дивизий, в том числе 11 танковых, была сконцентрирована в Венгрии в районе озера Балатон. Именно здесь вермахт и нанес, по выражению Сталина, «один из самых серьезных ударов за время войны, с такой большой концентрацией танковых сил». Не прими тогда советское командование должных мер к отражению угрозы, этот удар вполне мог бы привести к прорыву советской обороны, с далеко идущими последствиями.
Затянувшаяся и бросавшая тень на правительства США и Великобритании горячая полемика вокруг сепаратных переговоров в Швейцарии основательно осложняла отношения между державами коалиции, и без того испорченные из-за разногласий по польскому вопросу. Поэтому, поставленный перед лицом упрямых фактов и неопровержимых доводов, Рузвельт счел благоразумным свернуть ее. В послании, полученном в Москве 13 апреля, он, дипломатично уклонившись от новых бездоказательных заверений, в примирительном духе ответил:
«Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.
Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».
Это было последним посланием президента: 12 апреля Рузвельт умер.
Высказывая в связи с его кончиной соболезнование, адресованное новому президенту США Гарри Трумэну, И. В. Сталин высоко оценил личность покойного, сделавшего так много для успеха антигитлеровской коалиции.
«От имени Советского Правительства и от себя лично, – писал он 13 апреля, – выражаю глубокое соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины Президента Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности после войны.
Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь».
Это послание не было просто выражением сочувствия. Еще большее значение оно имело как призыв к новому президенту продолжать оправдавший себя курс своего предшественника на плодотворное сотрудничество между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
* * *
О кончине Рузвельта я узнал из экстренного сообщения по радио. Нетрудно представить, какой вихрь мыслей и чувств вызвал у меня факт смерти выдающегося американца, столько лет стоявшего у штурвала американского государственного корабля.
В этот день и в последующие дни в посольстве у нас только и разговоров было что о вероятных последствиях смены власти в США, оказавшейся в руках Гарри Трумэна, политического деятеля совершенно иного склада и масштаба, чем его предшественник на посту президента.
На первом плане эта тема фигурировала в прессе и радиовещании. В лавине сообщений и комментариев можно было встретить наряду с искренним выражением печали и сочувствия плохо завуалированные, а то и вовсе откровенные нотки радости и злорадства. Это напоминала о своих заветных чаяниях злейшая американская реакция, до поры до времени сдерживаемая твердой рукой Рузвельта.
15 апреля тело покойного президента было с подобающими почестями предано земле в фамильной усадьбе Рузвельтов в штате Нью-Йорк. А на следующий день со своей первой речью в качестве президента на совместном заседании обеих палат конгресса выступил Гарри Трумэн. В этой речи, в изобилии начиненной ханжеским баптистским благочестием, он остановился на ключевых моментах своей будущей внутренней и внешней политики, которая, по его словам, будет следовать политическим принципам Рузвельта. Но в то же время в программе богобоязненного президента прозвучала и претензия на мировое господство США, слегка прикрытая фиговым листком «руководства»:
«Мы добились ведущей роли в мире, которая зависит не только от нашей военной и морской мощи… – вещал он с трибуны конгресса. – Америка вполне сможет вести человечество к миру и процветанию».
Так была сделана первая заявка на мировое господство, предопределявшая на годы вперед внешнюю политику США.
* * *
Сигнал, раздавшийся с высокой трибуны, был услышан во всем мире. Не осталось к нему глухим и Советское правительство. Требовалось без промедления уточнить, в какой мере и в каком направлении политика нового президента может отразиться на советско-американских отношениях и на решении задач дальнейшего ведения войны и мирного урегулирования.
В воскресенье 22 апреля в Вашингтоне, по дороге в Сан-Франциско, остановился В. М. Молотов, глава советской делегации на конференции Объединенных Наций.
Первоначально главой делегации был назначен Громыко. Однако Рузвельт в своем послании от 25 марта выразил «глубокое разочарование» в связи с тем, что г-н Молотов, по-видимому, не предполагает присутствовать на конференции». В конце послания он высказал еще и опасение, что «отсутствие г-на Молотова будет истолковано во всем мире как признак отсутствия должного интереса со стороны Советского Правительства к великим задачам этой конференции».
Отвечая в то время Рузвельту, И. В. Сталин заверил его, что Советское правительство придает важное значение конференции в Сан-Франциско, но что Молотов, к сожалению, не сможет принять в ней участие, ибо в апреле состоится сессия Верховного Совета СССР, где его присутствие совершенно необходимо.
В новой ситуации, сложившейся в результате смерти Рузвельта и прихода к власти Трумэна, вопрос этот был Советским правительством пересмотрен и решен в пользу поездки в Сан-Франциско В. М. Молотова с заездом в Вашингтон для переговоров с Трумэном.
Краткое пребывание В. М. Молотова в Вашингтоне было целиком посвящено двум его встречам с президентом Г. Трумэном и совещанию 23 апреля с Э. Стеттиниусом и английским министром иностранных дел А. Иденом, также заехавшим в американскую столицу по дороге в Сан-Франциско.
Беседы Молотова с Трумэном касались коренных вопросов советско-американских отношений и ряда других проблем, в том числе злополучной проблемы о составе Польского правительства национального единства. Важная сама по себе, она играла как бы роль барометра в отношениях между Советским Союзом и союзными западными державами. И в ходе переговоров Молотова с Трумэном, как и в предшествующем обмене посланиями между Рузвельтом и Сталиным, этот барометр показал, что польский вопрос становится подлинным камнем преткновения для сотрудничества держав антигитлеровской коалиции. Памятная записка, которую при второй встрече Трумэн передал Молотову для Сталина, по своему тону носила почти ультимативный характер. «Советское Правительство, – говорилось в ней, – должно понять, что если дело с осуществлением крымского решения о Польше теперь не двинется вперед, то это серьезно подорвет веру в единство трех Правительств и в их решимость продолжать сотрудничество в будущем, как они это делали в прошлом».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.