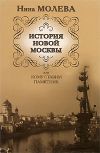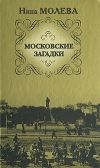Текст книги "Тайны земли Московской"

Автор книги: Нина Молева
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Официальные историки в XIX веке, захлебываясь восторгом, рассказывали о царских милостях, осыпавших Пожарского: звание боярина, земли, богатые подарки. Буква документа – относительно нее все представлялось правильно. Но были другие документы, существовало сравнение, и оно-то вело к прямо противоположным выводам. Кто только не получил тогда боярского звания – и те, кто сражался вместе с Пожарским, и кто сражался против него, и кто ограничился плетением дворцовых интриг, не коснувшись за все Смутное время оружия. Сельцо под Рязанью, данное Пожарскому, по его собственным словам, «за кровь и за очищение Московское», – какой же ничтожной малостью смотрится оно рядом с целыми областями, передававшимися другим боярам. Подарки – они и вовсе выглядели скупыми: шуба, серебряный кубок…

Посольский приказ. 1591 г. (Рисунок).
Еще не кончилась борьба с интервентами, еще то там, то здесь появляются на Русской земле их отряды, но в царском окружении, как по тайному сговору, никто не вспоминает о заслугах Пожарского. Наоборот – бояре словно торопятся поставить его на свое место, место «худородного», незнатного, небогатого. Так им кажется спокойнее, надежнее.
Дела о местничестве – сложнейшие счеты дворян между собой о родовитости, знатности, а значит, и месте, которое один мог занять относительно другого. «Вместно ли» – вопрос, которым постоянно задавались все, кто находился на царской службе. Вместно ли – не унизительно для собственного достоинства сесть на пиру рядом с таким-то и «ниже» такого-то, можно ли принять назначение – а вдруг занимает или занимало подобную должность лицо «худшего» происхождения, и так без конца. Так вот, всем оказывается невместно быть рядом с Пожарским: одним – чтобы служить, другим – чтобы видеть своих сыновей рядом с его сыновьями, пусть и на самом обыкновенном дворцовом приеме.
Даже Иван Колтовской, тот самый, который предал Пожарского в бою, бросил оборону Замоскворечья, и тот отказывается от назначения вместе с князем на воеводство в Калугу. Правда, на него как раз управа находится очень быстро – слишком был нужен опытный военачальник в беспокойных тогда Калужских краях. А вот почти непосредственно после освобождения Москвы Пожарский «головой выдается» боярину Борису Салтыкову, который куда как верно служил польскому королевичу Владиславу и добивался его утверждения на русском престоле. Унижение вчерашнего героя входило в расчеты придворных кругов, как и возможность оставить его без средств, а уж это по тем временам было полностью в царских руках.
Земли – когда-то Иван Грозный перетасовал их исконных владельцев, чтобы порвать связи феодалов с привычными местами, поставить их в зависимость от царской власти, унять феодальную вольницу. Земли давались царем – едва ли не единственная форма жалованья для служилого дворянства – и так же просто передавались другим лицам. Еще в самом начале столетия Пожарский получил за службу несколько крохотных деревенек неподалеку от Владимира, в том числе и ту, которая известна теперь своим художественным промыслом, – Холуй. Оборона острожца на Сретенке открыто поставила князя в число врагов королевича Владислава, и тот по просьбе одного из своих русских сторонников передал ему эти деревеньки. Казалось бы, с победой над интервентами подобное решение отпадало само собой. Не тут-то было!
Пожарский должен был обратиться к Михаилу Романову с просьбой восстановить его в былых правах. Царский указ не заставил себя ждать, зато составлен был так искусно, что оставлял «в сомнительстве» – принадлежит ли все-таки земля Пожарскому или нет. Понадобилось еще немало лет, чтобы новый указ и с нужной формулировкой появился, но не в порядке восстановления справедливости, а как… награда за очередную службу. Да и исчезнувшая огородная земля у Мясницких ворот – она торжественно дана Пожарскому за ратное дело – удобный и дешевый вид награды: на виду и вместе с тем никакого сравнения по ценности с настоящим боярским поместьем. Данная при случае, она так же легко была отнята, едва успел Пожарский уехать на другое место назначения. А сколько переменил он их за свою жизнь!
Ни Романовы, ни родовитое боярство не поняли, что Пожарскому не нужна была их власть. Он не искал ее и не стремился к ней. Он просто делал то, что считал своим долгом – человеческим, военным. Глухие города Нижнего Поволжья, Сибирь, Тверь, Клин, Калуга, печально знаменитая Коломенская дорога, откуда Москва не переставала ждать нашествия татар, Переславль-Залесский – всюду свои трудности, необходимость в опыте и таланте военачальника. И Пожарский имел полное основание сказать со спокойным достоинством Михаилу Романову и его отцу: «И где я на ваших службах не бывал, тут яз у вас, государей, непотерпливал, везде вам, государем, прибыль учинял».
Пока жив был Пожарский, надо было бороться с его славой, стараться ее стереть, а после… Впрочем, о том, когда Пожарского не стало, исследователи могут судить только на основании дворцовых разрядов – документов, где отмечались события придворной жизни. Перестало встречаться там имя, значит, человека уже нет в живых. Утверждение официальных историков XIX века, будто умер князь в Москве, в своем доме и присутствовал на его погребении сам (!) Михаил Романов, не имеет никаких доказательств. Это легенда, скрывающая горькую правду.
Скорее всего, находился Пожарский в Переславле – на очередной службе, московский дом так и оставался недостроенным – с переписями не поспоришь, а что касается «царских выходов», то они слишком тщательно фиксировались. Нет, Михаил Романов и не подумал проститься с полководцем. Зависимость от руководителя народного ополчения и опасность, которая таилась в его авторитете, – как же самая мысль о них была ненавистна Романовым и как не оставляет она их на протяжении всего правления династии. А памятник на Красной площади – он был задуман в самом начале XIX столетия не ими, но Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств, тем самым, которое стало известно своей приверженностью радищевским идеям. Радищевские идеи продиктовали и выбор образов Минина и Пожарского.
Страсти, разгоравшиеся при жизни Пожарского, продолжали кипеть и после его смерти. Ну а правда истории – она все равно заявила о себе. Сказали о ней свое слово и обойденные вниманием исследователей документы, обыкновенные свидетельства повседневной жизни города, страны. Через «чертеж земли Московской» яснее начинал прорисовываться портрет человека – портрет времени.
Загадка московского органа
…Москва 1619 года. Нестихающие отголоски Смутного времени. Перекатывающиеся по всей стране волны крестьянской войны. Город, уничтоженный сражениями и пожарами. И первое после Смутного времени дело о приезде иностранца, зарегистрированное Посольским приказом. Этим иностранцем был трубач Герман Руль.
На что мог рассчитывать заезжий музыкант? Обычной придворной жизни в Москве еще не сложилось. Получивший в 1613 году скипетр Михаил Романов действительным царем не стал. Само его избрание было выигрышем боярской партии, которую возглавлял его отец, Федор Романов, успевший в смутные годы поплатиться за свое стремление к престолу пострижением в монахи под именем Филарета. Теперь, как монах, он мог получить самое большее сан патриарха, пусть в государственных бумагах они и будут титуловаться рядом – отец и сын: «великие государи Михаил и Филарет». Зато обиход нового двора будет определяться взглядами и вкусами Филарета, но по времени это произойдет позже – сам патриарх оказался в Москве только в 1618 году после долгих лет жизни в Варшаве. И действительно, приезд Руля не был связан ни с каким приглашением. Впрочем, трубач и не искал придворной службы. Он получил то, на что, по-видимому, рассчитывал с самого начала, – стал вольным московским музыкантом.
Среди 250 профессий, которые существовали в Москве начала XVII века, историки никогда не учитывали музыкантов. Сказывалось утвердившееся представление о том, что инструментальная музыка распространения на Руси не имела и практиковалась только в царском, придворном обиходе. Однако московские переписи при всей своей неполноте и плохой сохранности утверждают иное.
Если дворцовых музыкантов действительно немного, то многочисленны инструменталисты, живущие на положении вольных городовых музыкантов. Перепись 1620 года отмечает среди них рожешников, гусельников и исполнителей на духовых инструментах – «трубников». И хотя общепринятая точка зрения утверждает, что исполнителями на гуслях и главным образом на рожках выступали скоморохи, профессии инструменталиста и «потешника» в эти годы существуют совершенно независимо друг от друга. Больше того. Состав инструментов, которыми пользуются скоморохи, в течение XVII века претерпевает заметные изменения, и предпочтение начинает отдаваться ударным.
В первой четверти XVII века «трубники» составляют меньше половины московских инструменталистов. Тем не менее можно утверждать, что именно их искусство пользуется большим спросом и высоко ценится москвичами. Характерное свидетельство – если гусельники и рожешники называются только уничижительным именем без отчества и тем более фамилии (Ивашко, Захарка, Данилко и т. п.), то «трубники» полным именем и фамилией, как, например, трубач Гаврила Локтев, имевший в Денежной слободе двор мерой 16 × 3,5 сажени.
Подобное отношение современников подтверждается и другим обстоятельством. Если через девять лет после «пожарного разорения» «трубники» могли восстановить свои дворы и дома, то среди гусельников и рожешников многим пришлось бросить землю и уйти «кормиться в миру», по выражению документов тех лет. Отсюда в переписях появляются отметки: «От Николы Драчова улица двор Кирилка Иванова сына кафтанника, а преж жил Ивашко рожешник» или там же: «Бывшее тяглое место Богдашки гусельника».
Через несколько лет имена подобных «бывших» музыкантов вообще исчезают из городских документов – хозяевам не удается выбраться из нужды, тогда как нажитое тем же Гаврилой Локтевым состояние позволяет и двадцатью годами позже его вдове Офимье продолжать владеть двором и домом и даже не отдавать их частями внаймы – обычный удел для вдов ремесленников. Потребность в искусстве рожешников и гусельников, несомненно, продолжала существовать, но она сохранялась среди менее состоятельных слоев городского населения, что резко снизило заработки и материальные возможности музыкантов.
Та же тенденция становится особенно очевидной в 1630-х годах. Гусельников и рожешников в Москве все меньше. Среди городовых музыкантов появляются органисты и «цимбальники», но безусловно преобладающую часть инструменталистов составляют «трубники». Они же принадлежат к наиболее зажиточным слоям посадского населения. За редким исключением «трубники» – владельцы собственных дворов. Их нет среди тех, кто вынужден был снимать дома на чужих дворах или и вовсе довольствоваться частью чужого дома, – так называемых соседей, подсоседников и захребетников.
Профессию «трубника» можно определить как профессию вольных людей. Единственное исключение в 1638 году – «боярина князя Дмитрия Михайловича Пожарского человек Томилко Григорьев сын Мерин трубач» и тот располагает собственным двором в Сретенской сотне и называется в переписи так же уважительно, как другие музыканты, с отчеством и фамилией.
Как правило, московские «трубники» не только относились к числу вольных, но и сами располагали крепостными. Любопытна разница, которая существовала между «трубниками» и певчими. Исключительно высоко ценимые профессиональные певцы – певчие царского и патриаршего хоров могли быть из наиболее привилегированных слоев населения вплоть до дворцовых служителей и служилых дворян. «Певческая служба» не унижала в общественном мнении. При поступлении в хор за ними сохранялись прежние права и все приобретенное на предыдущей службе «имение», крепостные, деревни, а некоторым из певчих дьяков сразу же дарился московский двор.
Отношение к профессии «трубника» иное. Дворян среди них нет. Одинаковой с певчими дьяками степени благосостояния они достигали за счет собственных «вольных» заработков, но при этом в ополчении стояли ближе всего к дворянству. В большинстве своем «трубники» не только располагали огнестрельным оружием – пищалями, но вооружали ими и своих крепостных. Для переписи 1688 года характерны записи: дворы «в приходе Воскресения Нового у Чертольских ворот – трубника Ивана Ругандина, да у него человек Ивашка Зиновьев, оба с пищальми. Трубника Наума Миндина (двор), да у него человек Оська, оба с пищальми», или по Рождественской улице двор «трубника Ивана Филимонова, один у него человек Офонька Иванов, и тот будет с пищалью».
Следующей ступенью в развитии музыкальной жизни Москвы становятся 1660-е годы. К этому времени практически исчезают гусельники и рожешники (и среди владельцев собственных дворов, и среди московских посадских людей), вырастает число органистов, появляются как представители самостоятельной профессии барабанщики, но подавляющую массу городовых музыкантов составляют «трубники», которые теперь делятся на три основные категории.
Первая и по-прежнему самая малочисленная связана с царским обиходом. Сюда входят так называемые дворцовые трубачи, места которых часто и регулярно замещались инструменталистами из числа городовых музыкантов, создавая для последних практику своеобразных гастролей. Во всяком случае, через нее проходят такие широко известные в свое время музыканты – городовые духовики, как Иван Кушаков или Василий Мартынов. Наряду с ними существовала должность «трубников Большого дворца». Выбранные для этой должности музыканты оставались в дворцовом штате на долгие годы. Это выдающиеся инструменталисты, зачастую выходцы из тех редких в московской практике семей, где музыка являлась наследственной профессией, – Александр Бораков, Тимофей Жаблов и другие.
Другую категорию духовиков составляли военные музыканты. Вопреки традиционному утверждению, что полковые духовые оркестры впервые появились при Петре I, причем именно в Преображенском и Семеновском полках, музыкантские группы существовали при каждом полку русской армии еще в середине XVII века. Это так называемые «трубачи рейтарского строю», вроде известного своими многочисленными учениками Василия Яковлева Мотузова, или «трубники полковые».
О последних в городских документах соответственно указывалось – «трубник Артемий Филимонов сын Томосов полку Федора Зыкова» или жившие в Панской слободе, неподалеку от Крымского моста, «трубники полка Венедикта Змеева» Михайло Тихонов Складовской и Иван Васильев сын Брагин.
Военные музыканты обычно имели учеников, числившихся, насколько позволяют судить косвенные указания, на службе в тех же полках. Именно среди них можно встретить иностранных инструменталистов. Возможно, здесь сказывалась начатая еще в 1620-х годах реорганизация русской армии на западноевропейский образец и соответственно менявшийся ее обиход, к которому были приучены западные музыканты. Однако и в данном случае речь идет лишь об отдельных именах, тогда как основная масса военных духовиков продолжала состоять из русских инструменталистов.
Наконец, третью, и самую многочисленную, категорию духовиков составляли вольные городовые музыканты. На основании документов, ставших до настоящего времени известными, еще нельзя установить, как именно протекало обучение инструменталистов. Характерное для Средневековья наследование профессии в одной семье в Московском государстве, тем более XVII века, не было особенно широко распространено. Относительно свободные – по сравнению с западноевропейскими странами – условия ученичества не обязывали ученика годами оставаться у одного мастера. Он мог менять учителя, а, соответственно, при желании и профессию. Подобный свободный выбор должен был практиковаться и в профессиях музыкальных.
Но если отсутствие так называемых жилых записей – формы договоров, определявших взаимные обязательства мастеров и учеников в ремесленнических специальностях, мешает выяснить практику частного обучения, то сохранились гораздо более существенные свидетельства наличия обучения школьного, на государственной основе.
В середине XVII века в Москве действует «двор государев съезжий трубного учения», память о котором сохранилась до наших дней в названии расположенного около Поварской улицы Трубниковского переулка. Здесь велось обучение игре только на духовых инструментах – лишнее свидетельство их растущей популярности и распространения. Число учащихся было, по-видимому, достаточно значительным, поскольку помимо руководителя двора «мастера трубного учения» Савина Потапова Буракова (Боракова), который имел к тому же и частную школу, обучение одновременно вели Захарий Данилов Игумнов, Филипп Федоров Звягин, Назар Васильев Окатов, Яков Михайлов Зыбин, Захарий Семенов Мордвинов и единственный иноземец – «Литовския земли» Савелий Иванов Березитцкой, впрочем, поселившийся в Москве давно и много лет владевший двором в Бабьем городке, у Крымского брода.
Но, пользуясь понятием «трубники», городские документы не оговаривают род инструментов, на котором играли эти музыканты. Тем не менее сопоставление ряда современных свидетельств, практики «съезжего двора трубного учения» и описей личного имущества москвичей позволяет установить, что наибольшее распространение имели металлические духовые – прежде всего валторна, труба, фагот. Вслед за ними в музыкальном обиходе появляется флейта-траверз и еще позже гобой, увлечение которым приходится на рубеж XVIII века.
Время появления гобоя как инструмента вообще точно не установлено, но его совершенствование связывается именно с XVII столетием. Если прибавить к этому, что и валторна впервые была применена в оркестре композитором Ж. Б. Люлли только в 1664 году, становится очевидным, что Россия была в курсе музыкальных новинок Запада и разделяла увлечение ими. Отсюда появление гобоистов среди музыкантов Преображенского и Семеновского полков на рубеже XVIII века нельзя отнести к числу новшеств Петра, но к продолжению давно установившейся традиции.
Подобное распространение музыкальных инструментов, которые никогда не связывались с развитием русской музыкальной культуры и вообще считались появляющимися в ней только в XVIII столетии, как и национальный состав московских музыкантов, заставляет пересмотреть общепринятую точку зрения на пути проникновения в Россию западноевропейских влияний, и в частности на якобы исключительную в этом отношении роль московской Немецкой слободы. Именно с Немецкой слободой связывалось знакомство русских слушателей с так называемыми западными музыкальными инструментами, тем более с западной музыкой. По мнению многих исследователей, тщательно изолированная от русской столицы и из-за предубежденности местного населения против иноземцев, и из-за свойственной Московскому государству этого периода позиции национального изоляционизма, Немецкая слобода была связана исключительно с придворным бытом. Проникающие через ее посредство новшества ограничивались царским окружением, что существенно суживало их влияние.
Местные православные церковные приходы оказывались вообще без прихожан, на что, например, сетовали церковники Старосадского и Армянского переулков на Покровке. Еще труднее приходилось московским купцам, которых теснили западные торговцы, особенно англичане, занимавшие позиции и в Белом, и в Земляном городе.
Но жалобы на засилье иноземцев, как правило, оставались без ответа. Согласно тогдашнему русскому законодательству, им разрешалось иметь собственные дворы в Москве и земли в Московском уезде и даже обменивать беспрепятственно свои владения с русскими. Поощрялся не только самый факт приезда иностранца в Россию, но специальной главой Уложения Алексея Михайловича предписывалось не чинить никаких препятствий русским, если те по каким-либо делам решат отправиться в западные страны.
Восстановление Новонемецкой, как ее теперь будут называть, слободы на Яузе было связано с необходимостью расселения значительного числа принятых на русскую службу военных специалистов. Как город, Москва в середине XVII века еще носила военный характер. Среди 200 000 человек ее населения 50 000 составляли военные и их семьи, но при этом среди тех же 200 000 имелось и 28 000 иностранцев.
Соответственно население Новонемецкой слободы имело достаточно специфический состав. Среди ее жителей, по свидетельству переписей, не было ни деятелей искусства, ни художников, ни музыкантов. Описи имущества домов почти не упоминают музыкальных инструментов, что было, кстати сказать, подмечено итальянским певцом Филиппом Балатри во время его выступлений в Москве на рубеже XVIII века.
Наряду с этим в Москву приезжает много иностранных инструменталистов. Иногда это инициатива царского двора, как в случае с полковником фон Стаденом. Близкий друг боярина Артамона Матвеева, фон Стаден направляется в 1671 году на Запад с целью набрать актерскую труппу и «мастеров играть на свирели». Имелись в виду не инструменталисты вообще, но музыканты, знакомые с театральной музыкой и принципами сопровождения театральных представлений. Но гораздо чаще исполнители приезжали по собственному почину, привлеченные слухами о баснословных условиях работы. И эти слухи во многом соответствовали действительности. В 1675 году царскому двору удается «сманить» двух инструменталистов, приехавших в Москву в свите одного из посольств. Им тут же назначается особое жалованье:
«184 году ноября в 2 день указал великий государь иноземцев музыкантов Януса Братена да Максимилиана Маркуса, которые остались на Москве после цесарских посланников, Францишка Аннибала да Ягана короля Терингерена, ведать в Посольском приказе и дать им своего великого государя жалованья в приказ: стяг свинины, две туши баранины, пол-осьмины круп овсяных да им же давать поденного корму и питья ноября с 1 числа нынешнего с 184 году, покамести они на Москве побудут, по калачу да по хлебу двуденежнему, по шти чарок вина, по 4 кружки меду, по 4 кружки пива человеку на день и денег 5 алтын в день». Таким образом, одно денежное жалованье заезжих инструменталистов достигало 60 рублей в год. Это было много больше, чем получали в Оружейной палате жалованные царские иконописцы.
Такое усиленное поощрение чужеземцев не диктовалось признанием более высокого относительно отечественных музыкантов уровня их мастерства – документы Посольского приказа неизменно сохраняют и трезвую рассудительность, и немалую долю скептицизма в оценке новоприбывших. Главной здесь оказывалась возможность познакомиться с новинками западной музыки и исполнительства. К тому же к этому времени можно говорить и о зарождении на Руси понятия индивидуальности музыканта. Не случайно постоянным переменам подвергался состав «трубников Большого дворца», куда хотя бы на короткий срок поочередно зачислялись все сколько-нибудь значительные музыканты. Но выгодные условия найма или вольной практики сочетались со стремлением любыми способами удержать артистов, вплоть до прямого и откровенного насилия.
В том же 1675 году в Посольский приказ поступает рапорт: «Великому государю бьет челом холоп твой салдацкого строю иноземец капитан Яганка Руберт. В нынешнем, государь, в 184 году сентября в 19 день бежали от меня, холопа твоего, из двора моево, а жили в ем дворе в наймах в моих наемных хоромах иноземцы музыканты Яков с товарищем своим с Котфридом, а куды они из двора моево пошли, того я, холоп твой, не ведаю, а что у них было животов и всяких игрув, и они то все побрали…»
Последовавшая на следующий же день резолюция отличалась редкой суровостью и оперативностью: «184 года сентября в 20 день по указу великого государя послать его великого государя погонные грамоты писанные тотчас в Великий Новгород, и во Псков и до рубежа в Смоленск по Калужской дороге и до Брянска и до рубежа и по Вологодцкой дороге и до Архангельского города, велеть тех беглых музыкантов, поимав, сковав, привести к Москве с провожатыми с великим береженьм, и стрельцом для поспешенья дать на корм по полтине человеку с роспискою…» Одновременно началось следствие, куда могли уехать музыканты, к которому были привлечены все сколько-нибудь знавшие их лица.
Но картина музыкальной жизни Москвы к шестидесятым годам XVII века меняется не только за счет увеличения числа гобоистов и валторнистов. Постепенно сходят на нет рожешники и гусельники – их не удается больше найти среди владельцев дворов и даже посадских людей. Остается предполагать, что падение интереса к их мастерству заставляло этого рода музыкантов искать заработков вне пределов столицы, а сами заработки не давали им больше возможности оставаться в числе зажиточной части горожан. То же происходит и со скоморохами-потешниками, хотя общее их число и продолжает оставаться значительным. Об этом, между прочим, свидетельствует получившее широкое развитие в Москве производство обязательного атрибута потешных выступлений – бубнов. Вместе с тем среди свободных музыкантов впервые появляются барабанщики. И наконец, исключительного расцвета достигает органная музыка.
Располагая свидетельствами существования в XVII веке в Москве, и в частности в царском дворе, нескольких инструментов подобного рода, музыковеды тем не менее не включают орган в историю развития русской музыкальной культуры. Считалось, что одиночные инструменты, завезенные с Запада, к тому же с приезжими исполнителями, могли иметь относительное значение для придворной культуры. Это находило известное подтверждение в том, что отечественные композиторы в дальнейшем не интересовались органом и не писали для него. Национальная традиция отсутствовала.
Однако наиболее ранние из сохранившихся, а точнее, доныне обнаруженных упоминаний об органе – в постановлениях Стоглавого собора свидетельствуют о том, что этот инструмент уже в середине XVI столетия имел широкое распространение не только в княжеском, но и в народном обиходе. Собор выражал негодование по поводу того, что ни одно народное празднество, гулянье или тем более свадьба не обходилось без органной музыки. Можно было предположить, что в данном случае речь шла о так называемых портативах – миниатюрном варианте инструмента в виде снабженного рядом вертикально поставленных трубок ящика, который во время исполнения перевешивался на ремне через плечо или ставился музыкантом на колено, причем правая рука перебирала клавиатуру, а левая нагнетала в мехи воздух. Но если подобные инструменты и имели хождение, не менее распространенными были так называемые позитивы – собственно органы, располагавшие значительно более сложным механизмом, большим количеством труб и требовавшим для игры на них помимо органиста специального человека, накачивавшего воздух. Именно такой орган, как пример общеизвестного инструмента, оказывается изображенным в знаменитом «Букваре славяно-российских письмен» Кариона Истомина 1694 года. Но и в начале XVII века огромные инструменты не воспринимались русскими людьми как диковинка. В статейном списке Г. И. Микулина, ездившего послом в Лондон в 1601 году, есть примечательная запись: «И вышед королевна (королева Елизавета) ис полат своих, пошла к церкве… а как королевна вошла в церковь, и в те поры почали играти в церкве в варганы и в трубы и иные во многие игры и пети». Описи имущества москвичей, особенно во второй половине века, показывают, что поставленный на невысокий специальный рундук многорегистровый орган-позитив был принадлежностью обстановки столовых палат во многих боярских домах. В палатах В. В. Голицына позитивов и вовсе было несколько рядом с «цимбалами» – клавесинами, «охтавками» – клавикордами и «басистой домрой». Органы обязательная принадлежность и кремлевских палат: «…а у стола были в Грановитой от государева места с правую сторону: боярин Иван Алексеевич Воротынской, боярин Иван Андреевич Хованской, окольничей князь Иван Дмитриевич Пожарской… да в особом столе, где сиживали Благовещенские священники, сокольники начальные, а достальные же сокольники в особом же столе сидели, где арганы стоят…»
Но постановление Стоглавого собора раскрывает еще одну особенность, касавшуюся положения органа в русской культуре того периода. В отличие от стран, входивших в сферу влияния католицизма, орган на Руси использовался исключительно в светских целях. Для православного он олицетворял собой способ освобождения человеческих чувств от религиозных канонов – сила и активность его воздействия на слушателей не подвергались сомнению. Не случайно для Симеона Полоцкого играть на органе значит «сердца в радости возбуждать». Отсюда строжайший запрет исполнять в его сопровождении какие бы то ни было религиозные песнопения, что вполне допускалось в отношении других инструментов. Судьба органа и на Руси оказывается тесно связанной с церковью, но в прямо противоположном, чем в западноевропейских странах, смысле: по мере нарастания церковной реакции нападки на орган усиливались, по мере ее преодоления ослабевали и вовсе исчезали.
В штат Потешной палаты при Михаиле Федоровиче входят вместе с гусельниками, скрипотчиками, трубниками, цимбальниками и органисты. Это Томило Михайлов Бесов, Мелентий Степанов, Андрей Андреев, Борис Овсонов. В двадцатых годах к ним присоединяются ряд иностранных исполнителей, выходцы из польских и саксонских земель, вроде Юрия Проровского и Федера Заналского, и даже из Голландии. Оттуда приезжает в Москву органист-виртуоз Мельхерт Лунен, уже в 1638 году возвращающийся на родину с богатыми подарками. И все же основную часть составляли местные музыканты. Правда, царский двор, избегая назначения им окладов, предпочитал обходиться разовыми выступлениями в зависимости от характера торжества или празднества. Наряду с сольными выступлениями широко практиковались ансамбли органов и их сочетание с другими музыкальными инструментами. Умение играть на органе было настолько распространено, что зачастую и не рассматривалось как самостоятельная профессия, а совмещалось с какой-нибудь другой службой. Одаренный органист Лукьян Патрикеев, успешно конкурировавший с жалованными музыкантами при Михаиле Федоровиче, являлся сторожем Потешной палаты. Полученные им за особенно удачное выступление на свадьбе того же Михаила Федоровича в 1626 году «четыре аршина настрофилю сукна лазоревого цена два рубли» были высшей формой признания и награды, которою только отмечались русские музыканты. Даже много позже, в 1670-х годах, органистом в составе русского посольства В. А. Даудова и М. Ю. Касимова в Бухару будет отправлен «Кормового дворца ключник» Федор Текутьев.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.