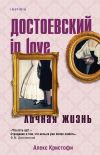Автор книги: Нина Перлина
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
25-летний дипломант Академии Художеств В.И. Якоби на выставку 1860–1861 представил работу «Партия арестантов на привале», написанную в этом же году. Не анонсируя этого как участник академического конкурса, он решился выполнить ее не по классическим образцам, а по мотивам Записок из Мертвого Дома. В свою очередь, анонимный обозреватель (а им был сам Достоевский) не посчитал возможным указывать на очевидную для него сюжетную зависимость работы Якоби от Записок из Мертвого дома. но свое отношение к живописи, не идущей дальше «копирования», высказал откровенно: «В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого не может; в картине ли, в рассказе ли… непременно будет виден он сам, он… выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития…… В старину сказали бы, что он должен смотреть глазами телесными и, сверх того, глазами души или оком духовным». (19,153–154). И далее, обратив «глаза души» к своим же Запискам из Мертвого дома, по контрасту перечисляет натяжки и передержки, которые, «гоняясь… за правдой фотографической», допустил Якоби в своей картине.
Работа «Последняя весна», изображающая девушку, преждевременно умирающую от чахотки, дает рецензенту возможность задать художникам, не понимающим значения «границ между живописью и поэзией», другой вопрос, уходящий корнями в теории Лессинга и Филострата: «как изображать ужасное»? – Если вспомнить беседы, в которые князь Мышкин вовлекает своих собеседников, станет очевидным: на страшные зрелища, не поддающиеся нравственному оправданию, нужно смотреть «глазами души», и только так и тогда становится возможным «изображение» неизобразимого. Предлагая Аделаиде в качестве сюжета картины сцену гильотинирования. Мышкин дает ей понять: художник должен проникать своим понимающим и сопереживающим взглядом в то, что переживает другой. Тогда зрелище смертной казни преобразится в изображение, содержащее в себе незабываемый рассказ о непостижимой тайне бытия и небытия.
Специалисты по семиотике искусств об экфразисе
Комментируя и полемически развивая лессинговскую оппозицию: картина как произведение живописи – экфразис как описание картины, современный специалист по семиотике искусств Кригер разъясняет суть имеющего здесь место различия. Человек, позирующий художнику, скульптору или сидящий перед камерой фотообъектива, смотрит из глубины своего «я» в мир, а посетитель галереи, зритель или перебирающий страницы фотоальбома созерцатель, глядя на это застывшее в динамике, в страдании, в улыбке, в покое лицо, видит взгляд изображенного на картине или фотографии и пытается понять: что выражает собой этот взгляд. Изъяснение, интерпретация скрытого смыслового значения взгляда и составляет содержание экфразиса портрета. Упрощая и суммируя, получаем трехуровневую конструкцию: позирующий мастеру смотрит вовне; художник или фотограф, со своей позиции извне, ловит и фиксирует на холсте или на фотобумаге (но всегда в пределах поля-пространства, ограниченного рамой) индивидуальный взгляд портретируемого, а экфразис, или словесная картина, истолковывает, что этот взгляд значит. Экфразис проясняет и объясняет то особенное, что, глядя на портрет, можно угадать и увидеть в позе портретируемого, принятой им самим или выбранной для него создателем картины, что можно узнать о жизни и личности человека, изображенного на полотне, застывшего на фотографии или в камне.
Экфразис осуществляет перевод, перенос (транспозицию) специфических смысловых значений системы живописно-пластических искусств в систему словесного, изъяснительного повествования. Как особый речевой жанр экфразис является субъектно-объектной и импрессивно-экспрессивной категорией диалогического дискурса и межвидового цитирования. Ведь цитата в самом общем своем определении – вид «чужого слова», сочетающий в себе формы прямой, косвенной, несобственно-прямой речи и речевой интерференции. В словесном искусстве создателем картины-экфразиса может быть как автор (поэт или прозаик), так и созданный автором, но представленный в качестве протагониста герой – вдумчивый созерцатель или рассказчик[23]23
Протагонист – выразитель идеи. В отличие от протагониста, герой не только выражает, но и претворяет заявленную идею в действие, воздействуя на других ее силой и убедительностью.
[Закрыть]. Во многих случаях рассказ-эфразис от лица героя обретает особую силу эмоционального воздействия, потому что адресатом такого повествователя являются слушатели, сочувствие и понимание которых он хочет завоевать. Лессинг отмечает эту особенность экфразиса у Вергилия: «Поэт даёт описание гибели Лаокоона не от своего собственного имени, а заставляет об этом рассказывать Энея и притом перед Дидоною, сострадание которой Эней горячо старается возбудить»[24]24
Лаокоон, 131.
[Закрыть]. А если в понятие «герой-протагонист» вкладывать идею: учитель, «старший», своими объяснениями старающийся сделать учеников понимающими слушателями, причастными ко всему изображенному в картине, то прояснится и еще одна характеристика экфразиса. В зависимости от того, какую позицию занимает ведущий беседу по отношению к собеседнику, рассказ об изображенном или описание «картины жизни» может служить целям воспитания, дидактической пропедевтики, религиозного поучения. Экфразис может быть иллюстрацией философских максим, предвосхищать грядущие события в жизни слушающего или созерцающего, и, наконец, как картина, показывающая уже свершившееся, – заранее указывать, предупреждать о возможном исходе событий, еще не развернувшихся в действия в совсем иных пространственно-временных ситуациях.
Филострат, зачинатель жанра экфразиса, объясняет свои задачи наставника: «Я хочу передать о тех произведениях живописи, о которых была как-то у меня беседа с молодежью. Её я вел с целью им объяснить эти картины и внушить им интерес к вещам, достойным внимания». Его универсальная формула, изъясняющая содержание картины как созерцаемого объекта: «Давай подумаем, что это значит Ты же внимательно смотри, чтобы можно было тебе сделать вывод, каким путем создаются сюжеты картин»[25]25
Филострат – ст., Картины. Книга Первая. Введение» // Филострат (Старший и Младший), Картины. Каллистрат, Статуи (Л., Изогиз, 1936), 23.
[Закрыть]. Как повествовательный прием экфразис возникает всякий раз, когда герой, находящийся в твердо очерченных пространственно-временных границах своего мира, переносит взгляд за раму – границу, отделяющую его от пространственного поля картины мира и жизни другого, и со своей точки зрения, со своей позиции пытается понять, что же он видит. То именно, что он увидит и как поймет смысл представшего его взору, составляет содержание экфразиса.
Как тип повествования, смысловое содержание экфразиса противоположно вставной новелле. Экфразис не обособляет, а втягивает в пространственно-временной контекст романа всё внеположное тому, о чем сейчас говорит рассказчик. В тематической и композиционной структуре романа Идиот этот принцип выдержан с неукоснительной последовательностью. Как мне представляется, два намеренных исключения – пародийное ораторство Лебедева о средневековых католических монахах-людоедах, нарушающее празднование дня рождения князя, и филиппики Мышкина на провальном вечере «смотрин» у Епанчиных, направленные против католицизма, в которые он пускается в связи с сообщением о том, что его благодетель Павлищев чуть не стал иезуитом. Оба эти образца неудачного ораторского красноречия лишены естественной связи с содержанием и настроением бесед, которые ведут между собой собравшиеся гости. Экфразисами, даже пародийными, т. е. нарочито представленными как неудачно созданные умозрительные картины, неубедительные для собеседников, они не являются, их можно рассматривать лишь как слухи и домыслы о событиях, смысл которых сами рассказчики не постигают и не могут сделать понятным для собравшихся[26]26
Комментаторы ПСС не указывают текстов, которые могли послужить источником ораторствования Лебедева. О годах Великого Голода (1315–1317) и Черной Смерти (1346–1351) Лебедев мог почерпнуть некоторые сведения в трактате Мальтуса, где о случаях людоедства, имевших место в эпохи великих климатических катастроф средневековья, конкретно ничего не сказано, но дан собирательный образ умирающего от голода бедняка: «Он липший за столом, па великом пиру жизни ему нет места». Но Лебедев Мальтуса не читал, а подхватил его имя у Герцена, который как раз был резким противником мальтузианства. Опубликованный анонимно в 1729 г., но затем многократно переиздававшийся сатирический памфлет Свифта «Скромное предложение», созданный им в манере сатирической ораторской «Апологии» Квинтилиана, ему также не мог быть известен.
[Закрыть].
Экфразис как категория диалогического межвидового цитирования
В пределах авторского текста цитата является средством перевода с одного индивидуального языка на другой с сохранением и намеренным акцентированием главных признаков обоих идиолектов. Экфразис, как специфический речевой жанр и вид повествовательного дискурса осуществляет перевод с языка живописно-пластических искусств на язык словесности путем межвидового диалогического цитирования[27]27
Межвидовое цитирование – цитирование-перенос с одного вида искусств на другой.
[Закрыть]. Возникновение рассказа из межвидового цитирования может быть проиллюстрировано «Картиной» Филострата «Скамандр»:
«Узнал ли ты, мальчик, в этой картине рассказ Гомера, или о нем ты совсем не думаешь, и потому, конечно, считаешь за чудо, как это в воде может гореть огонь? … Вероятно, ты знаешь то место из Илиады, где Гомер заставляет Ахилла воспрянуть, чтоб мстить за Патрокла, а боги готовы двинуться в бой… Всех других рассказов о битве богов не касается наша картина; она только нам говорит, как на Скамандра напал могучий Гефест, сильный «пламенем чистым небесных огней». Смотри опять на картину, отсюда поймешь ты и всё остальное»[28]28
Филострат Картины, стр. 23. Выделены пункты перехода за границы-рамы словесного и живописно-пластического и моменты межвидового цитирования, имеющие изъяснительное значение. За исключением определения: «Гефест сильный пламенем небесных огней», прямых цитат из Гомера в этом объяснении картины нет. Предполагается, что ученик должен знать поэму Гомера наизусть и по сказанному поэтом слову понимать содержание картины: «узнал ли ты, мальчик..:». Наличие «рамы» четко указывает на вненаходимость мира, показанного на картине, по отношению к миру, в котором пребывают Филострат и его собеседники. Ссылки на Гомера осуществляют перевод и переход в сферу умозрительных представлений и словесных описаний всего, показанного в зрительных образах.
[Закрыть]. Продолжая объяснять, что именно должен понять ученик по увиденному на картине, наставник опускает само описание иссякновения вод божественного потока (Илиада, 21: 305–384)[29]29
В греческой мифологии Скамандр – бог одноименной реки, сочувствующий троянцам и пытающийся укротить неистовства Ахилла, но побежденный заступником Ахилла, богом огня, Гефестом. См.: Мифологический словарь, ред. Н.М. Мелегинский (М., Советская энциклопедия, 1990), стр. 494.
[Закрыть].
Словесные цитаты из Гомера в текст не введены, сохраняются только указания-сноски на 21-ю песнь Илиады, благодаря чему Филострат и заканчивает объяснение картины словами: «Всё это совсем не так, как дано у Гомера». Средствами экфразиса Филострат помещает созданный им новый текст – картину в семантически расширившийся, многопланный и многосмысленный объемлющий контекст. Об «энаргее», т. е. жизненности, зрительной убедительности экфразисного повествования, которое помогало как бы воочию увидеть, передать и осмыслить то, что не может быть открыто физическому зрению, опираясь на картину «Скамандр», писал Гете[30]30
Для понимания экфразиса важно различать понятия enargeia (жизненность) и energeia (процесс),
[Закрыть]. Нам неизвестно, читал ли Достоевский письма и дневники Гете, скорее всего, он не был с ними знаком[31]31
Гете перераспределил «Картины» по сюжетно – тематическому принципу и дал свой комментированный пересказ мифологических сюжетов, положенных в их основание. Обращаясь к способности поэта средствами словесных выражений донести до читателя убедительную зримость изображенного на картине, он пользовался выражением ü berliefern – «передать», корневая лексема которого, liefern, значит «доставлять (товар), предъявлять доказательства». Johann Wolfgang Goethe, «Philostrats Gemälde», Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche (Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1985) Bd. 20. S. 295–297, 306.
[Закрыть]. Тем большее значение тогда приобретает тот факт, что и в отчетах о посещении годовых выставок в Академии художеств, и в ряде статей о русской литературе, в полемике с критиками, защищавшими принципы эмпирико-прагматического утилитаризма (физиологии, бытовые очерки, зарисовки натуральной школы) Достоевский обращал особое внимание на «жизненность», жизненную убедительность антологической поэзии и картин-стихотворений, которые Добролюбов и его единомышленники решительно не принимали и считали за образцы «чистого искусства». Достаточно указать на статью «Г-н – бов и вопрос об искусстве», где вслед за обсуждением ценности (но не утилитарной пользы, а эстетического значения) таких образцов медитативно-созерцательной поэзии как «Шепот, легкое дыханье», следует глубоко проникновенное истолкование той преобразующей силы, которую несет в себе «жизненность» картин-стихотворений. На языке Достоевского «жизненность, энтузиазм» и есть энаргея экфразиса. «Жизненность» позволяет извлечь из забвения, выдвинуть, поставить перед глазами и сделать зримыми, ценностно важными «вековечные идеалы» красоты, связать их «с общечеловечностью, с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно… Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется „Диана“». «Вот оно», – пишет Достоевский, цитированием удваивая силу воздействия стихотворного экфразиса Фета. – «Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей поэзии» (18, 96–97). Далее будет показано, что акцентирование моментов узнавания преобразующей животворной силы красоты лежит в основе всех проникновенных изъяснений князя Мышкина о тайне и загадке красоты, которая «спасет мир».
К выдержкам из Филострата, Лессинга и работам современных филологов и историков искусств о нарративно-описательной структуре экфразиса следует добавить статью Лео Шпитцера «"Ода к греческой урне", или Содержание vs. Метаграмматика» (1955), в которой дается суммарное определение экфразиса: «поэтическое описание картины или скульптуры, которое предполагает достигнутое путем словесных средств воспроизведение чувственно воспринимаемых объектов искусства – «транспозицию» изобразительного объекта, «поэтическую картину»». В работе показано, что экфразисная транспозиция является металингвистическим средством передачи «содержания» эстетического объекта[32]32
Leo Spitzer, «The „Ode on a Grecian Urn“, or Content vs. Metagrammar», Comparative Literature, 1955 № 7, цит. по: Essays on English and American Literature (Princeton: Princeton UP, 1968). Определение экфразисa: «… the poetic description of a pictorial or sculptural work of art, which description implies… reproduction, through the medium of words, of sensuously perceptible objects of art, une transposition d’art, object d’art, ut pictura poesis». Выражение transposition d’art заимствовано Шпитцером у Теофиля Готье, известного мастера экфразиса, указ. работа, р. 72.
[Закрыть]. Структурно-семантический механизм транспозиций Шпитцер раскрыл в статье 1948 г., «Лингвистический перспективизм в Дон-Кихоте»[33]33
"Linguistic Perspeetivism in the Don Quixote (1948)" // Leo Spitzer, Representative Essays, ed. Alban K. fordone (Stanford, California: Stanford UP, 1988), pp. 223–273.
[Закрыть]. Сервантес (показывает Шпитцер) развернул сложную сеть лингвистических метаграмматических и метапоэтических комментариев и медитаций по поводу изображения героя разными повествователями, претендующими на авторство или указывающими на их прямое или косвенное знакомство с бедным идальго Кихано, который, начитавшись разных рыцарских романов, вообразил себя странствующим рыцарем Дон Кихотом.
Исходя из позиции прямого, косвенного или отраженного изображения героя, Сервантес из раза в раз показывал Дон Кихота таким, каким его видели разные встречавшиеся с ним люди, каждый – со своей субъективной перспективы[34]34
Мeтапоэтикой и метапоэтической функцией в самом общем виде считаются включенные в повествовательную ткань произведения рассуждения автора об эффективности и смысловой значимости применяемых им же средств художественного изображения. О метапоэтической функции и метапоэтике в романе Идиот см.: Michael C. Finke, Metapoesis: The Russian Tradition from Pushkin to Chekhov (Durham, London: Duke UP, 1995), pp. 77 – 108, 168–170. Исследователь Сервантеса Джон Аллен, не прибегая к терминологии Шпитцера и незнакомый с работой Финка, показывает, что герой Сервантеса попеременно выступает показанным то с позиции авторского «Я», то со стороны повествователя или создателя «подлинного» жизнеописания Дон Кихота, то описанным фиктивными «переводчиками», подражателями и плагиаторами. См. John Jay Allen, Don Quixote: Hero or Fool? Remixed (Newark, D elaware: Juan de la Cuesta, 2008), разделы 1–4, 6.
[Закрыть]. Субъектно-объектный перспективизм становится средством выражения прямого и стороннего взгляда на героя. Дон Кихот показан с позиции самовосприятия, как субъект рассмотрения и вцдения им самого себя в перспективе своих рыцарских представлений о мире, и со множества других позиций со стороны, с точки зрения других персонажей, в том числе – с позиции автора, создавшего героя, о котором он повествует. Автор предоставляет своему герою, небогатому идальго по имени Кихано, полную свободу в выборе поступков, совершаемых им от лица рыцаря Дон Кихота, но при этом неотсту пно следит за происходящим и комментирует изображение происходящего. С авторской перспективы, находясь за пределами разворачиваемого им повествования о Кихано-Кихоте, Сервантес переносит на героя и на всё окружающее сложно нюансированные огласовки обозначений и именований вещей, выбранных им под впечатлением от чтения эпических поэм и рыцарских романов. Пародируя знаменитый экфразис, показывающий создание щита Ахиллеса в Илиаде, Сервантес позволяет герою соорудить нелепую самоделку из картонок и железных пластинок и назвать это изделие «настоящим шлемом с забралом тончайшей работы»; поименовать старую клячу Росинантом, т. е. «первой клячей на свете, ставшей теперь впереди всех остальных», а себя самого назвать сперва Дон Кихотом Ламанчским (чтобы все знали, какую провинцию Испании должны прославить его подвиги), а затем – в честь победы над выпущенными из клетки дикими зверями – «Рыцарем Львов»[35]35
Leo Spitzer, «Linguistic Perspectivism in Don Quixote», pp. 227–228.
[Закрыть]. Возбужденное чтением рыцарских романов воображение героя (перспектива куртуазного эпоса) заставляет его найти себе даму сердца и, пользуясь анаграммой или анафразой, дать красавице имя Дульсинеи Тобоской. Но сделано это (вскользь сказано от автора) вовсе не потому, что Дуль синея чем-то похожа на поселянку Альдонсу из соседней деревни, про которую поговаривали, будто бы некогда этот 50-летний идальго был к ней неравнодушен (перспектива слухов), а потому что идеальный рыцарь должен иметь идеальную даму сердца (вера, верность, любовь и красота в перспективе неоплатонизма). Со сменой перспектив и точек зрения, дело доходит до поименования Дон Кихота «рыцарем Печального Образа» и «рыцарем горестной фигуры» – так со своей позиции оруженосца называет его Санчо Панса, очевидец всех неудач и побоев, выпавших на долю его сеньора[36]36
Шпитцеру не требовалось объяснять, кем и с чьей перспективы Дон Кихот был назван «рыцарем печального образа», возникновение прозвища подробно описано в романе. Переживания, эмоциональная реакция и переосмысление, данное Достоевским и прозвищу, и картине – экфразису из Дон Кихота, будут рассмотрены далее.
[Закрыть].
Последовательно проводимую смену перспектив и точек зрения, позволяющих давать одному и тому же явлению или объекту изображения новые и новые, существенно различные наименования, Шпитцер определяет не как релятивизм, а как особый «лингвистический перспективизм» Сервантеса. Лингвистический перспективизм строится как «игра языками», где смена точек зрения на объект позволяет осуществлять модус непрямого, оговорочного, дистанцированного пользования языками[37]37
М. Бахтин, «Слово в романе». Собрание сочинений (М., Языки славянских культур, 2012), г. 3, с i p. 78.
[Закрыть]. Будучи по определению переносом – транспозицией, экфразис осуществляет процесс перевода непосредственного показа в косвенную позицию. Однако лингвистический перспективизм не ведет к релятивизации языкового сознания, а уравновешивает ее с внутренней значимостью и убедительностью смысловых интенций, исходящих от различных созерцателей, начиная от героя, видящего себя в облике странствующего рыцаря защитником всех страждущих и обиженных, и включая автора – творца, находящегося вне художественного полотна романа и лишь наблюдающего за своим героем.
Лингвистический перспективизм в Дон Кихоте проходит через отношение Сервантеса к сюжету, ко всем идеологическим темам и мотивам романа, определяет близость /удаленность автора от современных и будущих читателей. При кажущемся релятивизме, утверждает Шпитцер, в тексте Дон Кихота «мы ощущаем наличие чего-то, что не является предметом флуктуации; некое устойчивое, не поддающееся мутациям божественное начало, которое, очевидно, в какой-то мере отразилось в искусстве самого земного творца (earthly artifex) – романиста, достигшего едва ли не чудодейственно божественной силы в овладении материалом, в своем незыблемо устойчивом отношении к явлениям окружающего его мира и к близким и отдаленным от него читателям». В заключительных строках статьи Шпитцер дает выход своим анти-Ницшеанским представлениям о художнике-создателе, но не «сверхчеловеке». Он пишет о Сервантесе: «… этот художник богоподобен, но не обожествляет себя. Неверно было бы видеть Сервантеса пытающимся свергнуть Бога, заменив его творцом-сверхчеловеком. Напротив, Сервантес неизменно преклоняется перед всевышней премудростью Господа, какой она нашла себе воплощение в учениях католической церкви и установленных заповедях государства и общества. Как моралист, Сервантес вовсе не релятивист». И словно ожидая, что настанет время – и явится другой автор, способный перенести этот много фокусный полиперспективный взгляд с Дон Кихита на своего нового героя, делает специальное примечание: «Возможно, следует отметить, что перспективизм изначально присущ самой христианской мысли. Пара Дон Кихот – Санчо Панса есть, в конечном итоге, реплика Сервантеса средневековым фигурам Соломона и Марко ль фа, где противопоставлены мудрость мудреца и простеца (и то же самое мы видим в речениях Irefranesl Санчо – позднейшей версии притч простолюдина /proverbs au villain/). Такой наглядный контраст проистекает из евангельской истины, что и простой человек и ученый книжник имеют доступ к кладезю мудрости, что если не буква, то дух Закона может быть понят каждым»[38]38
Leo Spitzer, «Linguistic Perspecitvism», pp. 225–226,271. Диалоги Соломона и Маркольфа – старинный латинский текст, известный по изданию середины XV века.
[Закрыть].
«Явление» в художественном понимании Достоевского
Опустив прочие толкования смысла и содержания лингвистического перспективизма, обратимся к Достоевскому и зададимся вопросом: если экфразис это транспозиция/перенос зрительно-чувственных образов в словесную ткань, что именно автор хотел перенести и показать читателям в романе Идиот?
Много раз отмечалось, что Достоевский, решив написать откровенно учительный роман, «главная мысль» которого – «изобразить положительно прекрасного человека», хотел иметь перед своим мысленным взором конкретное, образное воплощение идеала прекрасного. Без этого он не мог бы выполнить свою задачу, о чем и писал С. Ивановой: «Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь… На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уже конечно есть бесконечное чудо. (Всё Евангелие Иоанна в этом смысле; он всё чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного» (28: 2, 251). Выбранные и намеренно повторяемые Достоевским выражения: «изобразить», «явление», «явление лица», «изображение положительно прекрасного», «прекрасное есть идеал», а «идеал… еще далеко не выработался», «одно только положительно прекрасное лицо – Христос», «явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица … есть бесконечное чудо», и тут же о Евангелии от Иоанна: «…чудо в одном воплощении, в одном появлении прекрасного» – все эти выражения, которыми он сам себе, как творцу-создателю пытается объяснить главную мысль и задачу еще только начатого романа, полны религиозно – символического смысла. Но не менее заметно и единое генетическое зерно этих высказываний, сущность которых может быть явлена в образе.
Семантико-морфологическое значение лексемы изобразить – изделать, создать образ. Воплощение – это показ во плоти, обращение в плоть, а явление – приход, прибытие, появление во плоти, в лике, в облике «бесконечно прекрасного лица», «положительно прекрасного человека». Опуская отступления в феноменологию и психологию художественного творчества, можно заметить, что Достоевскому как автору-творцу задуманная им идея целого представлялась как картина – не икона, а именно картина[39]39
Принципиально иную интерпретацию романа, его финала и финалов всех пяти романов, составляющих «пятикнижие» Достоевского, предлагает Татьяна Касаткина, «Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского», Достоевский в конце XX века, ред. Карен Степанян (М, Классика Плюс, 1996), стр. 67-137; «Идиот» – стр. 94-117. Противопоставление: икона – портрет/картина (стр. 97) основано на том, что икона создается по принципам Фигуры-Типологии, в то время как портрет лежит в сфере миметического отражения и воспроизведения действительности. Обращаясь к толкованию романа Идиот через Фигуру – икону – Типос (Typos), исследовательница особо подчеркивает важный текстуальный момент: в романе нет ни одного изображения икон – образов Иисуса Христа, Богородицы, почитаемых святых. Даже когда об участниках изображаемых событий сообщается, что они молились, о самом Святом образе, перед которым они молились или затепливали лампаду, не говорится ничего. Касаткина в первых же строках своего исследования указывает, что она говорит именно о религии, о связи человека с Богом, которая присутствует во всех романах Достоевского именно как «связь» (я бы добавила и акцентировала – как связывающее присутствие). Методы интерпретации, предложенные Касаткиной, можно толковать как особого рода транспозиции, но сами «переносы» перемещают литературно-художественные тексты на территорию религиозной антропологии, связи устанавливаются с позиции православной христологии и указывают на «предлагаемый автором романов „исход“ из мрака романной „действительности“» (67). Проблемы религиозного иконописания, Типологии, Фигуры (Figura-Typos), трактуемые Павлом Флоренским в его специальных трудах о композиции иконостаса и обратной перспективе, в данной работе об экфразисе не рассматриваются. Прибегая к интерпретациям Эриха Луербаха и ссылаясь на толкования Типологии в нескольких Энциклопедиях Христианства и в работах по библейскому экзегезису, можно показать, что Фигура-Typos и экфразис лежат по разные стороны мимезиса. Экфразис – способ словесной передачи полных «жизненности» образных представлений, Фигура – категория религиозно-метафизического умозрения.
[Закрыть]. Он издавна считал своей главной задачей показать «человека в человеке». Стремясь к этому в новом, только еще создаваемом романе, он избрал себе ориентиром не слово Евангелия о явлении миру Мессии (Христа, Иоан 1. 41, 4. 25), а картину, содержанием которой станет «явление», приход к людям, появление «бесконечно прекрасного лица» перед их глазами[40]40
В письме к Софье Ивановой подчеркнуто: «Всё Евангелие Иоанна». По Симфониям и Конкордансам на книги Ветхого и Нового Завета (Strong's Concordance with Hebrew and Greek Lexicon) лексемам «приходить», «являться» во многих европейских языках соответствуют слова с корнями: to come, to appear, to manifest/in.. form/ (Mr. 9.4; 16.9; John 3.22–26; 21.1, Acts 9.17): cp. англ. «Chrisfs Coming to the People», «Christ Appears to the People» и название картины Александра Иванова: «Явление Христа народу». В истории европейской живописи работа этого русского художника остается единственной по названию, сюжету, композиции и способу передачи слов Иоанна об Иисусе и о последовавших за ним.
[Закрыть]. Реально созданные живописцами или воображаемые картины явления-появления служили Достоевскому внутренним ориентиром, задавали направление его творческому ввдению. Достоевский воспринимал «явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица» как «бесконечное чудо», и само чудо явления носилось перед его авторским воображением словно живая картина, но аллюзий и межтекстуальных отсылок к реально существующим полотнам (даже к работе Александра Иванова) он избегал[41]41
Упоминаний о работе Александра Иванова «Явление Христа народу», которую Достоевский не мог не видеть в Петербурге, нет во всем корпусе произведений Достоевского.
[Закрыть]. Подобного рода экфразисное, но не демонстративно указующее на архетипическую модель изображение лица князя Мышкина находим в первых строках вступительной главы романа:
«Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек лет двадцати шести или двадцати семи /следует описание, в котором нарочито отмечено, что он был «очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою почти белой бородкой»/… Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, тонкое и сухое, но бесцветное» (8, 6).
Анна Григорьевна вспоминает, что в Дрезденской галерее они сразу обратили внимание на работу Караччи «Спаситель в молодых летах» (по каталогам середины XIX в. – «Christuskopf». «Голова Христа»). Полотно Карачи и ей особенно понравилось, – пишет она, а над строкой добавляет, что «эту картину очень высоко ставит и любит Федя», как и картину Тициана «Спаситель» или «Zinsgroschen: Христос с монетою», которую он особо выделял среди других изображений Христа, говоря, что она «может стоять наравне с Мадонною Рафаэля. Лицо выражает удивительную кротость, величие, страдание…»)[42]42
А.Г. Достоевская, Дневник, стр. 12.
[Закрыть]. Оба художника изображали Христа «густоволосым», Караччи – со светлыми локонами и коротенькой светлой бородкой, Тициан – с более темными, каштанового цвета волосами. Автор романа Идиот доверяет способности читателей подыскать аналоги данному им изображению, но избегает конкретизующих уточнений и отклоняет наличие близкого сходства с наиболее известными портретами. Зная полный текст романа и принимая во внимание весомость экспрессивно-импрессивного компонента описания, можно понять, что указание лишь на общую формулу архетипа добавляет различиям смысловой многозначительности: по выражению глаз (экспрессия) можно угадать (импрессия) падучую; лицо бесцветно (выявляет некую ущербность телесности, жизненной энергии)[43]43
У Тициана и Караччи краски ярки, интенсивны, в выражении лица Иисуса нет оттенка слабосилия, болезненности.
[Закрыть]. Прямое указание на эпилепсию и тяжелое выражение глаз отметает возможность аналогий с иконописными работами. Но это и не тургеневский словесный портрет действующего лица, созданный по формуле: «костюм + внешность = характер и личность». Это именно экфразис, словесное описание, построенное по экспрессивио-импрессивному субъектно-объектному принципу, направленное на объяснение, «что это значит», но в данный момент задерживающее изъяснение того, что имено заключает в себе подобное изображение[44]44
Убедительное прочтение смысла, содержания и идеи через «плоть» жизненного явления по отношению к портрету князя Мышкина с особым вниманием к деталям описания его внешности, костюма, направления взгляда, жеста и речевых интонаций дано Акимом Волынским, см. А. Волынский, Достоевский (СПб, 2007), стр. 117–127. Елена Толстая суммирует открытый Волынским способ прочтения «пластики плоти» у Достоевского: «Достоевский расплавлял всё видимое, всё материальное в мир идей, непосредственно управлявших миром плоти… этот художник, при всей изумительной высоте духовных полетов, смотрит в бездны мира через подвижные линии и формы плоти, в их капризных сочетаниях и мистически-чувственной игре», Елена Толстая, Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского (Иерусалим, Москва, Мосты культуры, 2013), стр. 279, 281.
[Закрыть].
Как было отмечено, лучше всех картинно-изобразительное, пластическое начало в повествовательной ткани романа понял А.Н. Майков, Сразу по прочтении начальных глав Идиота в Русском вестнике он распознал прорыв в экфразис. Из письма в письмо он подбадривал Достоевского, с энтузиазмом отзывался о прочитанном, называл роман «поэмой», «картиной», сравнивал с живой картиной: «… сколько силы, сколько мест чудесных! Как хорош Идиот!». Хотя самому Майкову больше по душе спокойная колористическая гамма жанровых картин, он был в восхищении от того, как ярки и пестры все лица, освещенные каким-то «электрическим огнем, при котором самое обыкновенное, знакомое лицо, обыкновенные цвета – получают сверхъестественный блеск, и их хочется как бы заново рассмотреть… В романе освещение, как в Последнем дне Помпеи»[45]45
О своих стихотворениях, сюжеты которых разыгрывались как живые картины, Майков писал Достоевскому в 1868 г.: «… в жудожеств<енном> клубе был устроен на 19 февр<аля> вечер с живыми картинами: 1) На мою „Ниву“ – прелесть что за картина! 2) На мою „Картинку“… и громадная картина, для которой было отведено 1/8 зады – апофеоз…». В этом же письме: «Рад, что моя Царевна вам понравилась; мне тоже очень нравится живая картина». См об этом: Наталья Ашимбаева, «А. Майков, Письма к Достоевскому 1867–1878. Вступительная статья – Тексты – Примечания» 11 Достоевский: Контекст творчества и времени (СПб: Серебряный век, 2005), стр. 114, 107–111.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?