Текст книги "Содом тех лет"
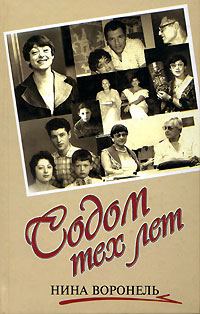
Автор книги: Нина Воронель
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
Так выглядит настоящий бродвейский спектакль сегодня, так выглядел он тридцать лет назад, и надеюсь, так он будет выглядеть через тридцать лет. Но, несмотря на это постоянство, в жизни американского театра произошли революционные перемены, полностью изменившие его лицо и превратившие его из театра исключительно коммерческого в богатейшую в мире лабораторию, занятую поиском и разведкой нового.
Все началось с того, что Бродвей не мог предоставить работу всем желающим посвятить свою жизнь театру. Сотни безработных актеров, режиссеров и театральных художников обивали пороги существующих театров, готовые на полуголодное существование в смутной надежде, что перед ними когда-нибудь откроются заветные двери. Но годы шли, а двери не открывались. Безработные и нищие артисты всех театральных профессий все ясней и ясней понимали, что у большинства из них нет никакой надежды разрушить десятилетиями существующую традицию театра «хэппи-энда», связывающую истинного художника по рукам и ногам своей косностью и коммерческой предусмотрительностью.
И тогда возникла идея нового, экспериментального, театра, цель которого – не создание товара для заработка, а поиск и риск. Театра, идущего в ногу с культурными веяниями сегодняшнего дня, театра, способного говорить голосом затерянной в толпе одиночки, театра, пытающегося сохранить индивидуальность в эпоху «восстания масс». Из удачного сочетания творческого поиска с нищетой и отчаянием творческой единицы возник некоммерческий, «внебродвейский театр» – так называемый «офф-Бродвей».
И бросил вызов бродвейскому театру. Казалось бы, что плохого в богатстве, тем более что бродвейское богатство зачастую бывает довольно хорошего вкуса и, уж во всяком случае, высочайшего профессионального класса. Но именно богатство раз и навсегда закрывало двери Бродвея для всего смелого, нового, ищущего. Ибо вложенные деньги не допускают риска.
Поэтому коммерческий театр не может и не хочет приютить под своей крышей полуголодных безумцев, чудаков, готовых на нищету и неустроенность ради служения искусству, а не ради высокой прибыли. И чудаки, испив полной пригоршней всего, что положено испить чудакам, и потеряв надежду приобщиться к миру обеспеченных и преуспевших, каким-то чудом объединились и начали собственное дело.
Десятки и сотни маленьких театриков рассыпались по нью-йоркским трущобам. Засверкали не очень ярко, ибо театральный свет страшно дорог, – но засверкали огнями рампы в полуразрушенных холодных подвалах и чердаках.
Где-то в стороне от Бродвея небольшие группки – без денег, без посторонней помощи и без особой надежды на успех – начали создавать экспериментальный театр.
Поначалу ставили классику в собственной обработке, потом начали появляться свои офф-бродвейские драматурги – они писали не всегда хорошо, но зато дерзко и вызывающе, – и новоиспеченные театры начали практиковать постановки новых удивительных пьес, не рассчитанных на широкого зрителя. Зачастую в них не было не только сюжета, развивающегося по правилам, но даже сюжета, развивающегося против правил. Бродвейские продюсеры забеспокоились – никто не любит конкурентов, даже нищих.
На ноги был поднят профсоюз актеров, офф-Бродвею была объявлена война. Был разработан суровый свод правил, ограничивающий коммерческие возможности офф-бродвейских театров. Эти правила предусматривали все: цену билетов, количество мест в зрительном зале, оплату актеров, продолжительность спектаклей, – и рассчитаны они были на скорейшее и надежнейшее удушение новорожденного в колыбели. Но младенец оказался на редкость живучим: он рос и развивался, несмотря на все попытки его уничтожить.
Под натиском безработной актерской массы, жаждущей играть и уставшей безнадежно штурмовать бродвейскую сцену, дрогнуло сопротивление союза актеров. Шаг за шагом шел он на уступки, смягчая суровость анти-офф-бродвейских запретов, и к середине пятидесятых годов вдруг стало ясно, что начинается коммерческое преуспевание офф-Бродвея. Конечно, не все театры, начавшие борьбу с Бродвеем, сумели привлечь публику и постепенно поднять плату за вход, не все сумели отремонтировать зрительные залы, а то и перебраться в новые, более уютные и вместительные; расцвет, как это и положено расцвету, сопровождался банкротствами и крушениями слабых.
Зато выжившие заняли к концу пятидесятых годов вполне обеспеченное положение в театральном мире Америки, хоть и старались по мере сил сохранить экспериментальный новаторский характер представлений. Но мера сил была уже не та. Я видела один из офф-бродвейских мюзиклов – музыкально-сценическую обработку романа Вольтера «Кандид». Шла уже середина семидесятых годов, и офф-Бродвей давно перерос свой молодой задор: режиссура была, правда, в меру изысканной, кордебалет не выглядел столь беззастенчивым и откровенным подражанием кабаре, как это обычно бывает на Бродвее, действие разыгрывалось в самых неожиданных местах – иногда даже под потолком, так что зрителю приходилось непрестанно крутить головой, а то и перегибаться через спинку кресла, чтобы видеть происходящее. Зато цена билетов почти сравнялась с бродвейской, и наверно поэтому создатели спектакля так и не решились показаться смелыми новаторами. А, может, они уже ими и не были.
Но это не означает, что новаторские тенденции нью-йоркского театра иссякли вместе с одряхлением офф-Бродвея. На смену офф-Бродвею в середине шестидесятых годов так же стихийно и дерзко вышло на подмостки новое незаконное дитя театральной музы – так называемый офф-офф-Бродвей, то-есть, вне-вне-Бродвея.
Интересно, что офф-бродвейские продюсеры встретили его появление точно так же, как когда-то их самих встретили бродвейские воротилы: они спешно издали серию правил, направленных на удушение непрошеного конкурента. По этим правилам, например, билеты в офф-офф-бродвейском театре не могут быть дороже жестко определенной ничтожной суммы, а количество мест в зрительном зале не должно превышать сотню. Суровые правила эти действуют безотказно, но, как ни странно, именно они обеспечивают бесперебойную работу сложного театрального механизма, призванного поддерживать высокий уровень театральной культуры.
Ведь в результате всех этих ограничений никакой спектакль принципиально не может покрыть затраченных на постановку денег, и это сразу развязывает руки постановщику: он думает только о решении профессиональных проблем, а не коммерческих, которые ему решить все равно не дано. Расходы покрываются из специального фонда, ибо вся деловая часть держится на так называемой системе «грантов», т. е. подарков-пожертвований, получаемых каждым театром в зависимости от его успехов.
В Америке существует бесчисленное множество специальных союзов, объединений и фондов, собирающих деньги на распределение таких грантов. Преуспевающий офф-офф-бродвейский театр, типа «Манхэттенского театрального клуба» или «Ла мамы», насчитывает около сотни жертвователей-покровителей. Имена их печатаются обычно в нижней части программки под перечнем действующих лиц и исполнителей, так что тщеславные меценаты могут наслаждаться своеобразным отблеском театральной славы. Тем временем более практичные радетели искусств могут радоваться, что столь ловко обошли налоговое управление: по американским законам часть прибыли, израсходованная на благотворительность, облагается гораздо более низким налогом, чем истраченная на собственные нужды.
Эта подробность очень стимулирует благородные порывы американских любителей наук и искусств: и благодаря ей несть числа благотворительным стипендиям и всяким другим щедрым пожертвованиям на развитие всевозможных духовных и неприбыльных начинаний. Всякий офф-офф-бродвейский театр изо всех сил старается поставить что-нибудь пооригинальней и поинтересней, ибо слава в профессиональном мире привлекает к театру внимание жертвователей.
Едва, например, спектакль по моим пьесам получил высокую оценку в «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Ньюс» и «Виллидж Войс», в наш театр тут же потянулась цепочка представителей разных фондов, распределяющих гранты на постановки. Не знаю, кто из них сколько дал, но удовлетворенные лица директора и администратора подтверждали мое предположение, что урожай неплохой, и на следующий спектакль планировалось взять напрокат цветной кинопроектор, чтобы снимать отдельные сцены на пленку – из чего следовало заключить, что деньги на эти дорогостоящие аттракционы обещаны.
Что касается актеров, то они от офф-офф-бродвейских спектаклей имеют только профессиональное удовлетворение, ибо каждый актер получает за весь период (месяц ежедневных репетиций и три недели представлений) не более ста долларов, то есть всего ничего.
И все же, несмотря на ненадежность, необеспеченность и неприбыльность актерской карьеры, не оскудевает людьми театральное поле. Сотни и тысячи актеров осаждают некоммерческие театры, чтобы получить роль, не сулящую, по сути, ни денег, ни карьеры. Ведь только единицы пробиваются туда, где платят, окружают почетом и подписывают контракты. Девяносто процентов американских актеров находятся в состоянии перманентной безработицы. На деньги, полученные за дни репетиций и постановок, долго не проживешь, – значит, требуются дополнительные заработки. И актеры не гнушаются никакой работой: они моют посуду в барах, гнут спину над чертежными досками; если повезет – стоят за прилавком. Но не оставляют театр!
Эта ситуация, конечно, трагична для каждого в отдельности, но именно благодаря ей возник тот невероятный профессионализм, который поражает во всех краткосрочных спектаклях, обреченных сойти со сцены через три недели после премьеры.
Нет, отнюдь не бедна талантами офф-офф-бродвейская сцена. Напротив, мне редко приходилось сталкиваться со столь высокой концентрацией первоклассных профессионалов, какую я увидела в офф-офф-бродвейских спектаклях. И немудрено: ведь на каждую роль у режиссера бывает выбор, по крайней мере, из двадцати человек, а на некоторые роли число претендентов доходит до пятидесяти. Непринятые, не теряя надежд, бегут дальше в поисках других театров, объявивших очередной «кастинг»…
Мое понимание сложной структуры нью-йоркской театральной жизни по сути началось не с момента репетиций моих пьес, а со знакомства с профессором Нью-Йоркского университета, театроведкой Розеттой Ламонт. Розетта Ламонт, кругленькая, пухленькая и аппетитная, как ханукальный пончик, всегда точно знала, где, что и когда что следует смотреть. Она пришла на мой спектакль, а после представления, представившись, немедленно пригласила меня на новый чудо-спектакль нью-йоркского авангарда.
Я, естественно, была в восторге, – так вот сразу попасть в самый центр событий! Похоже, по мановению волшебной палочки сказочный «Сезам» начал отворять передо мной двери таинственных пещер Алладина. Первая пещера оказалась весьма оригинальной.
Такси миновало Гринвич-Виллидж и углубилось в угрюмый район, где я не хотела бы в сумерках очутиться без провожатых. Дома вокруг казались нежилыми, они напоминали заброшенные склады, набитые старой рухлядью, редкие прохожие выглядели подозрительно и обходили друг друга с явной опаской. У открытых дверей неуютных питейных заведений неприкаянно толпились группки мрачных мужчин, все вокруг носило печать многолетней нищеты и запущенности.
Такси притормозило у неприветливой подворотни, замыкающей темную арку. В тени арки нас поджидал красивый чернобородый индус – главный редактор интеллектуального альманаха «Театр сегодня». В глубине подворотни скалилась щербатая черная дверь, на которой белой масляной краской было небрежно написано: «Театр-сюрприз Ричарда Формана».
Пока Розетта Ламонт вела приглушенные переговоры с лохматым пареньком в бахромчатых джинсах, индус рассказывал мне о Ричарде Формане. Десять лет назад он начал как блестящий и дерзкий молодой режиссер, полный озорных причуд. Все восхищались им, каждый его спектакль был сенсацией, но никто из коммерческих бродвейских воротил им не заинтересовался, ибо его фантазии не могли привлечь широкую публику, то есть сделать кассовый успех.
Годы шли, молодость сменялась зрелостью, блеск начал тускнеть, острота все больше приперчивалась злостью. И сегодня у Ричарда Формана есть имя, есть этот сарай, что, впрочем, не так уж плохо, ибо сарай хорошо оснащен и просторен, есть небольшие пожертвования, которые позволяют ему продолжать творческие поиски. «Но что-то ушло, – вздохнул индус. – То ли мы повзрослели, то ли вино начало потихоньку превращаться в уксус».
Розетта, завершив свою беседу, окликнула нас: «Пора!» Никто не спрашивал билетов, и только тут я сообразила, что мы приглашены на генеральную репетицию, а не на спектакль.
Мы остановились в узком проходе между тусклой зеленовато-коричневой стеной и амфитеатром, высоко уходящим под беленный известкой потолок. Никакого сценического возвышения или подмостков, собственно, не было, была просто игровая площадка с хорошо отлаженным, роскошным набором театральных прожекторов.
К тому времени я уже знала, что самое дорогое в нью-йоркском театре – свет. Выходило, что Ричарду Форману жаловаться не на что. Впрочем, он и не жаловался. Он сидел на складном стуле между сценой и амфитеатром, уши его были прикрыты наушниками, руки ловко управляли пультом, включающим серию магнитофонов. Он был лыс, высок и очень сутул, синий тренировочный костюм болтался на нем мешком.
Он небрежно махнул рукой в сторону амфитеатра: садитесь! Я глянула по направлению, указанному его рукой, и ахнула: не то что кресел – даже стульев не было: высоко и круто уходили вверх ярусы деревянных насестов. Самый нижний поднимался метра на полтора над сценической площадкой, верхний растворялся где-то высоко в полутьме под потолком. К насестам вела крутая лесенка типа пожарной, вскарабкаться по которой требовало недюжинной отваги.
Там уже сидело человек пять-шесть, вид у них был взъерошенный и слегка встревоженный. Мы попытались было сесть в первом ряду, чтобы не карабкаться вверх, но Форман оторвался от своих магнитофонов и сердито рявкнул: «Выше, выше! Чем выше, тем лучше видно!» С ужасом заглядывая в зияющую под ногами пустоту, мы поднялись выше и сели в ряд на чуть пружинящей под нами неструганой доске. Ноги упирались в тонкую жердочку, натянутую над трехметровой пропастью.
Начала представления я просто не заметила, поглощенная одной задачей – не сверзиться вниз в темную и вполне вместительную щель. Оторвав наконец взгляд от завораживающей глубины под ногами, я подняла глаза на раздвигающийся занавес – как ни странно, но в этом модернистском спектакле каждая картина сопровождалась уютно-традиционным шорохом раздвигающегося занавеса. Открывшаяся за занавесом сцена была красоты невероятной: задняя стена представляла собой черно-белую шахматную доску с державшимися на ней чудом странными черно-алыми фигурами, пол был черный, боковые стены – белые, а по черному полу медленно и плавно катилось по диагонали большое алое яблоко. Я вспомнила, что спектакль называется «Отравленное яблоко», но, честно говоря, так толком и не поняла, о каком яблоке шла речь; скорее всего – о яблоке, сорванном по наущению змия-искусителя с древа познания, но за окончательность трактовки не ручаюсь.
Фигуры на шахматной доске зашевелились – оказалось, что это раскрашенные головы участников спектакля, просунутые сквозь дыры в расчерченном под шахматное поле картоне. Никто из участников спектакля не произнес ни слова – за всех говорили магнитофоны. Магнитофоны жили как бы отдельно от действия, они непрерывно толковали – хором, сольно и вразнобой, они обсуждали теологические, философские и эсхатологические проблемы, озабоченные в основном скорой гибелью нашей цивилизации. Актеры в это время сомнамбулически двигались по сцене, группируясь в живые картины, сплетаясь в замысловатых танцах, переодеваясь в разноцветные одежды.
Никакого намека на сюжет не было. Была прекрасная, если верить магнитофонным голосам, девушка Рода, к которой все они обращались – каждая сентенция начиналась восклицанием: «О Рода!» Постепенно я вычленила из толпы участников предполагаемую Роду, она и впрямь была хороша собой, а рядом с ней функционировала некая группа картофелин, с которыми происходили всякие ужасы: их очищали от кожуры, а иногда прямо в кожуре и варили, их резали на куски, их зажаривали, складывали в мешки, закапывали в землю.
Магнитофоны прямо надрывались от жалости и сочувствия к ним, и я постепенно пришла к убеждению, что картофель изображает простые народные массы, с судьбой которых никто не считается. Когда по истечении двух с половиной часов весь картофель окончательно извели, изжарили и сгноили, Рода, любовавшаяся этой картиной с балкона, в экстазе начала срывать с себя одежды под медленную засасывающую музыку.
Раздевшись догола, она грациозно спустилась по лестнице вниз и, повернувшись к залу спиной, начала медленно удаляться, чуть покачивая прелестным, круглым, как яблоко, задом. Перед ней одна за другой раздвигались стены, открывая довольно внушительное для маленького театра пространство: похоже, оно было раза в четыре больше зала. На последней стене наподобие закатного солнца сияло огромное алое яблоко, сильно смахивавшее на задницу Роды, выкрашенную в красный цвет.
Воздев руки то ли в отчаянии, то ли в восторге – нельзя было сказать точно, ибо магнитофоны смолкли, не утруждая себя объяснениями, – Рода устремилась к нему, и занавес закрылся. Подождав Розетту, отправившуюся выражать наши чувства Форману – я уверена, что она была не вполне искренна, расхваливая спектакль, – мы вышли на пугающе пустынную темную улицу…
«А на будущей неделе мы пойдем в Линкольн-центр на новую постановку «Агамемнона», – сообщила Розетта, и я подчинилась ей беспрекословно. Если б не она, я бы ни за что не пошла: во мне с юности жил ужас перед классической драматургией. Благодаря Розетте я этот ужас сумела преодолеть – выхода не было, она объявила, что каждый «интеллигентный человек» обязан «это» увидеть.
Линкольн-центр – это вам не сарай Ричарда Формана на заплеванной Бейкер стрит, а роскошный дворец культуры, куда настоящие дамы приезжают в лимузинах, чтобы не измять вечерние платья. Мест на сцене, как того жаждала Розетта, не оказалось – все уже были распроданы, и нам пришлось удовольствоваться местами в партере, вполне хорошими и безумно дорогими. Утешая себя тем, что распроданные места на сцене еще дороже, я спросила Розетту, зачем сидеть на сцене. Но она только усмехнулась: «Увидите!»
Началось представление. Никакого занавеса не было и быть не могло: сцена занимала всю среднюю часть зала, простираясь по его длине от стены до стены, с трех сторон окруженная уходящим вверх амфитеатром кресел. Только узкая дорожка соединяла ее со входом за кулисы. Центральная же часть сцены была сделана из какого-то прозрачного материала, напоминающего стекло, – а, может, это и было стекло, – так что зрители видели все, что происходит на нижней, подвальной по отношению к сцене, площадке.
Там внизу, наподобие пестрых рыб в аквариуме, мерно двигались разноцветные толпы – они сплетались в причудливых хороводах, зажигали и гасили факелы, а время от времени поднимались на верхнюю площадку, сопровождая все это действо стройным многоголосым пением. Наверх они восходили мерными рядами по широкой мраморной лестнице и исчезали за кулисами, чтобы появиться на лестнице снова и снова, создавая этим впечатление миграции народов.
Но это был только фон. Главное действие происходило на верхней площадке. Оно напоминало, скорей, балет с декламацией, а не драматическое представление. Время от времени треть амфитеатра, непосредственно примыкающая к ведущей за кулисы дорожке, вдруг медленно и бесшумно приподнималась над сценой и повисала в воздухе, чуть-чуть отодвинутая от центра, так что зрители смотрели спектакль совсем сверху, вроде как с потолка. Теперь стало понятно, почему эти места так дороги.
Во всем представлении была завораживающая красота, создающая ощущение участия в ритуальных обрядах неведомого языческого культа, так что вся фантастическая структура древнегреческих трагедий – в спектакле объединили «Ифигению» с «Агамемноном» – вдруг представилась мне неожиданно реалистической и современной. О скуке не могло быть и речи, но когда я в антракте бросилась благодарить Розетту за доставленное удовольствие, то, к своему удивлению, обнаружила, что она вовсе не очарована увиденным. «Боже мой! – восклицала она, по-оперетточному заламывая пухлые ручки. – Так все опошлить!» И в ответ на мой недоуменный взгляд рассказала мне историю этого спектакля.
История эта началась где-то в середине шестидесятых годов, на самой заре офф-офф-Бродвея. Многие из возникших тогда экспериментальных театриков гибли, не протянув и до конца сезона, а на смену им приходили новые, тоже зачастую недостаточно жизнеспособные. Однако некоторые все же набирали силу и высоту. Первыми среди них были два «театра-кафетерия» – «Капуччина» и «Ла мама».
«Капуччина» в течении нескольких лет с блеском продержала первенство, но не выдержала, сошла с круга и где-то в конце шестидесятых канула в небытие. А «Ла мама» тихой сапой выбилась в первый ряд и на много лет закрепила за собой место законодателя внебродвейской театральной моды.
В туристическом справочнике по Соединенным Штатам упоминаются два театра, посетить которые справочник рекомендует особенно настоятельно, утверждая, что иначе турист из Европы не сможет похвастаться, будто он видел Новый Свет. Один из них – это «Ла мама» Эллен Стюарт, другой – «Шекспировский фестиваль» Джо Паппа.
Трудно сейчас сказать, что именно было причиной столь блистательного взлета «Ла мамы», но несомненно, что немалую роль сыграла в этом личность Эллен Стюарт – создательницы и бессменного директора театра. Чего только ни рассказывают о ней в театральном мире Нью-Йорка: что она ненавидит американский театр и из кожи лезет, чтобы уподобить его европейскому, что она проводит большую часть своей жизни в поисках новых драматургов, режиссеров и актеров, но главное – что она твердо держится за статус офф-офф-бродвейского театра, хотя давно могла бы превратить «Ла маму», с ее известностью и репутацией, в золотое дно.
Подтверждением последнему может служить длиннейший список спектаклей, начавших жизнь на подмостках «Ла мамы» в виде экспериментального эксцентрического виража и закончивших ее (или продолжающих и сейчас) на сценах самых преуспевающих бродвейских предприятий. К ним относится и «Агамемнон», второй спектакль из греческой трилогии «Ла мамы».
Режиссер этой трилогии, румын по происхождению, Андрей Шербан, – находка Эллен Стюарт. Она подобрала его во время какой-то своей европейской поездки, безработного и неприкаянного, выслушала, увлеклась его идеями и привезла в Нью-Йорк. Начал он с постановки «Медеи» – я этого спектакля не видела, но легенды о нем до сих пор бродят по театральным барам и кафе Нью-Йорка. Говорят, что все действие происходило на упругой металлической сетке, натянутой над головами зрителей, и что успех «Медеи» побудил «Ла маму» приступить к созданию новой сценической версии «Агамемнона».
По утверждению Розетты – а она в этом деле собаку съела, – спектакль в «Ла маме» был во столько же раз лучше своего парадного повторения в Линкольн-центре, во сколько раз скромнее. Не было мощных, подавляющих совершенством механических приспособлений, не было сверкающих золотым шитьем дорогих костюмов, не было грандиозных карнавальных шествий, зато был истинный трепет, истинная изобретательность и истинное режиссерское мастерство, – не надуманное штукарство, а попытка воплотить неумирающие страсти древней мифологии в соответствующую им гармоническую форму.
Что ж, это и есть тернистый путь, которым проходит сегодня истинное искусство от экспериментального поиска к общепризнанному успеху. Я выбрала случай безусловного таланта и безусловного успеха – ибо он с особой убедительностью отражает все потери и находки, сопровождающие творческий процесс с момента зарождения замысла до его наиболее полного публичного воплощения.
Ведь вряд ли Андрей Шербан хотел опошлить свой первоначальный замысел – по всему видно, что он человек с недюжинным вкусом и пониманием. Но он вынужден был это сделать, и не столько для удовлетворения своего непосредственного заказчика – дирекции Линкольн-центра, сколько для удовлетворения заказчика истинного, имя которому массовый зритель. В стенах изысканной «Ла мамы» можно было позволить режиссеру создавать шедевры для элиты, но общедоступные подмостки предъявляют свои требования, и широкий кассовый успех неизбежно связан с потерями.
Мне довелось услышать, что говорит об этом сама Эллен Стюарт, встречу с которой я отношу к числу немногих счастливых случайностей моей жизни. Я пришла в американское посольство в Тель-Авиве, чтобы послушать доклад о состоянии современного американского театра. Там я узнала немало любопытных вещей, – в частности, оказалось, что театр в Америке называют явлением ПОДПОЛЬНЫМ (!), ибо в этой стране нет Министерства культуры, поддерживающего и субсидирующего театр, как это принято в Европе, и он существует исключительно на свой страх и риск.
Все немного посмеялись и вдруг затихли – по рядам пробежал трепет, и в зал быстрым шагом вошла высокая седая негритянка в черных замшевых сапогах выше колена и в ярко-красном замшевом жакете почти до сапог, юбки в просвете между сапогами и жилетом я не заметила. В ушах у нее мерно покачивались огромные, с розетку для варенья, ажурные золотые серьги. По холодку, прокатившемуся по моей спине и перехватившему дыхание, я поняла – это она, Ла Мама!
Я много слышала о ней от «моего» режиссера Марго Луитин, которая была ее ученицей и проработала в «Ла маме» девять лет, пока не организовала собственный театр. Я знала, что добраться до Эллен Стюарт почти так же трудно, как до президента Соединенных Штатов, – и вдруг увидела ее вживе, прямо перед собой, женщину, определяющую, что такое хорошо и что такое плохо в сегодняшнем театре самого театрального города мира.
Ее попросили сказать несколько слов о современном театре, – вот они примерно, ее слова: «Прошли славные времена, когда театр принадлежал элите. Сегодня нам надо находить путь к сердцу широкой публики. Но это не значит, что мы должны снижать качество своей работы, это значит, что, апеллируя к толпе, которая задает сегодня тон во всех делах, мы должны по-прежнему помнить о задачах и потребностях истинного театра. Это трудное, циничное отношение, но мы должны найти свой новый путь».
Не могу сказать, чтобы этот тезис привел меня в восторг. Мне померещились за ним откровенные высказывания бродвейских воротил, твердо знающих, что зритель голосует ногами, а точней – деньгами, и мне вдруг почудилось, что и офф-офф-Бродвей не так уж юн и что на пороге стоит следующий наглый ниспровергатель.
Как же его назовут? – подумала я. Неужели «офф-офф-офф-Бродвей»? Совсем как Як-ци-драк-ци-драк-ци-дрони!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































