Текст книги "Содом тех лет"
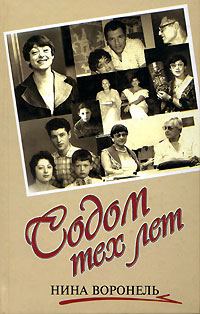
Автор книги: Нина Воронель
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 42 страниц)
Александр Солженицын и Бенедикт Сарнов
Моя любимая подруга Слава, необузданная жена известного литературовода Бена Сарнова, дважды побила моего сына Володю, когда он был ребенком. Первый раз это случилось по дороге из дачного кинотеатра при обсуждении сюжета польского детектива «Девушка из банка», который девятилетний Володя проанализировал лучше, чем она. Импульсивная Слава, возмущенная до глубины души этой ничем не оправданной детской дерзостью, больно огрела его по спине и столкнула в придорожную канаву.
Пару лет спустя Володя, уже перешедший в ранний разряд тинэйджеров, вмешался в наш безысходный спор об искусстве и объявил, что очень скоро электронные машины станут писать и рисовать лучше, чем люди, а люди будут принимать их творения за произведения искусства и восхищаться. Ошеломленная таким чудовищным богохульством Слава начала колотить Володю кулаками и орать: «За такие слова ты в аду сковородки лизать будешь!»
Как ни странно, я все эти выходки ей простила – то ли за непосредственность, то ли за самобытность, то ли просто из любви – к ней и к Бену. Но эта любовь не помогла мне сохранить их дружбу – когда мы встретились после тридцати лет разлуки, оказалось, что за эти годы наши представления о мире разошлись необратимо. Это не могло обойтись безнаказанно.
Дружба наша возникла много лет назад, внезапно и мгновенно. Все началось с того, что мы с Воронелем поджидали своей очереди к такси после какой-то людной тусовки в Доме Литераторов. Прямо за нами стояла нарядная пара чуть постарше нас, и вдруг я услышала, как женщина назвала своего спутника Беном. И тут у меня случилось озарение – я поняла, что это Бен Сарнов, автор восхитившей меня недавно статьи о «Святом колодце» Катаева.
Не останавливаясь на раздумья, я тут же сходу спросила: «Вы – Бен Сарнов?» В голосе у меня прозвенел такой восторг, что любой из нашей литературной братии откликнулся бы обязательно. И Сарнов откликнулся тоже, тем более, что я, не переводя дыхания, стала цитировать выдержки из его статьи. Оказалось, что нам по дороге, и мы втиснулись вчетвером в одно такси. Расстались мы, уже держа в зубах приглашение прийти в гости как можно скорее. Мы и пришли как можно скорее. Воронель и Бен тут же сцепились, как две хорошо подогнанные шестеренки, в одном длинном бесконечном споре, который продолжался долгие годы всюду, где они оказывались рядом.
Как бы ни хорош был Воронель в этом споре, у Бена всегда было утешение, что он еще лучше. Он даже придумал формулировку для своего превосходства – мы были для него «десантники с харьковским (т. е. провинциальным) образом мысли», тогда как себя он зачислял в традиционалисты с московским (т. е. столичным) мышлением. Но, когда мы вернулись в Москву гостями из большого мира, формулировка эта уже не соответствовала ни нам, ни ему.
Мы столкнулись лбами в одной из самых болевых точек современной российской культурологии – в оценке исторической роли вчерашнего кумира, Александра Исаевича Солженицына. Много лет он был кумиром для Сарнова и его круга, а сегодня они повергли его в пыль и топчут ногами. Вот я и вступилась – что может быть печальней зрелища поверженного кумира? А ведь знала, что в чужую драку вмешиваться нельзя – вот и получила по заслугам. Но не вмешаться не могла, – все-таки Солженицын не Сталин и не Дзержинский, чтобы втаптывать его в пыль интеллигентскими импортными башмаками.
Расхождения наши с Беном по поводу взглядов Солженицына на русскую историю по сути отразили глубину той культурной пропасти, которая разверзлась между нами за тридцать лет разлуки. За эти годы я много поездила, во многих странах пожила, много недоступных русскому читателю книг прочла, и увидела свою историческую родину со стороны. Во избежание недоразумений уточняю – исторической родиной я называю Россию, ибо невозможно отменить исторический факт моего там рождения.
Именно Россию я увидела, как один из многих хрусталиков вселенского калейдоскопа, а не как единственное, неотделимое от меня земное пристанище. Я уже вчуже оценила иными мерками эту страну, ее народ и ее интеллигенцию. А Бен как сидел тридцать лет назад на приросшем к его заднице стуле за фигурным столом «с плеча» Ильи Эренбурга, так и по сей день видит российский горизонт в масштабе этого стула и этого стола.
Но дело не только в Сарнове, который как раз и познакомил нас когда-то с Солженицыным, тогда еще молодым и только восходящим к мировой славе. Однако Бен уже тогда, на ранней стадии, эту славу провидел, и страшно перед нами гордился, какие у него блестящие знакомства. Каково же ему было через сорок лет услышать от нас, ездивших в гости к Солженицыну, что тот спросил: «Ну что этот Сарнов от меня хочет? Я его и не видел никогда».
Но не в этой мелкой обиде, конечно, таилась суть моего расхождения не только с Беном, но и со всей прогрессивной московской тусовкой. Мой спор с замшелым либеральным взглядом на судьбы России начался еще в 90-х годах прошлого века, когда я вступила в полемику с Майей Каганской, разоблачавшей российских ретроградов Достоевского и Солженицына в эссе «Осень патриарха».
Помнится, что на полемический ответ Каганской меня побудила пропетая ею в этом эссе вдохновенная ода бороде. «Борода, – вещала она, – это воспоминание о древних культах Земли… это знак, вызов, исповедь и проповедь». Возможно, не выскажись она так высокопарно, не подняла бы я на нее пера. Что мне, в конце концов, до репутации Достоевского и Солженицына в либеральной среде, тем более что их славы не убудет, даже если еще дюжина прогрессивных эссеистов наших дней обзовет их ретроградами.
Но провалы логики во вдохновенном разоблачении Каганской переполнили чашу моего терпения. Не удовлетворясь словарным обозначением бороды как «лицевого волосяного покрова, характерного для приматов мужского пола, достигших половой зрелости», она объявила, что форма бороды определяет не столько лицо как зеркало души, сколько лицо как зеркало русской революции.
Как видно, Каганской все же было трудно вознести бороду на уровень культового знака без ссылки на какой-нибудь высший авторитет. На роль этого авторитета она выбрала Фрезера, этого стихийного дарвиниста в области религиозной мысли, написавшего основные свои труды в конце девятнадцатого века. На русский язык его перевели только в 1980 году, когда созвучность его идей идеям российской философской мысли, отставшей от европейской на целое столетие, сделала его необходимой составляющей «малого джентльменского набора» русскоязычного (т. е. не читающего на других языках) интеллигента. А Фрезер как раз был неравнодушен к бороде, – он объявил ее символом плодородия. Неясно, как с этой точки зрения трактовать бороды, обильно растущие после смерти? Неужто гоголевские мертвецы, до пустых глазниц заросшие бородами, встают из могил, чтобы воплотить идею плодородия?
С помощью Фрезера облюбовав для осуждения бородатую пару Достоевский—Солженицын, Каганская объединила своих героев и по другим статьям, в частности, по особенностям биографии:
«Главное в Солженицыне – от Достоевского: смертная казнь – царская каторга – десять лет сталинских лагерей, оба побывали в аду, у обоих – мировая слава. И никогда еще… ожидания прогрессивного человечества не были так… безжалостно обмануты: вместо призыва к борьбе за свободу и равенство, оба призвали вернуться к… ценностям мистического коллективизма».
С тем, что главное в Солженицыне – от Достоевского, можно согласиться, можно возразить – ведь каждый главным в писателе видит что-то свое. Я, например, главным в Достоевском считаю его способность, расшелушив человеческую душу, как луковицу, дойти до самого сокровенного истока ее низости, а Солженицын в этом деле куда как не силен.
Зато если вернуться к «ценностям мистического коллективизма», открываются интереснейшие аспекты. Что правда, то правда: оба «великих мученика тирании» по возвращении из тюремного ада странным образом отказались от либеральных идей своей юности и, развернувшись на 180 градусов, стали с поразительным единодушием призывать свой народ «вернуться к вере, церкви, нации, государству».
Конечно, сердцу, преданному идеалам свободы и равенства, трудно не осудить столь предательское отступничество двух величайших писателей земли русской. А что если, прежде чем осуждать, попытаться проанализировать и понять?
Ведь даже самый самонадеянный эссеист времен перестройки может предположить, что и Достоевский, и Солженицын, как бы ни были они сбиты с толку своими скитаниями по кругам ада, не могли забыть общеизвестные азбучные истины. Что же заставило их обоих, пусть по Сарнову не вполне заслуженно, но все же заслуживших мировую славу, дружно отречься от этих истин?
Почему оба они начали проповедовать идеи, заведомо обрекающие их на непопулярную репутацию ретроградов? Ведь следует отметить, что свои предосудительные опасения насчет демократии они адресуют собственному народу, который хорошо успели изучить за время, проведенное в аду. Может, есть у них какие-то соображения, нам не столько неведомые, сколь несимпатичные? Может, они знают о своем народе нечто, чего мы не то, чтобы не знаем, но знать не хотим?
Я понимаю, что предлагаю сейчас альтернативу почти неприемлемую для либерального сознания, – я предлагаю предположить, что истина неоднозначна. Ничто так не роднит либералов с ретроградами, как их дружное нежелание признать правомочность, пускай хоть для дискуссии, другой точки зрения, другой системы аксиом, положенных в основу идеологии!
Боюсь, что верность некой общепринятой системе единомыслия тоже входит сегодня в «малый джентльменский набор»: расизм – плохо, гуманизм – хорошо, угнетенные народы – борцы за свободу, угнетатели-министры – душители свободы. И вовсе ни к чему вдумываться, что такое расизм, гуманизм и свобода, ибо все они вместе взятые – это «заповедь, исповедь и проповедь». К черту подробности – главное, чтобы в рифму.
Зато если признать, что истина относительна и зависит от места, времени и точки отсчета, то возникают проблемы почти неразрешимые, и приходится брать на себя ответственность за собственные мысли и поступки. Многим ли это может прийтись по вкусу?
И все же, трезво оценивая всю непривлекательность своей идеи, я настойчиво предлагаю еще раз вчитаться в длинный список цитат из Достоевского и Солженицына, но не с целью их разоблачить, а в надежде понять. Здесь оба они перед нами, как на ладони, и оба совершенно беззастенчиво самоутверждаются в собственном ретроградстве:
Достоевский: «Всеобщее избирательное право – самое нелепое изобретение XIX века».
Солженицын: «Избирательное право – не закон Ньютона, в свойствах его разрешительно и усумниться».
Далось им это избирательное право! Чем оно им так досадило? Жалко им, что ли, чтобы каждый мог свое мнение выразить?
Да что там избирательное право! Зарвавшийся Солженицын идет дальше: чтобы оправдать свой непростительный отход от прогрессивного либерализма, он заносит руку на святая святых гуманизма – на самую идею равенства, называя его «энтропией, ведущей к смерти».
А ведь если дать себе волю подумать, и впрямь – так ли абсолютно непререкаема идея всеобщего равенства? Или «разрешительно в ней усумниться»? Как ни стремлюсь я соответствовать «джентльменскому набору», не могу я заставить себя поверить в свое равенство с Саддамом Хусейном, с членами «Черного сентября» или с отчаянной компанией, спикировавшей 11 сентября на Башни-близнецы. Нет между нами ничего общего, кроме физиологических отправлений, и я бы ни за что не согласилась дать им право голоса при решении вопроса о будущем человечества.
Да и вообще, кто кому равен? И в чем? Старики не равны молодым, женщины не равны мужчинам. Я не ввожу оценочных критериев «лучше» или «хуже», я говорю о различии во всем – в направленности интересов, в эмоциональном складе, в шкале приоритетов. Природа создала нас такими разными не для того, чтобы мы наперекор ей доказывали, что мы друг другу равны.
Мне могут возразить, что речь идет о равенстве прав, а не о равенстве вообще. Что ж, давайте на миг предположим, что возможно равенство прав для неравных – иными словами, равенство прав при неравенстве обязательств, – и в свете этого предположения рассмотрим сегодняшнюю ожесточенную борьбу за запрещение абортов. Чьи права более равны, права нерожденных младенцев «быть или не быть» или права женщин «рожать или не рожать»?
Этот пример сразу помогает найти формулировку: равенство невозможно в случае конфликта интересов. Но жизнь, в отличие от смерти, и есть постоянный конфликт интересов. Значит, равенство возможно только в смерти, что, собственно, и составляет смысл солженицынского утверждения.
Беда в том, что, раз усомнившись, трудно остановиться. Если всеобщее равенство сомнительно, то, может, и всеобщее избирательное право не так уж несомненно? Ведь никто не оспаривает справедливости возрастного ценза, например.
Представим себе, что возрастной ценз применим не только к отдельным личностям, но и к целым народам. Ведь предположение, что разные группы людей, сосуществующие в одном астрономическом времени, существуют при этом так же и в одном времени историческом, логически абсолютно несостоятельно. Из возможности этих групп встретиться в пространстве вовсе не следует, что им суждено встретиться во времени – между ними может пролегать пропасть в несколько веков. Но стоит предположить, что каждый народ живет в собственном историческом времени, как сразу приобретает смысл понятие «возраст народа». Остается только выяснить, что это такое.
Пытаясь ответить на этот каверзный вопрос, я вступаю на зыбкую почву, и потому хочу опереться на общепризнанный авторитет, на этот раз из «большого джентльменского набора». Карл Юнг, знаменитый последователь и ниспровергатель З. Фрейда, утверждал, что существует некое «коллективное подсознательное», характерное для каждого народа. Пока еще неясно, чем именно оно определяется – языком ли, мелодикой ли колыбельных песен или образным строем детских сказок, но ясно, что каждый народ из поколения в поколение воспроизводит свой стереотип, передавая как эстафету некий таинственный код.
Код этот не зависит ни от политических режимов, ни от религиозного уклада, он спрятан глубоко в коллективной народной подкорке и надежно защищен от внешних влияний. Это как бы прочно зашифрованный свод законов, которыми народ руководствуется в самых сокровенных делах, касающихся рождения, смерти, отношений между мужчиной и женщиной, отношений между родителями и детьми. Он, конечно, изменяется во времени, но изменяется медленно, на протяжении многих поколений, и потому кажется незыблемым и неизменным.
Этот код, по-видимому, и определяет возраст народа. Понятие «возраст народа» давно существует как незаконное дитя науки: в социологической литературе нередко можно встретить определения «старый народ» и «молодой народ», хоть никто не указал на их характерные отличия. Однако мне кажется, что именно эти отличия, хоть непоименованные, но реально существующие, и определяют склонность одних народов к демократии, а других – к тоталитаризму.
Для лучшего понимания связи между возрастом народа и его способностью к демократическому укладу, мне кажется, вернее будет определить народы как взрослые и невзрослые.
Что такое «народ» и какой народ можно назвать взрослым?
Определим «народ» как группу людей, объединенных общим коллективным подсознанием, что облегчает взаимопонимание внутри этой группы. Взрослым назовем народ, представители которого готовы взять на себя ответственность за свою жизнь, в то время как представители невзрослого народа нуждаются в авторитарной фигуре «отца», принимающего на себя эту ответственность. «Отец» является подателем и распределителем благ, он может миловать и казнить по произволу, но при этом на него можно положиться, как на каменную стену.
Суть отношений между народом-ребенком и отцом на редкость художественно наглядно выражена при ежедневном исполнении государственного гимна, заключающего программу иорданского телевидения: огромное, во всю стену, изображение нежно-сурового красавца-короля в розовой куфие парит над трепетным хором низкорослых, по-собачьи преданных подданных. «Отец родной! – поют они ангельскими голосами. – Ты наша сила, наша радость, наша надежда!» Совершенно немыслимо представить себе нечто подобное в исполнении американского, английского или израильского телевидения.
Зато в России так было всегда. Гигантские лица вождей осеняли собрания и съезды, их многократно увеличенные указующие персты простирались над головами крошечных прохожих, мельтешащих на уровне громадных бронзовых или мраморных колен этих царственных чудищ. И даже сегодня, когда вчерашние идолы, развенчанные и раскуроченные, поплыли на свалку на крюках подъемных кранов, их изгнание выглядит не более чем негативным вариантом ритуала того же культа отца. Народный гнев, направленный на культовые изображения, на мраморные уши и гипсовые носы, разоблачает незрелые чувства рассерженных детей.
Интересно проследить, как проявилась эта невзрослость в фигурах речи. Русский язык на удивление богат ссылками на постоянную игру в «дочки-матери»: тут тебе и «матушка Волга», и «родина-мать», и «Кузькина мать» и «еб твою мать», и «мать зеленая дубравушка» – на любой вкус.
Недаром русская брань называется матом – вся она построена на изощренном хитросплетении разнообразных бранных слов вокруг имени матери. И как они хитро сплетены порой! А порой ничего и не надо – достаточно просто воскликнуть: «У, мать твою!» – и всем все ясно. Заговор детей, так сказать, потому что весь народ выступает здесь как коллектив недорослей, связанных с матерью пуповиной садо-мазохистской любви-ненависти. Зато никто ни за что не ответствен и неподсуден по причине несовершеннолетия.
Мне думается, что неизбежность падения России в пропасть тоталитаризма в результате любого революционного взрыва определяется этой невзрослостью русского народа.
Собственно, ни на какое открытие я здесь не претендую, об этом много раз было говорено и до меня: как радетели, так и хулители русского народа высказывались по этому поводу с трогательным единодушием.
Вот, к примеру, несколько цитат из книги образцово-показательного российского патриота-антисемита В. Шульгина «Что нам в них (в евреях) не нравится», выбранных на лету из восхитительного их изобилия:
«…русский народ во всей его совокупности женственно несовершеннолетен… для него наивыгоднейшая форма общежития есть Вожачество. К такому вожачеству (в форме ли монархии, диктатуры или иной) русские, понявшие свою природу, будут стремиться».
«Мы из тех пород, которым нужен видимый и осязаемый вожак. При соответствующем вожаке русские могут быть очень сильны. Разительный пример этому – царствование сурового вожака Николая I. Царствование это было вместе с тем золотым веком русской литературы… В катавасии, которую декабристы готовили России, конечно, погиб бы цвет нации: Жуковский, Пушкин, Грибоедов и Гоголь окончили бы свою жизнь на эшафоте, ничего не написав. Ведь на наших глазах в революции погибли все те, кто не успел вовремя унести ноги».
Шульгин писал это в 1930 году в эмиграции – имея за плечами скорбный опыт тринадцати лет торжества народной власти в России. А за двадцать лет до этого, в канун исторического катаклизма 1917 года, знаменитый немецкий социолог, специалист по русскому вопросу Макс Вебер, анализируя причины поражения русской революции 1905 г., видел их, подобно Шульгину, в незрелости народа, которому ни к чему была свобода, навязываемая ему либеральной интеллигенцией. Так же, как и Шульгин, он утверждал, что Россия не дозрела до всеобщего избирательного права, и предсказывал ей неизбежный приход к авторитарному режиму в результате любого, сколь угодно демократического поначалу, грядущего переворота.
Если уж объективно-доброжелательный диагноз Вебера звучит столь согласно с заклинаниями Достоевского образца 1880 года и с поучениями Солженицына образца 1980-го, то чего остается ждать от заведомых хулителей-жидов, вроде Ричарда Пайпса и Александра Янова? Они-то, проклятые, изначально строили свои злокозненные диагнозы и прогнозы на обидной презумпции, что пресловутая российская соборность вкупе с пресловутой общинной собственностью на землю автоматически исключает какую бы то ни было самостоятельность русского народа? И потому они, губительно предопределяя его духовную и экономическую судьбу, приходят к тому же выводу уже с совсем других, либерально-демократических, позиций: нельзя доверить индивидуальную ответственность избирательного права народу, который, если и знает какую-то ответственность, то только коллективную.
Интересно, что во всех упомянутых оценках расхождений никаких нет: и радетели, и хулители судят хоть и несогласованно, но согласно. Согласны они по существу, а не согласованы по недоразумению, так как не сговорились об определениях. И потому предлагают разные способы лечения болезни, природа которой однозначно очевидна и либералам, и ретроградам.
Выходит, мне только и остается, что поставить точки над «i», называя вещи своими именами. Я не хочу умалять важность такой постановки вопроса: еще в молодости, когда я занималась физикой, – был такой грех, – я поняла, что, правильно сформулировав условие задачи, мы практически обеспечиваем ее решение. Мне кажется, что, вводя определение народа «взрослого» и «невзрослого» для характеристики его склонности соответственно к демократии или тоталитаризму, мы можем с неожиданной легкостью прояснить картину многих исторических процессов, до сих пор затуманенную ненаучными, сбивающими с толку эмоциями участников дискуссии.
В свете всего вышесказанного нелепо обвинять Достоевского и Солженицына в ретроградстве: ведь не такой это смертный грех – знать и понимать детскую душу своего народа! И даже их претензии к скучным колбасникам-швейцарцам меняют свою первоначальную окраску – непристойно злобные в устах взрослого, они звучат почти мило в устах ребенка, которому жизнь взрослых кажется скучной. Ему отвратительны взрослые дяденьки и тетеньки, ведущие бесконечно занудные разговоры о политике, ценах и налогах. Народ-ребенок хочет играть в «сыщики-разбойники» или в «дочки-матери» – как же не опасаться той детской бесшабашности, с которой этот народ может злоупотребить равноправием, полученным не по чину, вернее – не по возрасту?!
Ведь справедливости возрастного ценза никто пока не оспаривал. И никто никогда не настаивал на равенстве взрослых и детей при решении судьбоносных вопросов. История не раз показала, к чему приводит неправильно примененная идея равенства: страшная сегодняшняя судьба многомиллионно вымирающих народов Черной Африки – наглядный тому пример. Пока они существовали как неравноправные подданные своих вождей, – хоть черных, хоть белых, – они страдали, но жили, а теперь, утвердив свои карикатурные демократии «a la Afrique», они принялись уничтожать друг друга и враг врага столь ретиво, что скоро уже некого будет спасать от голода, воцарившегося в их демократическом хаосе. Можно подумать, что они ценой жизни целого континента взялись доказать правоту Солженицына, объявившего равенство «энтропией, ведущей к смерти».
Обсуждая идею равенства, В. Шульгин близок к Солженицыну, как и положено ретрограду. Вопрос этот так его волнует, что он даже изменяет своему обычному суховато-деловому стилю и ударяется в поэзию: «Есть ли Равенство – закон Природы или, наоборот, Природа есть роскошная хартия неравенства, выписанная бесконечно-неравными литерами на картах звездного неба? Уравнение в правах людей, совершенно неравных по своим духовным качествам, есть восстание против Природы, каковое восстание не может не караться время от времени…»
Стыдно признаться, но я с ним согласна – может, я тоже из разряда ретроградов? Что ж, раз так, я перейду к анализу еще одного собрата по ретроградству – ибо многое из того, чем он вызвал раздражение русскоязычной части «прогрессивного человечества», может быть, если не вполне оправдано, то в значительной степени смягчено переопределением русского народа как невзрослого, рассмотренного в противостоянии с еврейским народом как взрослым.
Ретроград этот почти во всем соответствует тому описанию, которым Каганская объединила Достоевского и Солженицына: у него – мировая слава (в области математики), он предъявил деспотизму обвинения дантовской мощи (вместе с А. Сахаровым). В тюрьме он, правда, не сидел, но мог бы сесть, будучи верным соратником Сахарова в самые тяжкие времена. И, несмотря на все это, взял и грубо обманул наши ожидания: вместо приличествующего его статусу призыва к равенству и братству написал гнусный антисемитский опус «Русофобия». Вы уже поняли, о ком речь? Вы правы: именно о нем, об академике Игоре Шафаревиче. Именно его печально и позорно знаменитое творение я хочу опять подвергнуть анализу – не с целью осудить, а в надежде понять.
Надеюсь, никто не заподозрит меня в пристрастии к антисемитам, хоть, должна признаться, особой неприязни я к ним тоже не питаю – ведь я позволяю себе судить и оценивать другие народы, почему бы не позволить и им судить и оценивать мой? Тяжко это только в условиях политического неравенства, а если за моей спиной есть моя армия и флот, то пусть думают, что хотят.
В личном пристрастии к Шафаревичу меня тоже трудно заподозрить – суть не в том, что он обложил лично меня в «Русофобии», а в том, что он обложил меня неинтеллигентно. Привожу его слова:
«Пьеса «Утомленное солнце» (вообще замечательная клокочущей ненавистью к русским). Автор – Нина Воронель, недавний эмигрант из СССР (может быть, пьеса здесь и писалась?). В пьесе трус и негодяй Астров спорит с чистым, принципиальным Веней. Астров кричит:
– Ответственности вы не несете, но устраиваете нам революции, отменяете нашего Бога, разрушаете церкви!
– Да чего вы стоите, если вам можно революции устраивать! – парирует Веня».
На этой фразе Шафаревич основывает свое заключение о моей «клокочущей ненависти к русским». Не собираясь доказывать, что я не верблюд, я хочу обратить внимание читателей на его исключительно неинтеллигентную презумпцию, будто герои пьесы всегда выражают мнение автора. Какое счастье, что Шафаревич не татарский националист! Не то он, процитировав пьяного шкипера из другой моей пьесы «Воскрешенный»: «у татарок все поперек, – что у других баб вдоль, то у них поперек», – мог бы объявить, что я, томимая подсознательной завистью к Белле Ахмадуллиной, облыжно охаиваю татарских женщин.
И все же я хочу сопоставить тезисы «Русофобии» с тезисами книги Шульгина не с целью осудить, а все в той же надежде понять. Многое объединяет ретрограда-Шафаревича с ретроградом-Шульгиным – уж Каганская на моем месте обязательно нашла бы какое-то сложно-семантическое объяснение тому факту, что их фамилии начинаются на одну и ту же букву, родственную ивритскому «шин», с которой начинается ивритский «ШЕД», по-русски означающий – «бес, черт». Так мы и будем этих чертей величать – «2Ш». Оба черта во многом совпадающе-логичны и даже порой справедливы в оценке отдельных характерных черт как русских, так и евреев. И так же внезапно совпадающе-истеричны, когда вдруг теряют контроль над своими, до того вполне разумными, мыслями и дружно в унисон заходятся в кликушеском припадке антисемитского безумия.
Однако при ближайшем рассмотрении внезапность этих припадков оказывается иллюзорной, их можно заранее предсказать: они случаются, когда ущемляется общая душевная грыжа наших «2Ш» – их мучительный комплекс неполноценности. Можете судить сами:
«Г. Померанц открывает универсальную закономерность русской жизни – что в ней всегда ведущую роль играли нерусские: «Даже в романах русских писателей какие фамилии носят деловые, энергичные люди? Костанжогло, Инсаров, Штольц. Тут уж заранее приготовлено было место для Левинсона». Ставится даже такой мысленный эксперимент: если бы опричника Федьку Басманова перенести в наш век и сделать наркомом железнодорожного транспорта, то у него, утверждает автор, поезда непременно сходили бы с рельс, а вот «у мерзавца Кагановича поезда ходили по расписанию, как раньше у Клейнмихеля» (И. Ш.).
Ничего не скажешь, мерзавец Г. Померанц написал обидно, особенно для того, кто сам так думает – страдает, локти себе кусает, но в глубине души согласен, что мерзавец подметил правильно. А ведь какое было бы им облегчение, если бы объяснить непрактичность и неумелость русских просто их невзрослостью, детством – тогда и упреки в варварстве и жестокости звучали бы не так непереносимо: ну что взять с дитяти?
А если считать, что все народы одинаково взрослые, беднягам «2Ш», по милости таких Померанцев, становится до боли стыдно за свой народ, вот они и кликушествуют. И при этом в своих собственных, полных детских обид писаниях приводят примеры, которые при желании могли бы объяснить и оправдать их подопечных.
«…проверим наши сомнения на утверждении о жестокости, варварстве, специфическом якобы для всей русской истории. Как будто существовал народ, который в этом нельзя упрекнуть! В Библии читаем о царе Давиде: «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки…» А эллины?.. А Варфоломеевская ночь?.. И так было через всю историю» (И. Ш.).
Обидно Шафаревичу: евреям безобразия царя Давида прощают, французам Варфоломеевскую ночь не засчитывают, а на русских катят бочку и за царя Ивана, и за царя Петра, и за императора Иосифа Сталина. А ведь он, математик, мог бы заметить сходство между евреями эпохи царя Давида и французами эпохи Варфоломеевской ночи: они проходили тогда свой период детского садизма, период вождизма, период стремления втиснуть потную народную ладошку в сильную руку Отца. Тут Шафаревич прав: все народы через это проходили. Суть в том, что некоторые уже прошли. Ни к чему страдать и стыдиться за свой народ, даже если он еще в пеленках. Все там были.
Вот вырастет, поумнеет и себя покажет. Как это у Киплинга, когда он утешает семнадцатилетнюю девушку, тушующуюся в сравнении с опытной красоткой «под пятьдесят»: потерпи, через тридцать лет «ей будет восемьдесят пять, тебе – под пятьдесят». Беда (а может, счастье?) в том, что исторические процессы текут слишком медленно, там часы другие, исторические: «тридцать лет» Киплинга – это тридцать людских поколений, так что за одну жизнь не дождешься утешительных перемен.
Вот и воюют между собой радетели и хулители, согласные по сути и несогласные по недоразумению, но те и другие равно близорукие. Главное поле их битвы – вопрос о демократии. Все они сходятся на диагнозе: с демократическим устройством в России есть – и всегда был – непорядок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































