Текст книги "Содом тех лет"
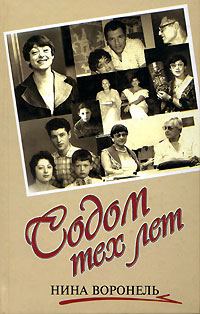
Автор книги: Нина Воронель
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
Тель-Авивская тусовка
Нам, антисоветским интеллигентам, взошедшим на диссидентских дрожжах шестидесятых, было не очень уютно в Израиле середины семидесятых. Во-первых, никто трепетно не ждал нашего появления. Простому израильскому народу было не до нас, – у него были свои проблемы, которые можно было разрешить только путем вымирания старшего поколения, эти проблемы взлелеявшего и под ними погребенного. Интеллигенция же израильская, охваченная пылкой мазохистской любовью к палестинцам, не питала к нам никаких симпатий – наш, уже вышедший здесь из моды, сионистский романтизм только раздражал ее и отпугивал.
Мы оказались в меньшинстве и в одиночестве. Нас было так мало, что единственная русскоязычная газета «Наша страна» очень быстро превратилась из ежедневной в еженедельную. И все же наш «заезд» – так, кажется, называется очередная группа детей, прибывшая в пионерский лагерь, – умудрился создать несколько журналов, толстых и тонких. Толстые журналы могли существовать только при условии постоянной финансовой поддержки, рассчитанной не столько на израильского читателя, сколько на рассеянную по миру русскоязычную эмиграцию. Два из них, наш «22» и «Время и мы» Виктора Перельмана, заслуженно попали в короткий список долгожителей, рядом с «Континентом», «Гранями» и «Новым журналом».
Тонкие журналы возникали пачками и тут же исчезали, как падучие звезды, – все, за исключением журнала «Круг», издаваемого под мудрым руководством Георга Морделя, истинного человека из народа, который точно угадывал вкусы и пристрастия читателя. Кроме бойкой разухабистой прозы, представленной в виде романов с продолжением, каждый номер «Круга» был снабжен четырехстраничным вкладышем, посвященным эротике. По понедельникам к нашей секретарше Мирьям, еженедельно получавшей «Круг», вереницей тянулись ее пожилые подруги – полистать новый номер. Каждая из них немедленно раскрывала вкладыш и жадно читала его от первой строки до последней, то и дело громко выкрикивая: «Боже, какая мерзость!» И становилось понятно, почему легкомысленный «Круг» занимает достойное место в списке долгожителей, рядом с высоколобыми «Гранями», «Континентом» и «22».
И становилось понятно, почему тиражи «Круга» не падают на общем фоне упадка русскоязычной печатной продукции. И можно было понять нашу подругу Нелли Гутину, члена редколлегии журнала»22» и автора провокативных супер-идеологических эссе, которая тайком от всех принялась строчить в «Круг» скабрезные сексуальные советы солдатам и солдаткам под псевдонимом Лоллипоп.
В конце концов мы ее разоблачили и простили – не исключать же было из редколлегии одну из лучших наших журналисток за вполне невинное стремление привлечь как можно больше читателей!
Увы, сегодня уже нет ни «Круга», ни «Времени и нас», но наш «22» продолжает выходить, регулярно как часы, четыре раза в год. Правда, в те светлые времена, когда советский читатель подвергался опасности тюремного срока за чтение «22» из-под полы, нам хватало денег издавать его шесть раз в год. Деньги эти охотно платили нам различные международные организации, контрабандно доставлявшие пачки журнала в СССР. Мы даже могли платить тогда пусть небольшую, но все же зарплату тогдашнему главному редактору Рафаилу Нудельману.
Для описания наших отношений с Рафаилом Нудельманом лучше всего подходит древняя шутка о человеке, в жизни которого было два счастливых дня – день, когда он женился, и день, когда он развелся. Поскольку день подписания нашего союза с Нудельманом за глубокой давностью помнится мне смутно, особенно ярко горит в моем сердце радостный день развода, завершившего собой 1993 год. Не знаю, выжил ли бы наш журнал без этого счастливого оборота событий, избавившего нас как от невыносимого состояния перманентной войны – совсем как у Станиславского с Немировичем-Данченко – так и от непосильного бремени ежемесячной зарплаты. Александр Воронель, по сути всегда бывший главным редактором «22», но только после ухода Нудельмана ставший им формально, от зарплаты отказался сразу – не столько из благородства, сколько из ясного понимания финансового положения журнала.
В далекие времена до падения Железного Занавеса в журнальном деле царил парадокс – деньги на издание найти было можно, зато читателя найти было гораздо трудней. Я имею в виду легального читателя, проживающего в нормальном обществе, а не подпольного бедолагу, рискующего свободой ради нескольких страниц убористого текста. Текст был убористым, чтобы вместить побольше материала, а подпольных читателей было не счесть – они и по сей день, уже живя в Израиле, с умилением вспоминают, как с трудом добывали истрепанные экземпляры «22» и жадно выискивали в них обрывки сведений о неизвестном мире, в который мечтали попасть.
Но мы о них ничего не знали, они жили в другом пространстве, и пути наши не пересекались. А мы вели странную призрачную жизнь литераторов, оторванных от своей языковой среды. К нашим социальным играм весьма подходило шутливое одесское проклятие: «Чтоб ты знал всех своих читателей!». Никогда не забуду литературный вечер в культурном тель-авивском клубе «Цафта», где выступали три поэта – Михаил Генделев, Анри Волохонский и Владимир Глозман, все три не какие-нибудь провинциальные рифмоплеты, а отличные профессионалы, со временем заслужившие признание в российской поэзии.
Чтобы привлечь публику, бедные поэты, знающие наперечет всех своих читателей, объявили, что вечер будет костюмированный. И каждый из них явился обряженный согласно своим представлениям о характере собственного творчества – Генделев в фуражке с лакированным козырьком и длинной, до пят, серой кавалерийской шинели, Глозман – во фраке, из под которого выглядывала крахмальная манишка и белый галстук-бабочка, а Волохонский – в облегающих его детские ножки алых рейтузах под пестрым, до колен, сарафанчиком, сшитым из обрезков разноцветной замши.
Когда они, чуть приплясывая, и дружно держась за руки, рысцой выбежали на сцену, немногочисленная публика, сплошь состоявшая из знакомых, взвыла от восторга, а я с трудом удержалась, чтобы не заплакать. Я ясно поняла, что в какие бы маскарадные костюмы мы ни рядились, мы все равно обречены. Мне вдруг стала очевидна вся призрачность нашего существования на никому не нужной березовой кириллице в этом, иссушенном постоянными хамсинами мире, где все правила жизни записаны квадратными древними письменами, бегущими справа налево.
Спастись можно было только срочным переходом на иврит, а это оказалось невозможным. Отважная Майя Каганская, не задумываясь, объявила, что через год она будет писать на иврите. С тех пор прошло уже около тридцати лет, однако ничего написанного ею на иврите мне увидеть не довелось. Да это, пожалуй, и к лучшему – израильская литература, хоть и очень молодая, но достаточно заносчивая, меньше всего нуждается в наших абсолютно чуждых ей российских закидонах, озвученных на убогом, с трудом вымученном иврите.
Итак, смертный приговор был подписан, но еще не приведен в исполнение – ведь на полную аннигиляцию нашей группы по законам Исхода положено было сорок лет скитаний по пустыне.
И тут случилось чудо – на нас, как из рога изобилия, посыпались многотысячные толпы беженцев из рухнувшей в одночасье Российской империи, еще за год до того казавшейся вечной.
Культурное и даже некультурное пространство израильского быта начало бурно заполняться русским языком. Быстро появились новые шутки типа «Скоро в Израиле введут второй официальный язык – иврит». Все новые и новые газеты возникали из небытия и заполняли стеллажи киосков печати. Еще быстрее, чем газеты, не только в столицах, но даже в самых отдаленных уголках нашей необъятной родины стали открываться русские книжные магазины, – смертный приговор откладывался на неопределенное время.
И на нашем горизонте замаячили перемены. Сперва в нашу редакционную дверь стали стучаться писатели – в основном, к сожалению, не прозаики, а поэты, – а вслед им мощными когортами начали прибывать читатели. Среди писателей, особенно среди поэтов, замелькали молодые лица, – это означало настоящий праздник, «именины сердца», ведь до того нам суждено было только стариться без всякой надежды на прибавление семейства.
И мы ринулись навстречу этим славным, молодым лицам. Мы даже готовы были простить им заносчивые их выкрики, будто до их появления здесь, в Израиле, никто не умел писать на хорошем русском языке. Мы не сомневались, что, после более близкого знакомства с нами, они сами поймут всю глубину своих заблуждений. Это, собственно, в конце концов и произошло, так что теперь уже трудно определить, кто когда приехал.
Но поначалу в воздухе запахло грозой – новоприезжие встретили нас настороженно, да и мы их, наверное, тоже – ведь их было много, а нас мало, и между нами лежали почти двадцать лет жизни в непересекающихся мирах. Ни о нас, ни о нашей борьбе они ничего не знали и знать не желали. Несмотря на свои внутренние разногласия и разобщенность, против нас они держались довольно сплоченной стаей, желающей вытеснить нас и забросать наши останки песком. Им хотелось быть первооткрывателями и первопроходцами, а мы торчали на их пути, как ржавые железные надолбы, не желая сдавать позиции, доставшиеся нам дорогой ценой.
Помнится, что некоторые заносчивые культурные лидеры нашего заезда, вроде Генделева и Каганской, по первопутку публиковали в газетах страстные филиппики, отрицающие какую то бы ни было ценность вновь прибывших. Отмежевываясь от их русской культуры и русского языка, культурологи-старожилы обзывали новичков беженцами, не ставящими перед собой идеологических задач. А безрассудная Нелли Гутина чуть не подверглась линчеванию, открыто назвав заезд 90-х «колбасной алией». Казалось, что назревает грандиозный кризис, ведь недаром говорят, что ссора – это обычное состояние эмигрантских общин, даже если они называются алией.
Но, к счастью, ссора не состоялась, нарыв со временем рассосался, частично благодаря нам. Случившийся так кстати уход Рафаила Нудельмана развязал руки Воронелю, который в размолвках с друзьями всегда предпочитал мирные решения. По его инициативе мы стали приглашать «новеньких» на заседания нашей редколлегии и терпеливо выслушивать их заносчивую похвальбу, приправленную наивными мечтами о мировом признании, ожидающем их в ближайшем будущем.
Тут я погрешила против истины, предположив, что они рассчитывали на грядущее признание для всего коллектива скопом. Ничего подобного – каждый провидел это признание только лично для себя. В собственном величии ни один из них не сомневался, с талантом и умением у каждого все обстояло отлично, просто раньше ему не давала развернуться советская цензура. Для полного совершенства всем им недоставало лишь мелочи – признания и денег. Этой мелочи многим из них не достает и по сей день.
Но сегодня они уже смирились – не с осознанием – упаси Бог! – скромности своей роли в мировой литературе, а с трудностями тернистого литературного пути. Тогда они были так полны распирающим грудь предчувствием своего грядущего триумфа, что всякое общение с ними высекало искры. Но мы твердо решили их приручить, и готовы были ради этого на разнообразные компромиссы, как с собой, так и с ними.
Не довольствуясь приглашением их к нам, мы стали напрашиваться на их посиделки. Однажды я предложила самой шумной группе «молодых гениев» прочесть на их еженедельном сборище какую-нибудь свою пьесу – для знакомства. Сборища эти проходили в крохотном душном кафе в южном квартале Тель-Авива – название кафе я запамятовала, помню только, что хозяин его был идишистским поэтом. Дело было летом, на улице стояла нестерпимая жара, в кафе было еще жарче, поскольку кондиционера там не предполагалось.
Когда мы с Воронелем вошли туда, все общество было уже в сборе. Выглядели они приятно – средний возраст от тридцати до сорока, лица выразительные, неординарные. После нескольких минут вступительного разговора, в котором самые дерзкие из них дали нам понять, какие они авангардисты и нарушители общепринятых канонов, я попросила Воронеля, который читает с листа гораздо лучше, чем я, прочесть мою пьесу «Змей едучий».
Пьесу я выбрала не случайно, а с расчетом на авангардизм слушателей, – она уже была отмечена общественным одобрением, дважды пройдя испытание на хороший вкус. Именно ее напечатал Михаил Шемякин в «Аполлоне» и именно ее с успехом поставил на сцене иерусалимского театра «Паргод» Слава Чаплин в первые годы нашей жизни в Израиле.
Воронель произнес первые реплики, принадлежащие паре пьяных, сидящих под вечер на берегу Волги:
«Е-мое, ты кефаль знаешь?»
«Да что кефаль? Разве это баба?»
«А какие у ей кишки, знаешь, е-мое?»
«Ну, знаю»
«А вот и не знаешь! Нет у нее кишок, е-мое! Нет, и все!»
«А мне кишки без надобности, мне лишь бы титьки на месте были»
«Нет, титек у кефали нет, е-мое, это точно!»
В кафе стало так тихо, что слышно было, как на кухне из крана капает вода. Я оглядела присутствующих авангардистов и нарушителей канонов – их славные нестандартные лица застыли в стандартной гримасе коллективного испуга. Их молчание не было знаком повышенного интереса, оно выражало обыкновенный обывательский шок – такого они слышать не привыкли. А ведь Саша успел прочесть только начало пьесы, он не добрался даже до завязки, не то, что до кульминации, происходящей вокруг волнующей темы – кто в камбузе кучу наклал?
Это было задолго до появления Владимира Сорокина на литературном горизонте, и я вдруг осознала, е-мое, что тема «кучи в камбузе» моим слушателям не по зубам. Сама не знаю, как это вышло, но, пораженная произведенным эффектом, я вынула у Саши из рук книгу:
«Не надо больше читать. Сегодня слишком жарко».
Удивительно, но он понял меня без дополнительных объяснений и безропотно закрыл книгу. Никто не возразил – авангардисты вздохнули с явным облегчением. Я, собственно не имею к ним претензий. Ведь они чуть ли не накануне пересекли границу недавнего Советского государства и понятия не имели, как сурово эта граница отделяла их от современного искусства. То, что казалось им смелым, уже давно ушло в прошлое, но они еще были не в состоянии это постигнуть. Им еще было невдомек, что своей смелостью они могут поразить только идишистского поэта, продающего пиво в кафе без кондиционера и не слишком хорошо владеющего русским языком.
С тех пор утекло много воды. Некоторые посетители того душного кафе, пройдя мучительный процесс инициации, вынырнули из стоячего болота бывшей советской литературы и продолжают ждать чуда, некоторые, отчаявшись, нашли себе другие утешительные занятия и перестали заноситься. Грозой в воздухе больше не пахнет – мы все оказались в одной не слишком устойчивой лодке, и никого уже не интересует, кто первый сказал «Э!».
Да и российская литература сегодня сама стала потихоньку выбираться из постсоветского болота. Кроме того, ржавые ворота бывшей империи со скрипом раздвинулись, отворив для нас узенькую щелочку, и наши книги медленно, по одиночке, начали просачиваться на русский рынок. Так что для нас на повестке дня встал другой важный вопрос – как не пропустить момент и на ходу вскочить в литературный российский поезд, пока он еще не набрал скорость?
Казалось бы – что нам в этом чужом поезде? Для того ли мы уехали оттуда, чтобы снова стучаться в эту негостеприимную дверь? Но тут-то и вся закавыка – мы, может быть, уехали не для того, но не смогли уехать от себя. Как сказала когда-то востроязыкая Нелли Гутина: «Мы все больны кириллицей».
Да дело не только в нас с нашими болезнями, дело в нашем израильском читателе, который живет только сведениями оттуда, оценками оттуда, табелью о рангах оттуда. И кто не достучался до тамошних издательств, тому не полагается ничего и на израильской книжной бирже. Вот вам и парадокс!
Раздел пятый. Сквозь очки – моя портретная галерея
Менахем Бегин
Мне не приходилось встречаться с Бегиным лично, я только однажды посетила его сверхскромную квартирку в скромной блочной пятиэтажке в одном из скромных микрорайонов Иерусалима. Это случилось, когда Бегин, будучи премьер-министром, жил в официальном доме премьер-министров Израиля, а его личную квартиру показывали знатным гостям иерусалимского мэра Тэдди Колека в виде десерта к великолепному званному обеду в ресторане отеля «Кинг Дэвид». В число знатных гостей я затесалась случайно, спрятавшись от охраны за знатными спинами четы Синявских, гостивших тогда в Иерусалиме по приглашению Тэдди Колека. Я бы ни за что на этот званный обед не пошла, если бы Синявские, не знавшие ни одного иностранного языка, не умолили меня слезно не бросать их на съедение многоязыкой толпе гостей иерусалимского мэра.
Квартирка Бегина ни на что не притязала – крошечная прихожая, у окна гостиной убогий кофейный столик под кружевной салфеткой времен моей бабушки, вдоль стен шаткие полки с бесхитростными безделушками. Зато она честно отражала истинное лицо своего хозяина. Этот человек никогда не рисовался и всегда был равен самому себе. Он выглядел паяцем и произносил свои речи с невыносимым для моего интеллигентского слуха пафосом, но со временем мне пришлось признать, что его влияние на окружающих не соответствует его почти карикатурному облику. Как оказалось, за неприглядным фасадом скрывалась неподдельная сущность, способная преодолеть все препятствия, создаваемые обликом.
Где-то в конце семидесятых мы получили два приглашения – на субботний прием у Ханоха Бартова, тогдашнего председателя Союза писателей Израиля, а назавтра – на свадьбу сына нашей уборщицы Ознат, шофера автобусного кооператива «Дан».
Спешу напомнить, что главным событием тех лет был драматический государственный переворот, ознаменованный переходом власти из рук рабочей партии в руки Ликуда, во главе которого стоял тогда Менахем Бегин.
Переворот этот случился непредвиденно и непредусмотренно. Никогда не забуду разговор с преданным членом рабочей партии Нехемией Леваноном, руководителем отдела борьбы за выезд советских евреев при канцелярии премьер-министра. Где-то за месяц до судьбоносных выборов 1977 года Александр Воронель спросил Нехемию, кто станет во главе его ведомства в случае победы Ликуда. В ответ Нехемия засмеялся.
«Видно, что вы недавно приехали в страну, Саша, – сказал он, с жалостью глядя на наивного Воронеля. – Рабочая партия не может проиграть, она стоит у власти уже семь каденций. И так будет всегда». Наивным оказался не Воронель, а Нехемия: рабочая партия проиграла выборы с грандиозным разрывом – в первый, но не в последний раз.
И в пятницу мы отправились в гости к тем, кто оплакивал этот проигрыш. Дело было в середине июля, и Тель-Авив, как положено, задыхался во влажной июльской жаре. Однако, несмотря на жару, на просторной террасе писательской квартиры в Рамат-Авиве собрались все сливки израильской левой интеллигенции – литераторы, художники, музыканты. Туалеты дам отличались простотой дорогих бутиков, хорошо сочетающейся с униформно непритязательной оправой их очков, представляющей два плоских металлических кружочка, перпендикулярно поддержанных тонкими прямыми заушинами без прикрас.
Прихлебывая бледно-зеленый огуречный суп-коктейль из бокалов, напоминающих тюльпаны на длинных стеблях, гости разбились на шумные оживленные группы. От группы к группе порхало одно и то же крылатое слово «Бегин» – оно взлетало над головами, перекрывая все другие слова, то в сольном исполнении, то в слаженном дуэте, а то и в многоголосом хоре: «Бегин, Бегин, Бегин!»
Как они его НЕ любили! Эта нелюбовь придавала пряный привкус каждой ложке супа, каждому глотку вина. Когда с супом было покончено, нам подали овальные тарелочки дымчатого стекла с бананами, жаренными в сум-суме, и кто-то из гостей – кажется, знаменитый автор сценария скандального фильма «Хирбет-Хиза» – воскликнул:
«Может, хватит о Бегине7 Для чего мы здесь собрались? Чтобы говорить об этом чудовище?»
И несколько женских голосов охотно поддакнули:
«И впрямь, разве других тем нет?»
«С этой минуты – ни слова о Бегине!»
«Ни слова!»
«Договорились – ни слова о Бегине!»
Над террасой нависло тягостное молчание. Внизу во дворе дети играли в мяч. Совсем близко шуршало море. Кто-то откашлялся, и опять стало тихо. Исполнительница популярных песен пожаловалась, что жарко, и все радостно закивали: да, да, жарко, летом всегда жарко. Это откровение, не слишком оригинальное, но верное, полностью исчерпало интерес присутствующих к беседе.
С минуту было слышно только позвякивание ложечек о дымчатое стекло тарелочек, а потом чей-то голос выкрикнул: «Если бы не Бегин!», два других подхватили: «Ах, если бы не Бегин!.»; и вслед им хор снова зазвенел восторженно и слаженно: «Бегин, Бегин, Бегин!.»
И опять стало хорошо, шумно и весело, вино приобрело прежний терпкий привкус и с моря потянуло долгожданной прохладой.
Назавтра, в субботний вечер, мы посетили тех, кто внес свой вклад в победу Ликуда. В свадебном зале на пятьсот персон все выглядело совершенно иначе, чем на вчерашней элегантной приморской террасе – там веселился простой народ, «амха». Шоферы автобусного кооператива «Дан» были настоящими мужчинами – они предпочитали блондинок. В ответ на что их жены, торжественно облаченные в разноцветные бальные платья из тафты и атласа, вытравили волосы перекисью водорода и униформно превратились в блондинок, ничуть не смущаясь почти поголовной смуглостью кожи и чернотой глаз.
Огромный зал был тесно уставлен столами, накрытыми белыми скатертями, на столах без всяких ухищрений были сервированы народные закуски – питы, хумус, тхина, маслины. Блондинки и их мужья с аппетитом поедали эту вкусную снедь из простых фаянсовых тарелок и запивали «Кока-колой», «Спрайтом» и «Кинли», которые обильно наливали в незатейливые стаканы из пластиковых бутылок.
Жених был наряжен в белой чесучовый костюм и в белую кипу, невеста – в белое нейлоновое платье и в белый нейлоновый веночек, отороченный белой нейлоновой вуалью.
Это была истинно народная свадьба – выйдя в туалет, я никак потом не могла найти нужный мне зал. В двух соседних залах идентичные пергидрольные блондинки, сидя за идентичными столиками, уставленными хумусом и тхиной, пили «Кинли» за здоровье абсолютно идентичных женихов в белых чесучовых костюмах и за их невест в белых нейлоновых платьях и в белых нейлоновых веночках, отороченных белыми нейлоновыми вуалями.
По завершении свадебной церемонии белый жених взял белую невесту за руку и торжественно повел ее по проходу между столиками. Грянула музыка, и гости, словно сговорившись, дружно ударили в ладоши, поразительно слаженно скандируя одно и то же слово – из-за музыки сразу нельзя было разобрать, какое. Но постепенно музыка вошла в русло равномерного однообразия, и хор гостей, перекрывая ее, зазвучал, как языческая молитва.
Нет, они не чествовали новобрачных и не желали им долгих лет, – страстно и самозабвенно хлопая в ладоши, скандировали они: «Бегин, Бегин, Бегин!»
И лица у них сияли той же благодатью, какая осеняла лица представителей израильской интеллектуальной элиты на вчерашней рамат-авивской террасе над морем. Знак – положительный или отрицательный – был не существенен. Существенна была сила эмоций, которые возбуждало само произнесение имени этого неприглядного, низкорослого человека, не соответствовавшего никаким эстетическим канонам.
Впрочем, насчет эстетических канонов я, возможно, ошибаюсь. Как-то мы с Сашей направлялись в гости к гостившей в Израиле американской профессорской чете. Увидев Сашу, надевшего по этому торжественному поводу галстук, наш трехлетний внук Игаль восторженно захлопал в ладоши и воскликнул:
«Саша, какой ты красивый! Совсем как Бегин!»
Личность Бегина была так весома, что злые языки утверждают, будто Голда Меир запланированно умерла именно в тот день, когда ему должны были вручать Нобелевскую премию мира. Великая старуха даже жизни не пожалела, только бы не дать сопернику насладиться торжественной церемонией – ведь ему пришлось покинуть праздничную трибуну и срочно отбыть в Иерусалим на ее похороны.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































